Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Тегеран завершил обсуждение с Москвой условий вывоза обогащенного урана, реализация ожидается скоро, но не ранее доклада МАГАТЭ по спорным вопросам, сообщил во вторник журналистам замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Он напомнил, что Россия приняла решение по снятию ограничений и теперь "мы можем совершать эту сделку с Россией".
"Обсуждения уже завершились между Ираном и Россией, и сделка будет скоро совершена. Но как вы знаете, вывоз нашего обогащенного урана из Ирана может быть только после заключения PMD (возможным военным измерениям — ред.) в совете управляющих. То есть, хотя контракт уже заключен между РФ и Ираном, мы должны ждать закрытия части по PMD", — сказал он.
На данный момент безусловно ясно одно: фронтовой бомбардировщик ВКС России сбит в сирийском небе вблизи турецкой границы, и это для российско-турецких отношений очень плохо. А еще Турция – член НАТО, поэтому черная тень ложится на весь альянс.
В Брюсселе собирается внеочередное заседание Североатлантического совета на уровне послов в связи с инцидентом с российским самолетом в Сирии. НАТО тщательно следит за инцидентом с российским самолетом в Сирии и поддерживает контакты с турецкими властями.
Однако с высокой вероятностью можно прогнозировать противоречия в Брюсселе, ведь мировое сообщество на Ближнем Востоке борется с ИГ, а не с Россией.
Средства объективного контроля
Владимир Путин заявил, что инцидент с Су-24 в Сирии выходит за рамки борьбы с терроризмом, и более того: "Наш самолет был сбит над территорией Сирии ракетой "воздух-воздух" с турецкого самолета F-16. Упал на территорию Сирии в 4 километрах от границы с Турцией.
Находясь в воздухе, когда на него была совершена атака, на высоте шесть тысяч метров на удалении одного километра от турецкой территории. В любом случае наши летчики и наш самолет никак не угрожали Турецкой Республике".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что оценивать российско-турецкие отношения преждевременно – до выяснения всех обстоятельств.
Еще раньше Минобороны РФ сообщило, что фронтовой бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Сирии, предположительно, в результате обстрела с земли. Самолет находился на высоте 6 тыс. м, и все время полета – исключительно над территорией Сирии, что зафиксировано средствами объективного контроля. Пилоты катапультировались, их судьба и обстоятельства инцидента уточняются.
В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что сбитый самолет – российский Су-24. И если турецкая сторона не имела отношения к данному факту, зачем что-либо заявлять?
Одновременно турецкий премьер Ахмет Давутоглу дал указание МИД страны проконсультироваться с НАТО и ООН по поводу событий на границе с Сирией. А также провел срочные встречи с руководством генштаба.
Ранее премьер Турции пообещал, что вооруженные силы Турции будут без колебаний сбивать самолеты в случае нарушения ими воздушных границ страны. Вероятно, политические декларации кто-то воспринял слишком буквально. Во всех случаях военная угроза со стороны РФ в Турции отсутствует.
Представитель МИД Великобритании заявил: "Самолет российских воздушных сил был сбит около турецко-сирийской границы. Мы срочно выясняем дальнейшие детали. Очевидно, что это очень серьезный инцидент".
Средства массовой информации
Впечатляет неловкая оперативность информационного прикрытия немотивированной агрессии со стороны Турции. По данным CNN Turk, упавший на границе Турции и Сирии истребитель нарушил турецкое воздушное пространство и был сбит турецкими ВВС. Якобы истребитель вошел в воздушное пространство Турции, и самолеты F-16 сбили нарушителя в рамках принятых в республике правил реагирования. Нестыковка в том, что самолет упал на территории Сирии.
Турецкая газета Hurriyet Daily News со ссылкой на турецких военных сообщила, что два военных самолета приблизились к турецкой границе и получили предупреждения, затем один из них был сбит. Турецкая журналистка, сотрудница CNN TÜRK Эзги Канкуртаран, по сообщениям ряда СМИ, отметила, что один из пилотов сбитого над территорией Сирии бомбардировщика Су-24 погиб, а второй находится в плену у сирийских туркменов, проживающих на приграничной территории. И опять накладка: приблизились к границе – не значит нарушили границу.
И лишь The Washington Post безапелляционно утверждает: "Турецкий военный самолет во вторник сбил российский Су-24, который, как заявила Турция, нарушил ее воздушное пространство возле границы с Сирией". Однако над Сирией – серьезная космическая группировка, и средства объективного контроля наверняка объективнее СМИ: бомбардировщик Су-24 был атакован в 1 км от границы с Турцией, а упал в 4 км от нее, в Сирии.
Сбив российский бомбардировщик, Турция попала в неловкую дипломатическую ситуацию, утверждает редактор британского телеканала Sky News. Дело осложняется и тем, что самолет упал на территории, подконтрольной антиасадовской оппозиции. Это область в районе гор Кызылдаг, где проживают сирийские туркмены, и идут бои между оппозиционерами и силами армии САР.
Российские бомбардировщик Су-24 был сбит в регионе, где никогда не было террористов "Исламского государства", сообщает немецкий телеканал N24. Корреспондент отмечает, на этой территории располагаются лишь противники Асада, и об этом турецкие власти неоднократно предупреждали Кремль. Таким образом Анкара показала Москве серьезность своих намерений.
До 24 ноября применение в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов не фиксировалось. Впрочем, носители оружия, будь то сирийские повстанцы в приграничных с Турцией районах или турецкие ВВС – имеют общий центр управления и координации. По мнению военных экспертов, турецкие спецслужбы заранее собирали информацию о маршрутах российских бомбардировщиков и ждали подходящего момента для удара.
Полагаю, что сбитый Су-24 – яркое свидетельство присутствия в Сирии скрытых интересов Турции и сотрудничества ее властей с боевиками, которые транспортируют в Турцию дешевую нефть. А российская группировка ВКС мешает. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что террористы, позиции которых находятся в Сирии, ежедневно теряют на черном рынке полтора миллиона долларов из-за воздушной операции ВКС РФ (это эквивалент 60 тысяч тонн нефти в сутки).
Трагические события в небе Сирии разворачиваются на фоне сближения России с Ираном и завершившихся 23 ноября встреч президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Рухани. Обсуждались элементы взаимодействия в борьбе с международным терроризмом и сложная ситуация в Сирии.
Россия не оставит этот мрачный инцидент без ответа, что наверняка приведет к дальнейшему усилению напряженности между Россией и Западом.
Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Россия и Китай в атомной энергетике на Ближнем Востоке
Дмитрий Бокарев
В настоящее время страны Ближнего Востока уделяют большое внимание развитию своих ядерных программ. Это понятно: развитие атомной энергетики свидетельствует об экономических успехах страны и способствует повышению ее международного авторитета, не говоря уже о выгоде для внутреннего рынка, получаемой от производства электроэнергии на местных АЭС.
Однако в области АЭ ни одна из ближневосточных стран не может обойтись без помощи других государств, а те государства, которые эту помощь окажут (деньгами или технологиями), несомненно, приобретут в регионе большое влияние на длительный срок. Одним из главных претендентов на это влияние является Российская Федерация, которая намерена принимать участие в развитии АЭ Ирана, Саудовской Аравии, Турции, Египта и Иордании. В мире РФ занимает 3-е место по производству атомной энергии для собственного потребления. Укрепление позиций на международном рынке ядерных технологий — один из российских приоритетов.
США же проявляют недальновидную позицию, игнорируя ближневосточный рынок атомной энергетики. АЭ может стать мощным рычагом для воздействия на ближневосточный регион, имеющий важнейшее стратегическое значение. Инвестиции в атомные проекты не приносят сиюминутных прибылей, но после завершения строительства АЭС могут приносить колоссальные доходы. Необходимость дальнейшего обслуживания станций и обучения персонала создает предпосылки для установления длительных отношений между страной, на чьей территории строится АЭС, и страной-строителем. Однако Америка не спешит вступать в игру, о чем свидетельствует недавнее прекращение лицензии Экспортно-импортного банка США, который отвечал за распространение глобального коммерческого присутствия США в мире, и отказ Конгресса ее продлить. Таким образом, единственным полноценным конкурентом России на Ближнем Востоке в области АЭ становится Китай.
Китай начал выходить на этот рынок недавно: освоив строительство АЭС у себя (не без российской помощи), он начал активно предлагать свои услуги на экспорт. При этом КНР предлагает очень выгодные кредиты на строительство. Китайские предложения стали интересны также благодаря новым китайским технологиям — например, ядерному реактору третьего поколения «Hualong One», который в 2014 г. был протестирован и одобрен МАГАТЭ. Сейчас такие реакторы строятся в КНР, и уже планируется их возведение в Аргентине и Пакистане.
Угроза того, что КНР потеснит Россию на рынке ядерных технологий на Ближнем Востоке, вполне реальна. Об этом свидетельствует ситуация с Ираном. До сих пор Россия и Иран были связаны глубокими и длительными партнерскими отношениями по АЭ. В 2010 г. российский «Атомстройэкспорт» окончил строительство Бушерской АЭС, а весь период действия санкций против Ирана «Росатом» поставлял на нее топливо. Помимо этого скоро планируется сооружение еще одной АЭС и дополнительных энергоблоков к Бушерской АЭС.
Однако еще до окончания санкций иранские чиновники посетили Пекин, где провели переговоры с китайской стороной. Было решено, что Китай также будет строить АЭС в Иране. В июле 2015 г. Иран и КНР заключили соглашение о строительстве двух АЭС на юге Ирана, в прибрежной зоне. При этом от сотрудничества с Россией Иран в будущем планирует отказаться: те работы, контракты на которые уже подписаны, станут последними. Россия была к этому готова и уже давно искала новых клиентов среди ближневосточных государств, которые с Ираном соперничают. Главная цель РФ — заполучить как можно больше контрактов на строительство АЭС, даже если условия на первый взгляд не самые выгодные. Так, проект АЭС «Аккую» в Турции, строительство которой «Атомстройэкспорт» планирует начать в 2016 г., предварительно оценивается в 20 млрд долларов, и 93% финансирования берет на себя Россия. Позже планируется продать турецким инвесторам до 49% акций. Критики проекта считают это чрезмерной нагрузкой для российского бюджета и призывают проект пересмотреть. Вряд ли это случится – на сегодняшний день это главный российский проект на Ближнем Востоке.
Тем не менее геополитические игры требуют партнерства, которое может быть очень неожиданным. Недавно Россия решилась на необычный шаг, воспользовавшись помощью собственного конкурента. Так, в Иордании проект «Росатома» будет реализован с участием Китая. Контракт на сооружение первой иорданской АЭС достался «Росатому» в 2013 г. Тогда планировалось, что российская сторона профинансирует половину проекта стоимостью $10 млрд. Однако осенью 2015 г. было решено, что около 50% затрат возьмет на себя Китай. До сих пор Пекин финансировал только те проекты «Росатома», которые осуществлялись в Китае. Как видно, опасаясь конкуренции, «Росатом» стремится как можно скорее занять свободные ниши на рынке ядерных технологий, даже если приходится прибегать к помощи своего соперника.
В феврале 2015 г. президент России Владимир Путин совершил визит в Египет, во время которого было подписано соглашение о строительстве АЭС с «Росатомом». Это будет первая коммерческая АЭС в Египте. В июне 2015 г. Россия подписала соглашение о сотрудничестве в области АЭ с Саудовской Аравией, которая после этого обязалась вложить в российскую экономику $10 млрд. Это может показаться странным, поскольку отношения России и Саудовской Аравии до сих пор были довольно напряженными. Вероятно, Саудовская Аравия пошла на это из-за сложного положения, в котором она сегодня оказалась. Угроза со стороны «Исламского государства» — террористической организации, запрещенной в РФ, конфликт с Йеменом, усиление Ирана — главного соперника Саудовской Аравии, и охлаждение отношений с давним союзником — США, все это заставило ее искать поддержки у России.
Таким образом, с одной стороны, конкуренция — равно как и партнерство — между Россией и Китаем в отношении экспорта услуг в области атомной энергетики стремительно набирает ход. С другой стороны, в глобальной перспективе, это приведет к необходимости разрабатывать более совершенные технологии ради получения более выгодных контрактов. С третьей стороны, от подобного положения дел выиграют именно те регионы, которые станут ареной этой борьбы. Ведь если будут строиться новые АЭС, то начнут поступать инвестиции, создаваться рабочие места, развиваться инфраструктура. И кто знает: возможно, с повышением уровня жизни местного населения начнется долгожданная стабильность на Ближнем Востоке.
Молодые гиды из 30 стран мира: «Благодаря программе «Новое поколение» у нас появилось желание изучать Россию дальше и использовать это в своей работе»
По приглашению Россотрудничества в рамках программы «Новое поколение» группа молодых гидов из Франции, Германии, Австрии, Кипра, Ирана, Грузии, Армении и других стран прибыла в Москву для участия в работе XVII конгресса Европейской федерации ассоциаций туристических гидов.
Как отметили в Россотрудничестве, максимально реализовать профессиональные ожидания участников проекта, формируя программу делегации «Нового поколения» в тесном взаимодействии с партнерами, специализирующимися на конкретных областях, - приоритет программы. «Здорово, что в этот раз в Россию приехали гиды из разных стран, которые смогут потом многим людям рассказать о том, что увидели в Москве за эти дни», - сказали организаторы.
Традиционно в ходе конгресса наряду с официальной программой, включающей в себя пленарные заседания, панельные дискуссии, семинары, мастер-классы, воркшопы и тематические конференции, прошла серия экскурсий, во время которых делегаты ознакомились с туристическими возможностями столицы.
Участники программы «Новое поколение», на некоторое время превратившись из гидов в туристов, посетили Московский Кремль, Красную площадь, Третьяковскую галерею, Троице-Сергиеву Лавру, музей космонавтики, высоко оценили архитектуру московского метро и других достопримечательностей столицы.
Наибольшее впечатление на гостей столицы произвела русская классическая живопись девятнадцатого века. Они затеяли даже своеобразную игру — воспроизводили в лицах сюжеты особенно впечатливших полотен, таких как «Три богатыря» Виктора Васнецова, «Боярыня Морозова» Ивана Сурикова, «Иван Грозный и сын его Иван» Ильи Репина.
В рамках международной конференции гидов и экскурсоводов «О совершенствовании системы туристско-экскурсионного обслуживания» коллеги из разных стран обсудили вопросы организации работы ассоциации гидов в других странах, повышения квалификации и переподготовки специалистов в этой области и многие другие.
По словам участников программы «Новое поколение», проект Россотрудничества не только открыл им новую интересную Россию, но и помог подняться на новые ступени мастерства. «Мы много увидели здесь как туристы и многое поняли как профессионалы. У нас была замечательная возможность обменяться опытом с коллегами из разных стран. Мы профессионально выросли за эти 4 дня в Москве», - отметили молодые гиды.
Самое главное – у ребят появилось желание изучать дальше историю и культуру России. «Российское культурно-историческое наследие произвело на нас очень сильное впечатление, мы хотим использовать это в своей дальнейшей работе при организации туров из наших стран в вашу страну. Теперь мы точно знаем, что это реально интересно», - поделились впечатлениями участники программы.
Европейская федерация гидов (FEG) была основана в 1986 году в Париже и на сегодняшний день объединяет более 200 тыс. профессионалов. Российская ассоциация гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров была принята в FEG в качестве постоянного члена Федерации в декабре 1991 года. Тогда же Ассоциация стала полноправным участником Всемирной ассоциации гидов-переводчиков.
В ходе плановой проверки инспекторами Департамента экономического развития Дубая рынков были выявлены факты продажи оскорбляющей национальные чувства сувенирной продукции, выпущенной к празднованию 44 годовщины создания федеративного государства, которая ежегодно отмечается 2 декабря.
В ходе обычной проверки дубайского рынка инспекторами Департамента экономического развития Дубая были обнаружены места оптовой продажи оскорбляющей ОАЭ как государство продукции, замаскированной под сувенирную продукцию к празднованию Национального дня.
На появившемся в сети Интернет видео, которое было записано инспекторами, можно увидеть разного вида сувенирную продукцию с несоответствующими действительности надписями. Так, на сувенирных флагах, магнитах, платках, футболках вместо надписи «Объединенные Арабские Эмираты» размещена «Объединенные Персидские (Иранские) Эмираты». Также инспектора подтвердили изъятие автомобилей премиум-класса с нанесенной символикой, оскорбляющей государство.
Департамент Экономического развития Дубая призвал резидентов во время празднования в общественных местах использовать сувенирную продукцию с правильными надписями и символикой, а также сообщать о любом факте распространения пропагандистских материалов, оскорбляющих правительство или ОАЭ как государство.

И все же по заветам Неру
Индийская внешняя политика: приоритеты и императивы
Нандан Унникришнан – вице-президент и ведущий научный сотрудник исследовательского фонда Observer (ORF).
Ума Пурушотхаман – научный сотрудник ORF.
Резюме Индии удалось сблизиться с Вашингтоном, не расстроив Москву и не вызвав раздражение Пекина. Стратегия «быстрых свиданий» с великими державами успешна. Но если отношения между ними будут ухудшаться, Дели окажется перед сложным выбором.
Больше года прошло после судьбоносных выборов, в результате которых к власти в Индии пришла правая националистическая Бхаратия джаната парти (БДП). Впервые за несколько десятилетий страной управляет однопартийное правительство. Эту победу считают заслугой лидера БДП премьер-министра Нарендры Моди. Однако нельзя недооценивать разочарование общества в предыдущих коалиционных правительствах во главе с ИНК.
От нового кабинета ожидают решения проблем бедности, проведения политических и социальных реформ. Такие ожидания, возможно завышенные, есть не только у индийских граждан. Большинство международных партнеров также возлагают надежды на успехи Индии, рассчитывая, что ее подъем повысит стабильность и безопасность в мире.
Безусловно, правительство Моди добавило энергии во внешнюю политику. Премьер-министр совершил несколько важнейших визитов в соседние страны, встречался с лидерами великих держав и участвовал в многосторонних форумах.
Тем не менее анализ этих усилий и потенциальных изменений требует рассмотрения внутренних вызовов, стоящих перед Индией. В конечном итоге внешняя политика призвана защищать и расширять национальные интересы страны, которые определяются внутренними целями.
Вызовы
Сегодня в Индии проживает треть бедного населения планеты. По данным ООН и индийского правительства, это 21,9% (определяется по доходу менее 1,25 доллара в день). По данным Всемирного банка – 23,6%. Это приблизительно 300–400 млн человек. Кроме того, в Индии наибольшее число недоедающих детей – треть от общемирового уровня.
От других стран Индию отличает «молодежный бугор» или «демографический дивиденд». 65% населения – люди в возрасте до 35 лет. Во многих отношениях это позитивный тренд, но правительство сталкивается с проблемой занятости. Большинство исследований показывает, что Индии в ближайшие 20 лет необходимо создавать 12–15 млн рабочих мест. В то же время за последние 10 лет занятость в сельхозсекторе (традиционно крупнейший работодатель) снижается на 5 млн в год. Учитывая темпы создания рабочих мест предприятиями вне сельскохозяйственной отрасли с 2000 г. (ВВП рос почти в три раза быстрее занятости), Индии нужен экономический рост (исключая сельское хозяйство) на уровне 14% в год, чтобы справиться с безработицей. В противном случае демографический дивиденд может превратиться в демографический кошмар и станет причиной политического недовольства и социальных потрясений.
Правительству также придется пересмотреть систему образования, чтобы подготовить молодежь для работы в условиях новой экономики. Сегодня молодые люди, получившие образование, не обладают навыками для новых типов работ, возникающих в экономике. Кроме того, в ближайшие 20 лет Индии нужно будет обеспечивать высококачественным образованием дополнительно 7 млн детей ежегодно.
Еще один вызов – развитие инфраструктуры, ключевой компонент экономического роста. Индию тянут назад старые автомобильные и железные дороги, энергосистема и отсутствие канализации. По мнению экспертов, нехватка адекватной инфраструктуры снижает рост ВВП на 1–2% в год. По некоторым оценкам, ежегодные инфраструктурные инвестиции не должны быть меньше 200 млрд долларов. Кроме того, с 2014 по 2050 гг. численность городского населения возрастет на 404 млн, что еще больше увеличит нагрузку на существующую инфраструктуру.
Доступность медицинских услуг – еще один вызов. Миллионы людей не получают медицинской помощи. Продолжительность жизни в Индии – 65 лет, ниже, чем в соседней Шри-Ланке (75), Бангладеш и Непале (69,4) и других странах с аналогичными экономическими показателями.
Изменение климата – дополнительный вызов, с которым приходится справляться. Растет необходимость существенного сокращения выбросов от ископаемых видов топлива. Стоит отметить, что в стране не завершилась промышленная революция XX века. Развитый мир требует сокращения выбросов, однако не готов даже на коммерческой основе облегчить переход Индии на новые технологии, что позволило бы ей стать первым государством, прошедшим индустриализацию без преобладающего использования ископаемого топлива.
Задачи, перечисленные выше не по степени своей значимости, масштабны и вряд ли будут решены сразу, однако их решение станет главным импульсом для правительства. Этот импульс будет оказывать определяющее воздействие на то, как Дели смотрит на мир.
Стратегия правительства Моди заключается в стимулировании роста в производственном секторе под лозунгом «Сделано в Индии», что обеспечит не только устойчивый экономический рост, но и занятость. Стабильная экономическая ситуация последних трех лет помогла Индии опередить Китай и стать самой быстрорастущей экономикой в мире. Однако только стабильный долгосрочный рост позволит преодолеть мириады внутренних вызовов и играть роль ведущей державы в международных делах.
Приоритеты внешней политики
Все эти задачи предстоит решать в мире, претерпевающем бурные геополитические изменения. Появляются новые акторы, старые переживают упадок, и главный вызов заключается в том, как со всем этим справиться, одновременно продвигая собственные национальные интересы. Следует отметить, что мир никогда еще не был столь полицентричным. Единственное возможное сравнение – это Европа начала XIX века, когда существовало несколько держав, ни одна из которых не являлась достаточно мощной, чтобы победить остальных. Таким образом, внешняя политика Индии помимо внутренних императивов будет определяться тем, как вообще функционирует мир с многочисленными центрами силы, даже если они будут развиты асимметрично.
Сегодня Индия придерживается политики «соседи прежде всего». Об этом свидетельствует выступление Нарендры Моди в Шри-Ланке, где он заявил: «Будущее любой страны зависит от состояния ее соседей. Будущее, о котором я мечтаю для Индии, также является будущим, которого я бы хотел для всех наших соседей». В Дели понимают, что если вокруг страны будет неспокойно, поставленных целей достичь не удастся. Также очевидно, что Индия должна стать локомотивом развития всего региона. С этой целью она привлекает соседние государства к активному сотрудничеству. Первым шагом стало приглашение глав правительств стран Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК) на церемонию присяги кабинета Моди в мае 2014 года. Тема более тесного взаимодействия, укрепления кооперации и расширения контактов доминирует в отношениях с соседями. Важно, что такая политика нашла у них отклик.
С Бангладеш Индия ратифицировала долго откладывавшееся соглашение о сухопутной границе, поставив точку в пограничном споре. Ранее страна приняла вердикт международного арбитража по морской границе. Бангладеш, в свою очередь, активно сотрудничает с Дели не только в экономике, но и в борьбе с терроризмом. Укрепились отношения с Бутаном, именно эту страну Моди посетил первой. В ходе визита он пообещал, что Дели продолжит оказывать содействие Бутану, поможет в развитии информационных технологий и системы образования, построит еще одну ГЭС. Гидроэнергетика – основа экономического сотрудничества двух стран. Индия пообещала закупать 10 тыс. МВт энергии к 2020 г., таким образом Бутан может стать единственным государством Южной Азии, имеющим положительное сальдо торгового баланса с Дели.
Моди стал первым за 17 лет индийским премьером, посетившим Непал. Стороны договорились обновить договор о мире и дружбе 1950 г., а также другие двусторонние соглашения. После 23-летнего перерыва в 2014 г. состоялось заседание совместной комиссии (учреждена в 1987 г.) по укреплению взаимопонимания и продвижению взаимовыгодного сотрудничества в экономике, торговле, транзите грузов и использовании водных ресурсов. Кроме того, Индия незамедлительно откликнулась на разрушительное землетрясение в Непале.
Моди также стал первым индийским премьер-министром, посетившим Шри-Ланку почти за 25 лет. Дели и Коломбо договорились об увеличении торговли и расширении сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Подписано соглашение по мирному атому. После того как президент Шри-Ланки Махинда Раджапаксе проиграл выборы, в Индии несколько уменьшилась настороженность из-за связей Коломбо и Пекина, и отношения улучшились. Моди посетил все соседние страны, кроме Пакистана и Мальдив.
Индия также продвигает инициативу ББИН (Бангладеш, Бутан, Индия, Непал), которая направлена на расширение сотрудничества в использовании водных ресурсов, объединении энергосетей, создании мультимодальных транспортных узлов, грузовой и торговой инфраструктуры. Недавно четыре государства подписали автомобильное соглашение, которое облегчит трансграничное передвижение товаров и людей и станет первым шагом на пути к интеграции региона.
На недавнем саммите ШОС Моди попытался возобновить контакты с Пакистаном, согласившись провести переговоры на разных уровнях, в том числе между советниками по национальной безопасности. Однако премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, по-видимому, не смог заручиться поддержкой этой идеи у себя дома. Несколько инцидентов с перестрелкой на линии контроля продемонстрировали недовольство пакистанской армии, а серия терактов в Индии не улучшила атмосферу для диалога. Переговоры советников по национальной безопасности отменили в последнюю минуту, когда Пакистан начал настаивать на встрече с лидерами сепаратистов в Дели. В ближайшем будущем напряженность между двумя странами, скорее всего, сохранится, но правительство Моди решительно настроено на диалог. Индия преодолела свою «пакистанофобию». Она считает Исламабад источником экстремизма в регионе, но она идет вперед. Пакистан же по-прежнему видит в Индии экзистенциальную угрозу.
Дели следует развивать многосторонние связи, чтобы закрепить за собой роль гаранта безопасности в Индийском океане. Премьер-министр Моди посетил Шри-Ланку, Маврикий и Сейшелы и сформулировал новый подход во время визита на Маврикий.
Важнейшим партнером Индии становятся Соединенные Штаты. Справедливо отметить, что страны никогда раньше не были настолько близки. Улучшение отношений обусловлено четырьмя факторами:
общность ценностей;
активное участие в политике обеих стран индийской диаспоры в США. Учитывая ее многочисленность, индийский средний класс и элиты инвестируют значительные средства в двусторонние отношения;
Соединенные Штаты рассматриваются как важный игрок с точки зрения экономического развития Индии. Передача американских производственных линий и технологий, в особенности высоких технологий, пойдет на пользу Индии и поможет ей стать экономикой XXI века;
в ближайшее время США, безусловно, останутся доминирующей державой в асимметрично полицентричном мире, и прочные отношения с ними вполне соответствуют амбициям Индии как великой державы.
Стратегическое сближение двух стран подчеркивается в концепции по Индийскому и Тихому океану, которая была опубликована во время визита Обамы в Индию в январе 2015 года. В документе сформулирована позиция по Южно-Китайскому морю и отношение Дели к происходящим там инцидентам. Стороны имеют единую точку зрения на морскую безопасность и считают Индийский и Тихий океаны единым стратегическим пространством.
Соединенные Штаты – главный гарант безопасности в Индийском океане, учитывая наличие баз на острове Диего-Гарсия и на Ближнем Востоке, альянсы с Филиппинами, Австралией и другими странами. Таким образом, партнерство с США и их индо-тихоокеанскими союзниками – Японией, Южной Кореей и Австралией – пойдет на пользу глобальным устремлениям Индии и поможет ей стать важным фактором безопасности в Индийском океане.
Экономическое взаимодействие тоже растет. Сегодня США являются вторым крупнейшим торговым партнером Индии. Расширение сотрудничества в сфере обороны, торговля и контакты между людьми, безусловно, будут способствовать дальнейшему стратегическому сближению. Однако предстоит сделать еще многое, чтобы реализовать потенциал.
На данном этапе Индия не готова участвовать в сдерживании Китая вместе с Вашингтоном. У Дели непростые отношения с Пекином. КНР – крупнейший торговый партнер Индии, но баланс существенно смещен в пользу Китая. Территориальный спор остается неразрешенным, периодически происходят столкновения. Дели воспринимает Пекин как главную угрозу своей безопасности. В индийской политической и экономической элите продолжаются дебаты о том, как строить отношения с КНР. Существует два основных подхода. Один лагерь считает Китай угрозой и выступает за наращивание военной мощи и даже за альянс с Вашингтоном против Пекина. Другой – за укрепление экономических связей, поскольку это привлечет китайские инвестиции, обеспечит взаимозависимость двух стран и таким образом снизит вероятность вооруженного конфликта между ними. В этом смысле показателен недавний обмен визитами премьер-министра Моди и председателя Си Цзиньпина, свидетельствующий о постепенном преодолении некоторых мировоззренческих проблем.
В 2014 г. Китай предложил 30-процентное финансирование индийских инфраструктурных проектов. В ходе визита в Индию Си Цзиньпин пообещал инвестиции в размере 20 млрд долларов в ближайшие пять лет. Многие индийские эксперты не доверяют КНР и сомневаются в ее благих намерениях, другие утверждают, что страны имеют общие устремления, поэтому должны сотрудничать на различных площадках.
Двойственная позиция по Китаю проявляется в том, как Индия ведет себя в таких форумах, как БРИКС, ШОС и недавно созданный Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Считается, что на этих площадках КНР если не доминирует, то задает тон. Но у Индии есть собственные стратегические основания для участия в данных структурах. По мнению экспертов, взаимодействие на подобном уровне помогает смягчить трения в двусторонних отношениях и избавиться от взаимных подозрений.
Кроме того, Индия, как и Китай, стремится переписать глобальные правила и не хочет видеть мир, в котором доминирует одно государство. Пекин и Дели стремятся реформировать существующий мировой порядок так, чтобы он отражал нынешнюю динамику сил. Они жаждут смены статуса – не следовать установленным правилам, а создавать их.
Третьи важные двусторонние отношения – с Россией. Между Индией и Россией нет серьезных разногласий по какому-либо из стратегических вопросов. Доверие двух стран друг к другу беспрецедентно для международных отношений. Россия предоставила Индии военные технологии и вооружения высочайшего уровня, включая атомные подводные лодки, ни одна страна ни делала ничего подобного. Россия и Индия также совместно производят оружие.
Дели и Москва взаимодействуют и координируют политику не только в двустороннем, но и в многостороннем формате – в составе БРИКС, ШОС и РИК. Совпадают взгляды на вопросы глобального управления и по поводу необходимой реформы соответствующих институтов, которые обе стороны видят как реликт эпохи после Второй мировой войны.
Россия возвращается на Ближний Восток в качестве крупной державы, демонстрируя волю и способность проецировать силу. Это означает, что Дели и Москва неизбежно должны активно сотрудничать в этом регионе. Там работает 7 миллионов индийцев, и объем средств, перечисляемых ими в Индию, достигает 40 миллиардов долларов в год. Более того, на Ближний Восток приходится 70% импорта энергоносителей. В отличие от большинства столиц Дели пошел дальше в том, что касается поддержки России в связи с украинским конфликтом. Но при этом Индия оказалась в ловушке между двумя принципами – нерушимость границ и право на самоопределение. Кроме того, у Дели есть собственные опасения по поводу «опосредованной» или «гибридной» войны.
Изменения в мире осложняют проверенное временем российско-индийское партнерство, для сохранения которого требуются новые подходы. Лидеры двух стран должны прежде всего найти решение проблемы, связанной с недостаточными экономическими связами. В эпоху все более глобального мира будет очень трудно сохранить и приумножить отношения без мощного экономического фундамента.
Стратегическую озабоченность Дели вызывает укрепление партнерства Китая и России. Советско-индийские отношения начинали когда-то строиться на антикитайских позициях. СССР давал Индии рычаги давления на Китай и США. Без советской помощи Индия не нанесла бы поражение Пакистану и не создала бы Бангладеш в 1971 году. Ранее в Дели полагали, что российско-китайское партнерство имеет свои пределы, и воспринимали его как «брак по расчету». Теперь кажется, что украинский кризис заставил Россию перейти Рубикон в отношениях с Китаем.
В ближайшем будущем Москва, вероятно, будет придерживаться неписаных обязательств по непредоставлению Пекину военных технологий, способных нарушить баланс сил между Индией и Китаем. Но индийское руководство не уверено, что упомянутое правило будет действовать и дальше. Кроме того, согласившись на интеграцию Евразийского экономического союза с китайским проектом «Один пояс, один путь», Россия дала сигнал, что готова признать за Китаем роль первого среди равных в Центральной Азии, отмечают некоторые влиятельные индийские наблюдатели.
Однако, учитывая масштабы российско-индийского военно-технического партнерства и беспрецедентный уровень доверия, преждевременно говорить, что у отношений нет будущего или что они неважны. Руководству обеих стран нужно искать пути сохранения связей, которые позволят выйти за рамки военного сотрудничества и вписать Россию в хронику развития Индии. Если этого не произойдет, отношения утратят значимость, и теоретически их место может занять Европа.
Отношения Индии с Евросоюзом – преимущественно экономические. Согласно концепции Моди, Европа может сыграть определенную роль в реструктуризации экономики. Поэтому, находясь с визитом во Франции и Германии, он прилагал усилия, чтобы привлечь европейские инвестиции. Индия обладает тесными связями с отдельными странами – Францией, Германией, Великобританией, а вот с институтами Евросоюза дела обстоят не столь успешно. Ситуация может измениться, если ЕС займется сферой безопасности.
Японское направление на подъеме. «Стратегическое партнерство» превратилось в «особое стратегическое глобальное партнерство». Япония участвует в развитии инфраструктуры, на две трети финансировала строительство метро в Дели через кредит агентства международного сотрудничества, также оно выделило половину из 7,7 млрд долларов, необходимых на проект грузового коридора Дели–Мумбаи. Токио принимает участие в создании индустриального коридора Дели–Мумбаи, строительстве дорог и различных городских проектах.
Дели и Токио договорились развивать сотрудничество в сфере безопасности через институционализированный диалог, совместные морские учения и, возможно, даже передачу военного оборудования. В 2014 г. Япония пообещала удвоить объем прямых инвестиций в Индию до 3,5 трлн иен в ближайшие 5 лет. Кроме того, планируется в два раза увеличить число работающих со страной японских компаний. Дели вступила в три новых трехсторонних диалога с участием Японии – с США и Австралией.
Индия также начала «действовать на востоке», чтобы укрепить связи с Юго-Восточной Азией. Планируется развивать взаимодействие с АСЕАН и продвигать двусторонние отношения с ее членами. Основными направлениями, вероятно, станут Вьетнам, Сингапур, Индонезия и Мьянма.
Ближний Восток важен для Индии с нескольких точек зрения. Во-первых, это крупнейший источник энергоресурсов. Оттуда поступает около 70% импорта нефти. Во-вторых, уже упомянутый фактор трудовой миграции и денежных переводов домой. В-третьих, любые потрясения в регионе могут пагубно сказаться на Индии. Распространение экстремизма и насилия – одна из основных причин обеспокоенности Индии. В-четвертых, некоторые страны Ближнего Востока являются крупнейшими торговыми партнерами Индии. Например, ОАЭ, которые недавно посетил Моди. Эти страны, учитывая размеры их национальных фондов, способны стать источником так необходимых инвестиций. Поэтому Индия будет укреплять отношения с этими государствами, включая военное сотрудничество.
После отмены санкций особенно значимым партнером для Дели станет Иран. Его значение будет расти, поскольку он окажется важным торговым коридором в Центральную Азию, Афганистан и Европу. Иран может быть коридором для поставки углеводородов, не только собственных, но и из России и Центральной Азии в Индию.
Правительство Моди также укрепляет отношения с Израилем – важным поставщиком военного оборудования и технологий в Индию.
Заключение
В Дели осознают необходимость мира не только у своих границ, но и глобально, поскольку взаимосвязанность и взаимозависимость ведут к тому, что нестабильность в одном месте эхом прокатывается по всему миру. Российский государственный деятель Петр Столыпин сказал в 1907 г., что России для достижения величия нужно «20 лет покоя – внутреннего и внешнего». Индия в схожей ситуации. Ей необходимы ресурсы, технологии и улучшение отношений с международными партнерами. Именно поэтому страна проводит многовекторную внешнюю политику, укрепляя отношения со всеми крупными державами, а также соседями. Осознавая реалии многополярного мира и многополярной Азии, Индия стремится строить двусторонние отношения со всеми ключевыми игроками. Индийцы уверены – прогресс на одном направлении открывает возможности и на других.
Поэтому, хотя нынешняя стратегическая элита занята демонтажом наследия Джавахарлала Неру, внешняя политика осуществляется в полном соответствии с его концепцией. В 1947 г. Неру сказал: «Мы предлагаем избегать переплетений блоков и групп держав, осознавая, что именно так мы служим не только делу Индии, но и делу мира во всем мире. Такая политика иногда заставляет участников одной группы полагать, что мы поддерживаем другую группу. Каждое государство ставит на первое место собственные интересы в проведении внешней политики. К счастью, интересы Индии совпадают с мирной внешней политикой и сотрудничеством со всеми прогрессивными государствами. Неизбежно Индия будет сближаться с теми странами, которые дружественны ей и готовы сотрудничать».
То, что Индии удалось сблизиться с Вашингтоном, не расстроив Москву и не вызвав раздражение Китая, доказывает успешность стратегии «быстрых свиданий» с великими державами. Однако если отношения между великими державами будут и дальше ухудшаться, Индия окажется перед сложным выбором.

Сирийский гамбит Москвы
Риски и перспективы первой «заморской» операции России
Сергей Минасян - доктор политических наук, заместитель директора Института Кавказа (г. Ереван).
Резюме Важнейшей особенностью сирийской кампании стала стратегическая внезапность и сохранение Россией военно-политической инициативы в глобальном измерении. Во второй раз за два года Кремль застал всех врасплох.
Российская операция в Сирии стала важнейшим мировым событием с серьезными последствиями как в региональном, так и в глобальном измерении. Кампания только разворачивается, и чтобы оценить ее динамику и перспективы, важно понять контекст «сирийского гамбита» Москвы и ключевые военно-политические аспекты.
Региональный контекст и политические предпосылки
Ключевую роль в принятии российским властями решения о военном вовлечении в сирийский конфликт, по всей видимости, сыграли события весны 2015 г., когда после потери Идлиба на севере страны и ряда других районов позиции режима Асада катастрофически пошатнулись.Неудачи не только деморализовали военную машину и иррегулярные группировки лоялистов, но и вызвали волнения в руководстве многочисленных и конкурирующих сирийских спецслужб. Падение Пальмиры с демонстративным разрушением ее исторических памятников символизировало победу исламистов на фоне продолжающегося падения духа сирийской армии и силовых структур.
К сентябрю 2015 г. насущно стоял вопрос действий на упреждение. Москве необходимо было предпринять что-то до того, как международная коалиция и ее региональные союзники, в первую очередь Турция, решатся на создание бесполетной зоны над Сирией. Как предполагали в Москве, появление там даже сравнительно ограниченной зоны рано или поздно привело бы к воздушным ударам с предсказуемым исходом, как это было в Ираке и Ливии.
Турецкий фактор играл важную роль в эскалации сирийского кризиса. Анкара – один из наиболее непримиримых противников Асада, турецко-сирийская граница является основным путем снабжения умеренной оппозиции, а демпинговая контрабанда нефти через турецкую территорию – важный источник финансирования ИГ. С июля 2015 г. турки приступили к собственной воздушной кампании в Сирии под лозунгами борьбы с терроризмом, однако наносили удары в основном не по исламистам, а по отрядам курдских ополченцев.
После того как Россия начала операцию, выяснилось, что амбиции и неоосманские иллюзии Анкары в сирийском конфликте не вполне соответствуют ее возможностям. Попытки Москвы договориться с Анкарой о взаимодействии оказались бесплодными. В результате Турции пришлось терпеть переброску российских вооружений и снаряжения в Сирию через собственные черноморские проливы, будучи ограниченной положениями Конвенции Монтрё, а также отказаться от идеи создания бесполетной зоны. Залеты на турецкую территорию российских истребителей, начавших боевые вылеты на севере Сирии, вызвали еще более нервную реакцию в Анкаре. Свое недовольство она продемонстрировала «случайным» нарушением в начале октября 2015 г. турецкими военными вертолетами границ Армении, охраняемых российскими пограничниками.
Отсутствие договоренностей с Турцией Москва компенсировала ситуационным региональным военным альянсом с Ираном и Ираком. Непосредственно перед началом российской операции в Багдаде был создан четырехсторонний координационный центр, ответственный за сбор и анализ текущей военной информации, и даже, по всей видимости, совместное оперативное планирование. Учитывая очевидную зависимость центрального иракского правительства от США, участие Багдада было для Москвы принципиальным.
Символическим подтверждением намерений сторон стал удар по целям на севере Ирака и Сирии российских крылатых ракет 3М14 «Калибр», выпущенных 7 октября 2015 г. с кораблей российской Каспийской флотилии. Политический смысл запуска российских аналогов американских «Томагавков», пролетевших над территориями Ирана и Ирака, заключался в демонстрации общности целей этих стран и России. Другим косвенным итогом запуска ракет именно из юго-западной акватории внутреннего Каспийского моря стало недвусмысленное предупреждение о недопустимости дальнейшей эскалации военно-политической ситуации в том числе и на Кавказе.
Другому важному военно-политическому игроку в регионе – Израилю – приходится выбирать между плохим и худшим – сохранением поддерживаемого Ираном и ливанской «Хезболлой» режима Асада и победой радикальных исламистов. Москве, кажется, удалось обеспечить относительный нейтралитет Тель-Авива. В рамках переговоров между Путиным и Нетаньяху в Москве состоялась также встреча главы израильского Генштаба с российским коллегой, они обсудили координацию военной деятельности. Одно из основных условий израильской стороны – современное российское вооружение не должно попасть в руки шиитской «Хезболлы». Москва, видимо, это гарантировала.
Очевидно, что в отличие от Израиля Соединенные Штаты, их европейские союзники, а также арабские монархии отрицательно отнесутся к любым шагам, направленным на спасение режима Асада. В случае успеха российской операции позиции Вашингтона на Ближнем Востоке могут быть поставлены под сомнение, но пока он выжидает, оценивая масштабы и последствия неожиданного предприятия России. В Америке не скрывают надежд, что «стратегическое терпение» США позволит России глубже завязнуть в сирийском кризисе с возрастающими для Москвы потерями.
Однако арабские монархии (как и Турция) не могут даже в краткосрочной перспективе игнорировать действия Москвы. Они способны существенно усилить поддержку сирийских оппозиционеров, вплоть до открытых поставок самых современных видов оружия, которые в состоянии повлиять на ход противостояния.
Гражданская война в Сирии и международная коалиция
Гражданская война в Сирии идет уже несколько лет. Результаты ее как с политической, так и с гуманитарной точек зрения катастрофичны для страны, ее государственности и населения.
Сирийская война и авиационная кампания США и многонациональной коалиции против «Исламского государства» с первого взгляда являются некими «клонами» предыдущих конфликтов в Ираке, Афганистане и Ливии. Однако есть две отличительные черты.
Во-первых, более четкие и усиливающиеся признаки «войны по доверенности» (proxy-war), как в классических региональных конфликтах сверхдержав периода холодной войны. Масштабы и состав участников противостояния сравнимы с украинским конфликтом.
Во-вторых, большая насыщенность боевой техникой, а также значительная численность противостоящих сил. Правительственные войска и поддерживающие их иррегулярные отряды использовали в боях сотни, если не тысячи единиц бронетехники, артиллерийских систем, десятки самолетов и боевых вертолетов.
В свою очередь, десятки тысяч сирийских оппозиционеров и исламистов к осени 2015 г. уже обладали сотнями единиц легких пикапов и внедорожников, оснащенных пулеметами, малокалиберными орудиями и минометами, а также современными противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК). В некоторых отрядах оппозиции и в частях ИГ имелось небольшое количество бронетехники и даже тяжелой артиллерии, захваченной в боях. Ни в Ливии, ни даже в постсаддамовском Ираке (до 2013 г.) противостояния регулярных и проправительственных сил с инсургентами не приобретали таких масштабов.
До начала гражданской войны Сирия обладала одним из крупнейших танковых арсеналов не только на Ближнем Востоке, но и в мире. Одних только танков Т-72 (сирийская армия явилась первой, кто использовал их в боях в долине Бекаа в 1982 г.) различных модификаций насчитывалось порядка 1700–1800 единиц. Всего же численность танков, с учетом находящихся на хранении Т-54/55 и Т-62 ранних модификаций, доходила до 4500 единиц. Плюс к этому – тысячи единиц БМП, БТР, другой легкой бронетехники. Ракетно-артиллерийский парк насчитывал тысячи единиц ствольной артиллерии, в том числе – сотни 122-мм 2С1 и 152-мм 2С3 самоходных гаубиц. Дамаск располагал также существенным арсеналом тактических и оперативно-тактических ракет советского производства или их иранских и северокорейских клонов, претендуя по уровню боеспособности чуть ли не на статус региональной военной сверхдержавы. Хотя на Большом Ближнем Востоке к началу XXI века вряд ли можно было кого-то удивить наличием оперативно-тактических ракет «Скад» и тактических «Точка-У», ракетный потенциал Сирии отличался большим количеством не только пусковых установок, но и ракет к ним.
Однако все это в прошлом. Значительная часть бронетанкового парка, равно как артиллерии, утрачена в тяжелых боях, вышла из строя или действует на пределе эксплуатационных возможностей. Существенные потери понесли также ПВО и боевая авиация. Причем не столько в результате противодействия несуществующей у ИГ или оппозиционеров боевой авиации или действий их слабой ПВО (в основном состоящей из ПЗРК и малокалиберных 23-мм автоматических пушек ЗУ-23 на джипах и пикапах). Большинство потерь ВВС Сирии связано с захватом авиабаз в северных и восточных районах страны, а также возросшей уязвимостью взлетно-посадочных полос и стоянок к обстрелам с земли минометами и пускам ПЗРК по взлетающим/садящимся самолетам и вертолетам. Только в танках и легкой бронетехнике общие боевые и эксплуатационные потери составили порядка 60–70% от довоенной численности.
Особых возможностей восполнить потери в военной технике и вооружении у сирийской армии после начала гражданской войны не было. Поступало преимущественно стрелковое и легкое вооружение, боеприпасы, запасные части, а также некоторое количество устаревшей техники с российских военных складов. Исключение составляли поставки из России современных противокорабельных ракет, а также зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь», которыми, как предполагается, и был сбит в июне 2012 г. в районе Латакии турецкий разведывательный самолет RF-4E Phantom. Существенные поступления российских вооружений в Сирию (в том числе – современных образцов) возобновились лишь перед самым началом военной кампании осенью 2015 года.
Сирийская армия понесла серьезные потери в личном составе. По различным оценкам, численность правительственной армии сократилась более чем в два раза по сравнению с довоенным периодом. В результате утраты значительной части территории (к сентябрю 2015 г. верные Башару Асаду силы контролировали менее четверти страны) существенно сузилась мобилизационная база комплектования силовых структур. Этому также способствовала все большая «секторизация» конфликта: усиление ожесточенности противостояния между суннитским большинством и алавитским меньшинством. Хронический недостаток людских ресурсов – одна из серьезнейших проблем для режима Асада. Компенсировать ее кроме как за счет внешних источников (ливанская «Хезболла», шиитская милиция из Ирака, иранские «добровольцы» и бойцы КСИР, а также прибывающие при поддержке Ирана отряды шиитов из Афганистана и Пакистана) сирийские власти, видимо, уже неспособны.
С другой стороны, средневековая жестокость исламистов сделала союзниками режима небольшие отряды ополчения из числа этноконфессиональных меньшинств. Таковыми, например, являются отряды ополчения армян в Алеппо и в приграничном Кесабе, или друзов из прилегающих к границам Израиля и Ливана южных районов страны, до последнего времени пытавшихся сохранять относительный нейтралитет в борьбе между преимущественно алавито-баасистскими силами и джихадо-салафитскими и умеренно-исламистскими группировками. Серьезной роли в военном балансе внутрисирийского противостояния они не играют, но решать некоторые локальные военные задачи, а также поддерживать стабильность на местах могут.
Гражданское противостояние в Сирии не ограничивается боевыми действиями асадовских лоялистов против ИГ, «Джабхат ан-Нусры», других разношерстых группировок радикальных исламистов, а также умеренных оппозиционеров. Одним из наиболее драматических и кровавых эпизодов стали бои в курдонаселенном городе Кобани (Айн-эль-Араб) на сирийско-турецкой границе с сентября 2014 г. по февраль 2015 года. Выдержав несколько атак исламистов, захвативших значительную часть осажденного города, курды лишь при активной поддержке союзной авиации смогли очистить город и его окрестности. Сирийские курды, имеющие значительный опыт вооруженной борьбы, пользуются поддержкой США, что вызывает резкое неприятие Турции. Тем не менее к середине октября 2015 г. появилась информация о возможном альянсе курдских отрядов народной самообороны (YPG) с прозападными оппозиционерами для наступления на столицу ИГ – Ар-Ракку, при поддержке авиации США и их союзников. Уже в начале ноября с помощью американской авиации курдам удалось занять город Синджар на севере Ирака, перерезав дорогу, связывающую Ракку с Мосулом: масштабы «прокси-войны» с элементами иррегулярной «гибридной войны» расширяются.
Военный потенциал оппозиции и исламистов по мере разрастания гражданского конфликта формировался различными способами. Иногда это могли быть небольшие отряды в несколько сотен или даже десятков бойцов, оснащенных преимущественно легким и стрелковым вооружением, минометами, мобильными РСЗО и малокалиберными автоматическими пушками и пулеметами на базе легких пикапов и джипов. Они контролируют один-два городка или поселения или же парочку кварталов в Алеппо. Группировки могли сливаться в более крупные альянсы, зачастую при содействии внешних спонсоров или в связи с изменением военно-политической конъюнктуры, однако с легкостью вновь распадались на мелкие отряды.
К примеру, если в 2011–2012 гг. многие неисламистские группировки формировались под знаменами децентрализованной Свободной сирийской армии, то по мере разрастания конфликта и возникновения новых группировок оппозиционные силы становились более раздробленными и разобщенными. Создавались и активизировались радикальные суннитские и джихадистские группировки (до гражданской войны не представленные в Сирии ни политически, ни институционально, маргинализированные и находящие в глубоком подполье), нацеленные не только на свержение Асада, но и на установление исламистского режима, такие как «Джабхат ан-Нусра», «Ахрар аш-Шам», «Лива ат-Таухид», «Сукур аш-Шам», увеличилось число иностранных боевиков.
Если группировка пользовалась поддержкой внешних игроков (Соединенных Штатов, Турции, Иордании, арабских монархий Персидского залива), то ее арсенал не ограничивался только трофейными вооружениями. Он мог включать и более современные виды оружия как западного, так и китайского производства, переданные Турцией и арабскими странами. Например, у наиболее удачливых группировок имелись ПТРК TOW-2 американского производства, китайские ПТРК H-9 и ПЗРК FN-5, современные средства связи.
Методы действий оппозиционеров и ИГ также менялись по мере развития конфликта. На начальном этапе большое влияние имели джихадисты и иностранные боевики из Ирака, научившие сирийцев использовать террористов-смертников, подрывы зданий и автомобилей, самодельные взрывные устройства. По признанию «Джабхат ан-Нусра», именно от иракских джихадистов начиная с 2012 г. ее боевики переняли опыт использования бомб и смертников. Постепенно от чисто террористических действий перешли к партизанским и полурегулярным способам ведения борьбы. Боевики начали действовать по единому замыслу, комбинируя применение мобильных отрядов на легких бронеавтомобилях и оснащенных крупнокалиберными пулеметами и автоматическими пушками пикапах с использованием гусеничной бронетехники, реактивной и ствольной артиллерии. От небольших отрядов в несколько десятков человек, зачастую объединенных по региональному или родственно-племенному признаку, некоторые группировки выросли до крупных многотысячных объединений со смешанным комплектованием, включая добровольцев из различных мусульманских стран, с налаженной системой связи, управления, снабжения, рекрутирования новых бойцов.
К осени 2015 г. ИГ удалось сформировать разветвленные структуры, насчитывающие, по различным оценкам, многие десятки тысяч человек, вооруженных не только легким и стрелковым оружием, но и минометами и гранатометами. Только после стремительного захвата Мосула в руки исламистов попали около 2300 бронеавтомобилей и большое количество легкого и стрелкового оружия. Имелась также и бронетехника, в том числе танки. У иракской армии отбили американские танки М1А1М «Абрамс» (правда, достоверной информации об их использовании исламистами в боях не было: скорее всего, они были уничтожены последующими ударами авиации США и их союзников), не говоря уже о десятках танков Т-54 и Т-55 советского производства и их китайских аналогов. Артиллерийское вооружение в основном включало легкие РСЗО (преимущественно 107-мм китайские и турецкие клоны советской 16-ствольной РПУ-14), однако захвачены также несколько 122-мм РСЗО БМ-21 «Град». Исламистам удалось даже применять в боях трофейную тяжелую артиллерию, например, 155-мм американские гаубицы М198 при осаде Эрбиля – которые и стали летом 2014 г. первыми целями американской авиации в начавшейся операции «Непоколебимая решимость».
Сетецентричная структура джихадистских группировок, в первую очередь таких крупных, как ИГ и «Джабхат ан-Нусра», а также децентрализованная система командования существенно затрудняют и до бесконечности продлевают любого рода вооруженную борьбу с ними. Например, потери, понесенные одной из группировок ИГ, существенно не сказываются на способности исламистов продолжать активные и успешные боевые действия.
Важным элементом гражданской войны в Сирии и Ираке стала продолжающаяся второй год военно-воздушная операция «Непоколебимая решимость». По официальным данным Пентагона, с августа 2014 г. по 6 октября 2015 г. ВВС и палубная авиация ВМС США и их союзники совершили около 57 843 боевых и вспомогательных вылетов, нанеся 7323 удара. При этом свыше 2622 ударов нанесено по позициям боевиков на территории Сирии. В результате иракским правительственным войскам и курдскому ополчению (пешмерге) удалось несколько ослабить наступательный порыв ИГ в Ираке. Однако авиаудары коалиции не сломили боевой натиск исламистов, уже в мае 2015 г. захвативших большую часть провинции Анбар, а также ее центр – город Эр-Рамади. Бои за этот город, равно как и ряд населенных пунктов северного Ирака, активно велись правительственными войсками, поддерживающим их курдским и шиитским ополчением, а также отрядами иранских КСИР и после начала российской военной кампании в Сирии.
По данным Центрального командования армии США (CENTCOM), к 8 октября 2015 г. авиация многонациональных сил уничтожила 126 танков, 354 бронеавтомобиля, 561 базовый лагерь, по 4 тыс. зданий и огневых позиций исламистов, 232 объекта нефтяной инфраструктуры – всего поражена 13 781 цель. Несмотря на большую интенсивность боевых вылетов, существенно снизить активность исламистов не удалось, хотя к лету 2015 г. иракские правительственные войска и курдская пешмерга в целом стабилизировали фронт в Ираке. Воздушная поддержка коалиции была критически важна особенно в боях иракских и сирийских курдских ополчений с исламистами в районе Эрбиля, Киркука и Кобани. Наряду с этим ход операции «Непоколебимая решимость» продемонстрировал существенное техническое преимущество многонациональной коалиции (по сравнению с последующей российской военной кампанией). Большая часть вылетов осуществлялась с использованием управляемого и высокоточного оружия, более эффективных систем связи, управления, разведки и целеуказания. При этом, в лучших традициях ближневосточных войн последней четверти века, кроме авиации активно использовались также КРМБ «Томагавк» ВМС США.
С лета 2014 г. активизировались действия иракской авиации, чему во многом способствовали поставки из России современных (но хорошо знакомых иракским летчикам по опыту эксплуатации предыдущих модификаций) боевых самолетов и вертолетов. В Ирак прибыло до 15 штурмовиков Су-25, 12 ударных вертолетов Ми-35М, планируется поставить до 40 новейших ударных вертолетов Ми-28НЭ. В рамках масштабных оружейных контрактов на сумму до 4,2 млрд долларов в Ирак из России также поставляются многоцелевые истребители Су-30, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», ЗРПК «Панцирь», ПЗРК «Игла» и другое ВВТ. Поставки российских вооружений (наряду с авиаударами многонациональной коалиции и помощью соседнего Ирана) позволили стабилизировать ситуацию на линии фронта после понесенных летом 2014 – весной 2015 гг. тяжелых поражений и создать благоприятную основу для военно-политического взаимодействия Ирака с Россией.
Особенности развертывания сирийской кампании России
Российская кампания в Сирии беспрецедентна как по масштабам, так и по методам технической реализации. Именно поэтому возникают сомнения в успехе заявленных (или предполагаемых) целей.
Принято считать, что это первая военная кампания России за пределами постсоветского пространства после развала СССР. Если не считать конфликты на территории бывшего Союза, военная активность России за ее границами за последние четверть века имела достаточно ограниченный и специфический характер – от миротворческих операций до борьбы с морским пиратством. Сирийская кампания пока преимущественно ограничивается использованием боевых самолетов и вертолетов российских ВКС. В последний раз советские/российские летчики участвовали в боях на Ближнем Востоке в начале 1970-х годов. Речь идет о так называемой «Войне на истощение» между Египтом и Израилем, когда советские летчики и зенитчики были дислоцированы в районе Синайского канала для содействия египтянам в отражении ударов израильской авиации (операция «Кавказ»).
Участие военспецов и регулярных частей Советской армии на стороне Сирии в боевых действиях в долине Бекаа в 1982 г. имело более локальный характер. В конфликте ограниченное участие приняли лишь военные советники, преимущественно – зенитчики. В 1983–1984 гг. в ходе операции «Кавказ-2» в Сирию были переброшены два советских зенитно-ракетных полка, оснащенных новейшими на тот момент зенитно-ракетными комплексами дальнего действия С-200. Однако они лишь обеспечивали противовоздушную оборону Сирии после разгрома израильтянами сирийской ПВО летом 1982 года.
Таким образом, нынешняя сирийская кампания – первое за почти 40 лет комбинированное (военно-морское и военно-воздушное) проецирование российской военной мощи за тысячи километров от границ России. При этом, хотя на начальной стадии в информационном поле выделялась военно-воздушная составляющая (в конце концов, боевые действия начались и продолжительное время велись лишь ВКС РФ), но и роль военно-морского флота была весьма значимой.
На начальном этапе т.н. «Сирийский экспресс» включал преимущественно масштабную транспортировку военной техники, боеприпасов, топлива, а также личного состава из черноморских портов в Сирию. Использовались как штатные суда Черноморского флота (в том числе десантные корабли и морские танкеры, а также вспомогательные суда), так и суда обеспечения из состава Северного и Балтийского флотов. Однако уже через две недели после начала военной операции (в середине октября 2015 г.), с ростом объемов снабжения группировки в Сирии, а также увеличением количества поставляемых Дамаску ВВТ, стали привлекаться также коммерческие суда, даже бывшие турецкие сухогрузы, зафрахтованные Россией.
Транспортировка военных грузов через черноморские проливы под пристальным наблюдением турецкой стороны прикрывалась боевыми кораблями оперативного соединения российского ВМФ на Средиземном море. По мере развертывания авиационной группировки и наземных частей обеспечения и охраны в районе Латакии туда также подошли основные корабельные силы оперативной группы ВМФ во главе с флагманом Черноморского флота гвардейским ракетным крейсером «Москва». Будучи оснащен морской версией ЗРК С-300 (С-300Ф «Риф»), крейсер способен обеспечить ПВО в районе Латакии и основного пункта базирования «экспедиционных сил» российской боевой авиации – аэродрома «Хмеймим» в период развертывания операции. С целью демонстрации намерений российские боевые корабли уже после начала воздушной операции провели учебные стрельбы, в том числе пуски зенитных ракет совместно с наземными средствами ПВО развертываемой группировки российских войск. Фактически тем самым заявлено создание Россией бесполетной зоны для боевой авиации третьих сторон над западными прибрежными районами Сирии.
Однако наиболее заметным участием ВМФ России в сирийской операции стал залп крылатыми ракетами 3М14 «Калибр» с кораблей Каспийской флотилии. Впрочем, как уже отмечалось, политическая и пропагандистская значимость пуска дорогостоящих крылатых ракет превышала его военную целесообразность. «В соответствии с очевидной военно-политической логикой, последующие пуски КРМБ были осуществлены уже из акватории Средиземного моря. 17 ноября 2015 г. осуществлен первый в истории российского ВМФ боевой пуск крылатых ракет с борта российской дизель-электрической подводной лодки «Ростов-на-Дону» Черноморского флота по целям в районе столицы ИГ – Ракки. Отметим, что кроме «Ростова-на-Дону» в боевой состав недавно сформированной 4-й отдельной бригады подводных лодок ЧФ на данный момент входят еще две (запланированы поставки еще трех субмарин данного типа) дизель-электрические подводные лодки проекта 636.6 «Варшавянка». Не исключено, что дальнейшие пуски КРМБ из акватории Восточного Средиземноморья могут быть осуществлены уже с борта надводных кораблей и даже атомных подводных лодок ВМФ России.
Немаловажно участие в сирийской операции (пока еще в качестве сил охранения) морской пехоты. На данном этапе она представлена в Сирии усиленной батальонной тактической группой из состава известной еще с прошлогодней крымской операции 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. С советских времен она неоднократно привлекалась к учениям 5-й оперативной эскадры ВМФ СССР в Средиземном море, в том числе с десантированием на побережье Сирии в районе Тартуса, и предполагается, что офицерский состав бригады хорошо знаком с нынешним местом боевой командировки. По всей видимости, со временем будет осуществляться плановая ротация частей 810-й бригады морскими пехотинцами из состава других флотов.
Воздушная составляющая сирийской кампании включает два взаимозависимых элемента: военно-транспортный и боевой. Военно-транспортная авиация осуществляла переброску (преимущественно самолетами Ил-76 и тяжелыми Ан-124 «Руслан») личного состава, ВВТ и иных военных грузов. Именно ВТА были доставлены в Сирию ударные вертолеты Ми-24П, многоцелевые вертолеты Ми-17 и Ми-8, ЗРПК «Панцирь» (для организации ПВО аэродрома «Хмеймим», порта Латакия и формируемой военно-морской базы Тартус), а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА), активно используемые российской стороной для разведки и целеуказания. ВТА также была осуществлена переброска наземных комплексов РЭБ, РСЗО «Смерч» и ряда других реактивно-артиллерийских систем, призванных на начальном этапе усилить охрану пунктов базирования боевой авиации и флота, хотя в дальнейшем не исключено их использование для поддержки наступления правительственных войск. Полеты ВТА осуществлялись через воздушное пространство Ирана и Ирака на больших высотах, недоступных для ПЗРК и зенитной артиллерии оппозиционеров.
Также через воздушное пространство Ирана и Ирака к середине сентября 2015 г. на авиабазу «Хмеймим» прибыли боевые самолеты и вспомогательный самолет Ил-20, осуществляющий радиоэлектронную разведку, РЭБ и целеуказание. Сформированная 30 сентября 2015 г. Авиационная группа ВВС России в Сирии к началу операции насчитывала 12 бомбардировщиков Су-24М, 12 штурмовиков Су-25СМ, шесть бомбардировщиков Су-34 и четыре многоцелевых тяжелых истребителя Су-30СМ. Кроме этого, в группе имеется примерно 15 ударных вертолетов Ми-24П и многоцелевых Ми-17 и Ми-8 (предназначенных для транспортировки, а также поиска и спасения сбитых пилотов).
Сухопутный компонент российской операции пока ограничен частями, осуществляющими ПВО, охрану и обеспечение действий боевой авиации и пунктов снабжения. Помимо уже упомянутых морских пехотинцев, эти задачи осуществляются частями дислоцированной в Новороссийске 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии ВДВ, войск специального назначения, а также частей ПВО и ракетно-артиллерийских войск. Однако очевидно, что после объявленных планов развертывания на территории Сирии одновременно военно-морской, военно-воздушной и сухопутной российской военной базы ее наземный компонент будет неизбежно увеличиваться, даже если, как сказал Владимир Путин, участие российских войск в сухопутной операции не рассматривается.
Важнейшей особенностью сирийской кампании стала стратегическая внезапность и сохранение Россией военно-политической инициативы в глобальном измерении. Во второй раз за последние два года (после крымской операции и начала украинского кризиса) Кремлю удалось застать врасплох своих контрпартнеров в США, Европе и на Ближнем Востоке. Причем эта внезапность была достигнута не столько на техническом уровне (в век космической и электронной разведки скрыть столь масштабную переброску сил и средств армии и флота невозможно), а на уровне стратегической культуры и специфики процесса принятия решений.
Хотя это обстоятельство обеспечило благоприятные стартовые условия для начала военной операции, уже звучат мнения, что подобная стратегическая внезапность не что иное, как безрассудная игра на грани фола. Впрочем, станет ли авантюрой «сирийский гамбит» и превратится ли Сирия для Москвы во «второй Афганистан» или же станет триумфом, способным создать основу для выхода из украинского кризиса и формирования новых отношений с Западом – покажет динамика как военных, так и политических процессов. Боевые действия в Сирии (как российской авиации, так и, что немаловажно, сухопутного наступления Асада и его союзников) будут совмещаться с политическими процессами, влияя на их результаты, и наоборот.
Первые итоги и промежуточные перспективы
Россия попыталась использовать в сирийской кампании максимум разработок в сфере конвенциональных вооружений за постсоветский период. Многие виды ВВТ применялись впервые или же были представлены существенно модернизированными образцами.
Впервые в боевых условиях использовались тяжелые истребители Су-30СМ, впрочем, пока лишь прикрывая действия штурмовой и бомбардировочной авиации. Впервые зафиксированы фронтовые бомбардировщики Су-34. Хотя они уже применялись в августовской кампании против Грузии в 2008 г., но тогда лишь для радиоэлектронной борьбы по подавлению грузинской ПВО – поддержка действий бомбардировщиков Су-24 и штурмовиков Су-25. В Сирии Су-34 использовали новые высокоточные боеприпасы, в частности – семейства КАБ-500 со спутниковым наведением (российский аналог американских управляемых бомб JDAM), а также управляемые ракеты Х-25 и Х-29. Однако уже через две недели стало очевидно, что российская авиация испытывает проблемы с высокоточным и управляемым оружием. В репортажах из Сирии все чаще появлялись кадры, на которых не только Су-24М и Су-25СМ, но и современные Су-34 вылетали на задания, оснащенные не управляемыми боеприпасами, а свободнопадающими бомбами (например, ОФАБ-250/500 или РБК-500), по всей видимости, выпуска если не 1980-х, то 1990-х годов.
В первые недели операции российская авиационная группа осуществила рекордное число боевых вылетов почти на пределе технических возможностей (отчасти этому способствовала относительная близость целей – иногда порядка 100–200 км от аэродрома «Хмеймим»). Только за первый месяц боев, к началу ноября 2015 г. российская авиация совершила свыше 1 тыс. боевых вылетов. Достаточно высокой оказалась летная подготовка пилотов самолетов, а также экипажей, активно применявшихся для непосредственной поддержки сухопутных войск ударных вертолетов Ми-24П. Несмотря на опасность пусков ПЗРК и действий зенитной артиллерии, российские Су-25СМ и Су-24М, как и ударные вертолеты, с первых же дней активно использовалась на низких высотах. Тем не менее, за полтора месяца боевых действий, к середине ноября 2015 г. российская авиация, за исключением парочки упавших беспилотников, потерь не имела. Однако вполне возможно, что рано или поздно российский боевой вертолет или самолет будет сбит, что заставит авиацию подняться на высоты свыше 4 км, чтобы не стать целями современных типов ПЗРК. Последние, по всей видимости, вскоре появятся у сирийской оппозиции. Естественно, это снизит эффективность поддержки с воздуха, тем более что численность российской авиационной группы невелика (фактически смешанный авиационный полк).
Видимо, в ближайшее время Москве придется количественно и качественно усилить авиационную группировку в Сирии. Согласно сведениям космической разведки западных стран, авиабаза «Хмеймим» уже существенно расширяется. По неподтвержденным данным, для расширения возможностей непосредственной огневой поддержки в Сирию прибыли новейшие российские ударные вертолеты Ми-28Н. Впрочем, активизация воздушной операции необязательно должна подразумевать базирование самолетов непосредственно на аэродромах в Сирии. 17 ноября, на следующий день после саммита «Большой двадцатки» (видимо, аналогично пусками КРМБ из акватории Каспийского моря, для придания большого политического и пропагандистского эффекта действиям российской дипломатии в переговорном процессе с партнерами на Западе) для ударов по позициям исламистов, уже была привлечена российская стратегическая бомбардировочная авиация, действующая с авиационных баз на российской территории. Как и предсказывали некоторые военные эксперты, взлетевшие с аэродрома в Моздоке 12 сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-23М3 нанесли удары (по всей видимости, с использованием свободнопадающих бомб) по целям в районе Ракки и Дер-эз-Зоре. В свою очередь, пять российских дальних стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и шесть ракетоносцев Ту-160 нанесли удар уже крылатыми ракетами воздушного базирования по целям на территории Сирии. В дальнейшем не исключено также использование в качестве «баз подскока» иранских авиабаз (теоретически – даже российской авиационной базы Эребуни в Армении) для действий дополнительных фронтовых бомбардировщиков Су-24М и Су-34.
Впрочем, даже в первоначальном составе российская авиационная группа в состоянии осуществлять широкий спектр боевых задач, включая поражение систем управления, складов, объектов нефтегазовой инфраструктуры, уничтожение бронетанковой и ракетно-артиллерийской техники. Действия российской авиации также способствовали дроблению отрядов ИГ и оппозиционеров, усложняя подвоз подкреплений и снабжение боеприпасами.
Но главное будет решаться на земле и зависеть от сухопутного наступления правительственных войск и их союзников. Хотя в последнее время активизировалось участие иранцев (подразделений КСИР/«Кодс» и шиитской милиции) в сухопутных боях, тем не менее пока не ясно, решится ли Иран на кардинальное увеличение военного присутствия в Сирии, послав туда регулярные войска. Даже в нынешнем геополитическом контексте это был бы слишком решительный шаг, особенно учитывая, что, вопреки расхожему стереотипу, возможностей по существенному проецированию сухопутной военной мощи у Тегерана не так уж и много. Надо также учитывать, что среди алавитско-баасистской верхушки сторонников Асада давно нарастает недовольство засильем иранцев не только в силовых структурах, но и в самых различных ветвях управления и госструктур.
Пока темпы наступления сторонников Асада неудовлетворительны и далеки от ожидаемых. Сирийская армия медленно вгрызается в оборонительные позиции умеренной оппозиции и местных исламистов, неся потери в боевой технике и живой силе. Особенно тяжелый урон армии Асада наносит использование повстанцами современных противотанковых ракетных комплексов. Потери в бронетехнике столь существенны, что некоторые эксперты даже отмечают, что успешное применение повстанцами ПТРК в горно-пустынной местности и в условиях плотной городской застройки может сыграть такую же роль, как использование афганскими моджахедами ПЗРК «Стингер» против советской авиации. После начала российской операции саудовцы приняли решение поставить оппозиционерам дополнительно 500 ПТРК Tow-2, и очевидно, что в скором времени это скажется на ходе наземных боев.
То, что гражданские войны и асимметричные конфликты выиграть одной авиацией невозможно, – аксиома. За последние десятилетия все примеры хотя бы частичных успехов применения авиации как против повстанцев и иррегулярных отрядов, так и против правительственных сил сопрягались с активностью на земле. Можно провести аналогии с действиями Северного альянса в афганской кампании 2001–2002 гг., операций США и их союзников против Саддама Хусейна в 1991 г. и в 2003 г., гражданской войной в Ливии в 2011 году. На фоне пока еще достаточно скромных успехов начавшегося сухопутного наступления спорны перспективы успешной реализации сторонниками Асада полноценной воздушно-наземной операции.
В случае провала сухопутного наступления лоялистов России, по всей видимости, придется или сворачивать сирийскую кампанию (что представляется весьма сомнительным с учетом политических издержек для Кремля) или же существенно увеличить вовлеченность. В этом случае уже не удастся ограничиться усилением воздушной компоненты, тем более что в ближайшие месяцы погодные условия могут ухудшиться, создав проблемы для активного применения авиации.
Не исключено, что на следующем этапе Москва будет вынуждена, кроме прямых поставок сирийской армии все новых систем вооружения (к примеру, тяжелые российские огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» уже активно используются войсками Асада) перейти к использованию в сухопутных боях ракетно-артиллерийских систем уже с российскими экипажами. Это могут быть тяжелые РСЗО «Смерч» и «Торнадо», оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У», крупнокалиберные самоходные артиллерийские системы «Мста-С» и другие виды ракетно-артиллерийского вооружения. Будет увеличено число военных советников, возможно также участие в боях элитных частей спецназа, ВДВ и морской пехоты.
Это не будет еще полномасштабным вовлечением российской армии в сухопутную операцию, но станет шагом в данном направлении. Хотя на самом высоком уровне говорилось о невозможности сухопутной операции, это не означает, что такой исход полностью исключен. Начиная в 1965 г. воздушную операцию Rolling Thunder против Северного Вьетнама, США также не предполагали, что отправят в Индокитай более чем полумиллионный контингент морских пехотинцев и сухопутных войск.
Впрочем, пока еще в запасе остается вариант активизации и согласования дипломатических усилий вовлеченных в конфликт игроков, включая политический диалог между оппозиционерами, спонсируемыми Соединенными Штатами, Турцией и арабскими монархиями, и Асадом, с последующей выработкой согласованных усилий против ИГ. Попытки диалога с Москвой по этому вопросу США и их союзниками уже предпринимались и дают некоторые надежды на координацию усилий. Теракты в Париже, похоже, привели к серьезному переосмыслению подходов к ситуации на Ближнем Востоке и действиям Москвы и проасадовских сил в Сирии не только у французского руководства. Встреча «Большой двадцатки» в середине ноября 2015 г. стала, по всей видимости, индикатором возможного изменения подходов западных стран и их ближневосточных союзников к действиям России в регионе. Как минимум – в вопросе если не совместной, то – хотя скоординированной борьбы с ИГ.
Тем не менее, надеяться на скорое полное уничтожение ИГ и салафитско-джихадских отрядов в Сирии и Ираке не стоит. Этноконфессиональные основы конфликта не должны скрываться под удобными идеологическими штампами: не упрощая межсекториальный характер внутрисирийского и внутрииракского противостояния, следует признать, что фактически основа ИГ – это фрустрированное по всем статьям за последние десятилетия суннитское население Ирака и Сирии, равно как в свое время основу движения «Талибан» составляли «сердитые и недовольные» пуштуны. Поэтому вооруженная борьба с радикальными исламистами без четких дипломатических перспектив на дорогостоящее и долговременное постконфликтное урегулирование с участием всего международного сообщества – тщетная задача не на годы или даже десятилетия, а на целое поколение вперед.
Заключение
Если по итогам сирийской кампании будет достигнута линия Аллепо-Дамаск и закрыта граница с Турцией, то к «ужасу и изумлению» всего мира Россия продемонстрирует способность проецировать военную мощь за пределами постсоветского пространства. Будет создана постоянная сухопутная, военно-воздушная и военно-морская база в Сирии, закрепляющая российское военное присутствие в регионе. В этом случае, как, по всей видимости, и рассчитывают в Москве, любое постконфликтное урегулирование в сирийском и иракском вопросах, будет невозможно без учета интересов России.
Если «сирийский гамбит» не имел для российского руководства самодостаточной цели, и предпринимался лишь для того, чтобы отвлечь внимание от Украины (или заставить Запад согласиться на новый формат отношений с Россией), то эта цель уже отчасти реализована, (не без помощи исламистов, устроивших масштабные теракты в Париже). Впрочем, если в ближайшее время не удастся скоординировать действия с западными партнерами по нахождению политического урегулирования внутрисирийской проблемы с одновременной концентрацией вооруженной борьбы с ИГ, сирийская кампания Москвы может серьезно затянуться в военно-политическом плане и привести ко все увеличивающимся политическим и военным издержкам. Тем самым «сирийский гамбит» Москвы вполне может превратиться в банальный военно-политический «цугцванг». Исключить это способно достижение Россией с США и их региональными союзниками компромиссного соглашения по политическому урегулированию, включая сохранение Асада у власти на переходный период с последующим формированием в Сирии новых коалиционных властей.
Однако возможно ли это – покажет дальнейшее развитие военно-политических процессов в сирийском конфликте и вокруг него.

Как победим?
Чем должна завершиться российская операция в Сирии
Александр Белкин – директор по международному сотрудничеству Совета по внешней и оборонной политике.
Резюме Принципиально важна способность сформулировать главный критерий российского вооруженного участия в сирийском кризисе. Что считать моментом, когда цель будет достигнута? К такому выводу пришли участники дискуссии СВОП.
В конце октября в Совете по внешней и оборонной политике состоялась дискуссия на тему «Стратегия ухода – опыт выхода из локальных конфликтов». Организаторам и участникам заседания очевидно, что тема Сирии и Ближнего Востока, российского участия в урегулировании ситуации в регионе не только останется в центре общественного внимания, но с учетом сложности и запутанности ближневосточного клубка вполне может обостриться и потребовать безотлагательных ответов на жизненно важные вопросы. Одним из них является то, что в западной политической науке называется exit strategy, стратегия выхода из конфликта.
Для участия в дискуссии были приглашены эксперты по региону Ближнего Востока, а также ветераны МИДа и Минобороны, имеющие опыт как дипломатического, так и военного урегулирования подобных кризисов. Им было предложено обсудить вопросы реалистичных военно-политических задач российской военной вовлеченности в Сирии и ее пределов; правомерности сравнения российского военного участия в Сирии с советской кампанией в Афганистане; практических рекомендаций с учетом страноведческих знаний и «афганского» опыта.
Участники дискуссии согласились, что в вооруженном конфликте того типа, что происходит в Сирии, о победе в классическом понимании говорить невозможно. Боевые действия ведутся против террористической организации, легко переходящей от организованных форм войны к иррегулярным действиям, к мятеж-войне. В рамках объявленного российского военного присутствия с использованием «исключительно авиации» (С.Б. Иванов), когда «ни о каких наземных операциях и участии российских воинских подразделений в наземных операциях речь не идет и идти не может» (В.В. Путин) задача уничтожения т.н. «Исламского государства» не стоит, потому что она нереализуема. Ядро ИГИЛ находится на территории Ирака, то есть за пределами заявленной зоны российской военной операции. Вероятность того, что от Багдада поступит официальная просьба о российской авиационной поддержке действий иракских сил против ИГИЛ на иракской территории, участники дискуссии оценили как минимальную, в значительной степени по причине сохраняющейся серьезной политической зависимости Багдада от позиции США.
Эффективное применение российской авиации в таком случае возможно лишь в форме поддержки наступательных сухопутных операций сирийских правительственных войск, поскольку одними авиационными ударами по базам террористов территорию, контролируемую ими, не освободить. В идеале максимальной военной задачей российского контингента, достижение которой позволило бы перейти к решению проблем внутриполитического урегулирования в Сирии, могло бы стать вытеснение сирийскими войсками при российской авиационной поддержке организованных сил ИГИЛ из крупных провинциальных центров: Дейр-эз-Зор, Ракка, Пальмира (Тадмор).
Вместе с тем участники дискуссии по-разному оценивали реалистичность выполнения обозначенной задачи. Прежде всего как серьезный негативный фактор отмечалась ограниченность военных возможностей сирийских правительственных сил. Режим Башара Асада, похоже, достиг предела военных ресурсов еще весной текущего года. Показателей такой исчерпанности много, например, оппозиционные силы продолжают удерживать часть предместий Дамаска; недавняя попытка правительственной армии полностью освободить от оппозиции Алеппо провалилась, противники режима продолжают контролировать половину этого второго по величине города Сирии. Другими словами, велика вероятность того, что наличными силами правительство не вытеснит ИГИЛ из основных центров. В этом случае встанет вопрос о наращивании сухопутной поддержки сирийской правительственной армии. По общему мнению участников дискуссии, России ни в коем случае нельзя выходить за рамки заявленного участия, категорически недопустимо позволить втянуть себя в сухопутные операции.
Особое значение приобретает взаимодействие с Ираном и отрядами различного происхождения (ополчения, добровольцы и пр.), ориентированными на Тегеран. Притом что цели России и Ирана в Сирии в значительной степени совпадают, считать их общими нельзя. Региональная повестка дня Тегерана прочно завязана на факторы геополитического и религиозного противостояния локальных держав, чего Москва старается избегать.
В качестве возможного союзника в войне против ИГИЛ участники дискуссии называли курдских ополченцев, живущих на севере на границе с Турцией. В ходе военного противостояния с ИГИЛ курды продемонстрировали свою значимость, доказали, что на них можно положиться. Так, они собственными силами выбили ИГИЛовцев из провинции эль-Хасеке, которую полностью контролируют. Но в выстраивании взаимодействия с курдами понадобятся непростые дипломатические усилия, поскольку, во-первых, у них не слишком благоприятная история отношений с режимом Асада; во-вторых, на курдов уже делает ставку коалиция во главе с США. Наконец, ситуация осложняется глубокими конфликтами между курдами и турками. Тем не менее кооперация с курдами возможна в северной Сирии, несколько южнее зоны их компактного пребывания, а при наличии специальных договоренностей (обещания на будущее) даже при блокировании Алеппо. К северу от Дамаска (прежде всего район Хомса) активно действует ополчение из северокавказской диаспоры (сирийские черкесы), по факту они выступают на стороне правительства.
Во внутриполитическом урегулировании и послевоенном устройстве Сирии курды могут и должны сыграть большую роль. Чтобы остаться в прежних границах, сирийскому государству придется выработать более мягкую форму этнического представительства. Остаются еще друзы — большая конфессиональная группа, которая требует внимания. Между тем расширение прав курдов и прочих этнических меньшинств пока не относится к задачам ни официального Дамаска, ни многих представителей суннитской оппозиции, которые предполагают закрепить в будущей Сирии доминирование большинства.
Участники дискуссии разошлись в оценках целесообразности сохранения российских военных баз. По мнению некоторых, России, российскому военному флоту нужна опора в Тартусе, причем не в прежнем виде «бензозаправки» (пункта материально-технического обеспечения ВМФ), а полноценной военно-морской базы по типу той, которая была в Камрани (Вьетнам). Её наличие значительно способствовало бы автономности ВМФ в Средиземноморье и Атлантике, расширило бы возможности проекции силы. Разумеется, понадобится и прикрытие с воздуха, то есть потребуется и военно-воздушная база под Латакией. Сторонники подобной точки зрения полагают, что на ближайшие годы, если не десятилетия Ближний Восток превращается в очаг серьезных угроз и рисков, на которые России все равно придется реагировать, в том числе и военным способом, так что было бы странно уходить с обретенного плацдарма, чтобы потом создавать новые с нуля.
Другая часть дискутантов, напротив, подчеркивала, что военные базы в таком нестабильном регионе и еще более нестабильном государстве, как Сирия, послужат постоянным яблоком раздора и центром притяжения террористической активности. Возможность сохранения российских баз в Сирии может реалистично рассматриваться только в случае решения основной задачи военной кампании – вытеснения и локализации вооруженных сил ИГИЛ за пределы основных провинциальных центров Сирии, а затем внутриполитического урегулирования многолетнего гражданского противостояния в стране. Российское военное присутствие должно быть принято широкими спектром сирийских политических сил и признано ими в качестве фактора стабильности. Если же оно будет основано на договоренностях только с правительством Башара Асада, любая смена власти (а в долговременную устойчивость нынешней политической модели не верит практически никто из экспертов) спровоцирует очень опасную напряженность вокруг нашего военного объекта.
Относительно правомерности сравнения российской операции в Сирии с советской кампанией в Афганистане участники заседания высказались в основном однозначно: подобные параллели носят преимущественно спекулятивный характер. Шейх Абу Мухаммад Джулани, руководитель «Джабхат ан-Нусры», в памфлете, который сейчас по-русски вывешен в Интернете, многократно повторяет тезис о том, что в Сирии Россия получит второй Афганистан.
Прежде всего Сирия и Афганистан — два совершенно различных государства и общества, несопоставимых в историческом, социокультурном и экономическом отношениях.
Афганистан — страна, где государственное строительство имеет свою ярко выраженную специфику. Доминирующим фактором является наличие влиятельных пуштунских племенных объединений в условиях неурегулированной пограничной проблемы. Основной компонент в социальной структуре населения – крестьяне (дехкане), обреченные трудиться на своем наделе, шанс на самореализацию в других областях минимален. Если нет военных действий, их социальный статус очень низок. Война – невероятная возможность заявить о себе, повысить статус, значительно улучшить материальное положение. Поэтому афганцы, взявшие в руки автомат, уже никогда с ним не расстанутся.
Сирия — страна древнейшей, шеститысячелетней цивилизации, причем городской – в городах живет половина населения. Это светское секулярное государство, вполне модернизированное. Города достаточно европеизированы. Сирийская верхушка, будь то алавитская или суннитская, хочет жить по меркам цивилизованного западного мира. В этом отношении ориентация сирийского общества в целом, а не только алавитской или суннитской верхушки, друзов, курдов и так далее – стремление к подобию европейской модели общества. В Сирии тоже есть племенные сообщества, порядка 40 бедуинских кланов, но они не имеют того влияния, которым пользуются племена в Афганистане.
У сирийского крестьянина, помимо того что он с момента вступления в большую жизнь собирает деньги, чтобы обзавестись семьей, есть еще много других задач. Он интересуется внешним миром, обязательно пользуется спутниковой «тарелкой» и так далее. Сирийцы в массе своей живут интересами большого мира, а не только своей маленькой общины. И для сирийца война — это катастрофа, нечто экстраординарное, не случайно ИГИЛ в Сирии в основном (в значительно большей степени, чем в Ираке) состоит из пришлых людей.
В одном из недавних выступлений министр обороны Саудовской Аравии пытался надавить на Россию, мол, вы увидите второй Афганистан, намекая на то, что против российской авиации будут использованы «Стингеры». Однако заявление скорее является блефом. Если саудовцы решатся-таки на поставку повстанцам ПЗРК, это будет означать полную смену курса США в регионе вплоть до разрыва Вашингтона и Эр-Рияда.
Передача «Стингеров» и любых средств противовоздушной обороны непонятным формированиям будет означать расползание этого оружия в неподконтрольные группировки. Кого они завтра будут сбивать? Мало того что в небе над Сирией помимо российских работают и американские летчики, сами саудовцы проводят воздушную операцию в Йемене, куда установки тоже могут попасть. Союзники Вашингтона в регионе, прежде всего Израиль и Турция, такого поворота не поймут. Помимо этого Соединенные Штаты учитывают возможные ответные действия России по передаче комплексов С-300 Сирии.
Есть распространенное заблуждение, дескать, СССР был вынужден принять решение о выводе войск из Афганистана под влиянием потерь, которые авиация стала нести от американских «Стингеров» в руках моджахедов. Это не так. Во-первых, преувеличивается воздействие «Стингеров» как военного фактора. Действительно, в 1986 г. первыми же пусками «Стингеров» в советском вертолетном полку в Джалалабаде (провинция Кунар) было сбито четыре вертолета. Это стало первыми очень большими потерями. Но потом нашлось противодействие, урона стало меньше. В принципе потери от «Стингеров» не превышали ущерба, который наносили другие средства ПВО.
Во-вторых, принципиальное решение о выводе войск было принято раньше, чем начались поставки ПЗРК. Попытка советского контингента с 1983 по 1985 гг. задавить сопротивление за счет наращивания интенсивности боевых действий привела лишь к резкому росту численности моджахедов. И на этом фоне в 1985 г. было принято решение о выводе – значительно раньше появления «Стингеров».
Заявления чиновников Саудовской Аравии о вероятности поставок ПЗРК повстанцам в Сирии, равно как и декларирование намерения превратить Сирию для России во второй Афганистан, представляют собой ничем не подкрепленную попытку шантажировать Россию. По мнению экспертов, такой же попыткой отвлечь ресурсы и внимание Москвы от сирийской проблемы является создание структур ИГИЛ на севере Афганистана. Действия носят ярко выраженный искусственный характер, где просматривается рука межведомственной разведки Пакистана.
Основываясь на опыте советских боевых действий в Афганистане, участники дискуссии высказали ряд практических замечаний. Эксперты признали, что в Сирии у наших войск более передовая техника, способная наносить точные удары и позволяющая практически безнаказанно применять авиацию. С другой стороны, отмечалась недостаточная эффективность авиационной поддержки войск, проблемы координации воздушных и сухопутных акций. Серьезной помехой является языковой барьер, поскольку летчики не владеют арабским языком, а сирийские офицеры в основном не знают русского. Отчасти проблема может быть снята применением более современных средств боевой поддержки войск, в частности вертолетов К-52, Ми-28Н, способных благодаря хорошей оптике засекать огневые точки противника и наносить по ним удары, находясь позади наступающих частей. Для повышения эффективности применения штурмовиков Су-25 требуются авианаводчики в боевых порядках.
Оценивая соотношение военного и внутриполитического урегулирования в Сирии, участники дискуссии высказывали разные мнения. Превалировала точка зрения, что политическому урегулированию должно предшествовать военное подавление и вытеснение ИГИЛ. В условиях гражданской войны, отсутствия контроля над значительной частью территории, а также прямой и явной угрозы со стороны ИГИЛ всем социальным и этническим группам общества проведение корректных и адекватных реальным настроениям выборов представляется невозможным ни с технической, ни с политической точки зрения. В голосовании, проведенном в такой обстановке и лишь в отдельных провинциях, вероятнее всего, победит Асад, но смысла в этой победе будет мало, поскольку ее не признает законной ни большая часть сирийского общества, ни западная коалиция.
Другая точка зрения состояла в том, что ключевое звено в международных антитеррористических усилиях – именно Сирия, и до тех пор пока самими сирийцами при международном содействии не будут согласованы параметры переходного периода и не начнется реальный политический процесс, решающих успехов в борьбе с ИГИЛ ожидать трудно. Поэтому речь должна идти о выработке – пусть и параллельно с боевыми действиями – приемлемой для всех модели будущего государственного устройства.
Возвращение из сирийского похода без «потери лица» и возрастания рисков для России возможно лишь путем срочных усилий по установлению взаимодействия с Западом и заинтересованными региональными акторами для совместной борьбы против ИГИЛ и дискуссии о послевоенном политическом урегулировании. Это и условия ухода Асада, и гарантии ему, его окружению и алавитам, и обеспечение территориальной целостности Сирии с учетом интересов всех этнических и религиозных групп.
Россия фактически спасла официальный Дамаск от падения, однако она не может позволить себе оказаться заложницей лишь одной сирийской группировки, перспективы которой крайне неопределенны даже при столь активной российской поддержке. Обстановка вокруг российского участия меняется стремительно. Сирия – ключевой, но не единственный элемент. Рост террористической угрозы со стороны ИГИЛ, ясно обозначившийся после крушения самолета над Синаем, переводит кампанию в новое качество. Тем более что косвенной жертвой этого трагического инцидента, вероятно, окажутся отношения России и Египта – самой населенной страны суннитского арабского мира, с которой у Москвы до сих пор складывалось хорошее взаимопонимание. Это означает, что масштаб трений и противоречий в регионе в связи с российскими действиями может резко возрасти. Нападение террористов на Париж добавляет новый опасный элемент в складывающуюся мозаику, толкая Францию и другие западные страны к силовой реакции.
Принципиальным же для выработки «стратегии выхода» является способность сформулировать, что считать моментом, когда цель прямого вооруженного участия России в сирийском кризисе будет достигнута. Ведь устойчивый политический (дипломатический) успех (мир?) в Сирии и на Ближнем Востоке вряд ли достижим в ближайшие годы.
В обсуждении принимали участие А.Г. Аксенёнок, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ, член Российского совета по международным делам, Ш.Н. Амиров, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии РАН, П.С. Золотарёв, заместитель директора Института США и Канады РАН, генерал-майор (в отст.), О.В. Кулаков, кандидат исторических наук, преподаватель Военного университета МО РФ, полковник (в отст.), А.И. Лукьянов, научный сотрудник Лаборатории общественной географии и страноведения Географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, С.Г. Мелконян, главный редактор International Studies, А.В. Цалко, президент Ассоциации социальной поддержки уволенных с военной службы «Отечество», генерал-майор авиации (в зап.).

Между кризисом и катастрофой
Ближний Восток и будущее мира
Евгений Сатановский – президент Института Ближнего Востока.
Резюме К середине второго десятилетия XXI века ясно, что мир движется к соотношению сил, более характерному для XVII–XVIII столетий. Запада в плане его возможностей и влияния становится меньше, Востока и Юга больше.
Чем хороша текущая эпоха – исторических тайн все меньше. Что позволяет напомнить читателю о российско-британском Санкт-Петербуржском соглашении 1907 г., по которому Тибет оставался за Китаем, протекторат над Афганистаном получали англичане, а Иран они с русскими делили, так что Каспийское море становилось российским водоемом. И если б не октябрь 1917-го, так бы и закончилась «Большая игра». Благо от Оттоманской Порты после Первой мировой войны мало что осталось, соглашение Сайкса-Пико прирезало России дополнительные пространства в Восточной Анатолии (не говоря о Черноморских проливах, контроль над которыми Российской империи был оговорен особо), а присутствие США на Ближнем и Среднем Востоке было в ту пору несущественным: главную роль там играли Британия и Франция.
Османская империя не пережила потрясений столетней давности, но рухнула и Российская, воскреснув как Советский Союз, который к концу ХХ столетия распался на составные части, не слишком отличаясь в этом от всякой большой империи. Впрочем, еще до того рассыпались и соперничавшие с ним колониальные империи: Британская и Французская. К середине второго десятилетия XXI века ясно, что мир движется к соотношению сил, более характерному для XVII–XVIII столетий с понятными геополитическими поправками. С точки зрения возможностей и влияния, в том числе в военной сфере, Запада становится меньше, Востока и Юга – больше. Россия балансирует между ними, Китай, Индия, Турция и Иран возвращают свое место на международной арене, Япония и Южная Корея вернулись в клуб экономической элиты много раньше.
Новые игроки – латиноамериканские государства (среди которых выделяется Бразилия), ЮАР, Канада и Австралия – занимают свои ниши в системе мироустройства. Соединенные Штаты пытаются сохранить если не положение единственной сверхдержавы при соперничестве с Китаем, то монополию на статус глобального гегемона, чьи интересы распространяются на всю планету. Они ввязываются в одну локальную войну за другой только для того, чтобы, потерпев очередное поражение, уйти, оставить за собой хаос. Украина стала новым полем соперничества Запада с Россией. Центральная Азия превращается в такое же пространство с опорой США на Туркменистан и попытками расширить зону влияния на другие государства региона, в первую очередь Узбекистан. Страны арабского мира дестабилизированы, направленная против светских режимов «арабская весна», наступившая при активной поддержке Саудовской Аравии и Катара, переросла в борьбу за власть между исламистами и военными.
Хантингтон оказался прав, Фукуяма – нет. Война цивилизаций идет полным ходом, а «конца истории» и окончательной победы либеральной западной демократии нет и не предвидится. Глобализация не сулит Европе ничего хорошего: миллионы переселенцев из Африки и стран Ближнего и Среднего Востока, которые живут в государствах ЕС, и десятки миллионов, готовые переселиться ближе к европейским пособиям при первой возможности, намерены не ассимилироваться, а подогнать Старый Свет под свои стандарты. Европа при этом не испытывает недостатка ни в правых радикалах всех типов, ни в исламистах, постепенно становясь не заповедником социал-демократического либерализма, а полем столкновений радикалов. Причем балансирование континента между, условно говоря, Брейвиком и бен Ладеном в конечном счете ни для кого не окончится хорошо. К тому же при сохранении текущих темпов миграции к 2050 г. соотношение коренных и «пришлых» жителей Евросоюза изменится фундаментально.
Отдельная тема – по какому пути идет Россия и чем это для нее закончится. Ее исторический опыт свидетельствует о том, что в 30-е, максимум 40-е гг. текущего столетия, после смены по естественным причинам правящей в настоящий момент элиты, страну ожидают немалые потрясения. Проблемы ее экономики, образования и прочих ключевых для успешного функционирования государства и страны сфер деятельности – секрет только для правительства, усилиями которого эти процессы развиваются именно так, как развиваются. Однако настоящая статья посвящена не России (хотя не упоминать ее нельзя), а текущей ситуации и потенциальным перспективам развития Ближнего и Среднего Востока (БСВ) и его периферии: африканской и европейской, Центральной Азии и Закавказья. Ибо все в мире связано, и связи эти проявляются быстрее, чем в прошлом.
Это продемонстрировал спровоцированный Турцией кризис беженцев. В дополнение к непрерывному потоку беженцев из Африки и стран БСВ, прибывающих в Италию через Ливию, Грецию и Балканы, в Западную Европу, в первую очередь в Германию, был направлен поток в несколько сотен тысяч человек. К концу года он может достичь миллиона. Судя по заявлениям ответственных чиновников ООН, согласно которым в мире насчитывается около 60 млн беженцев и перемещенных лиц, а более 200 млн готовы стать мигрантами в силу экономических причин и невыносимых условий жизни, – это только начало. В способность европейских политиков найти адекватные механизмы реагирования на этот вызов автор поверить не готов.
Турция в европейском кризисе беженцев преследовала несколько целей. Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану нужно было продемонстрировать к парламентским выборам 1 ноября способность справиться с критической ситуацией, к которой привела поддержка Анкарой гражданской войны в Сирии. А именно: разгрузить Турцию от части более чем трех миллионов беженцев, живущих на ее территории. Кроме того, оказывая давление на ЕС, он стремился получить от Брюсселя деньги (они на беженцев выделены), перекладывая на Европу (с прицелом на Германию) эту проблему. Наконец, пытался толкнуть европейских членов НАТО к удару по войскам Башара Асада (безрезультатно, с учетом появления в этой стране российских ВКС). Сама ситуация показывает, насколько западный мир уязвим перед процессами, происходящими на Ближнем и Среднем Востоке. Рассмотрим их чуть подробнее – ибо, как известно, дьявол кроется в деталях.
Неформальные альянсы и конфликты
«Арабская весна» – падение авторитарных правителей, которых заменили не либерально-демократические круги, молодежь, женщины, технократы и правозащитники, а исламисты – как и предполагалось, пошла на спад. В Тунисе «Братья-мусульмане» в лице партии «Ан-Нахда» утратили монополию на власть по итогам парламентских выборов. В Египте «Братьев» свергли военные. В Ливии исламисты разного толка воюют между собой, опираясь на поддержку Саудовской Аравии или Катара, а Каир поддерживает генерала Халифа Хафтара и его сторонников из бывшей армии Каддафи. Йемен стал одним из наиболее опасных для суннитских монархий Аравийского полуострова региональных плацдармов Ирана, хотя противостоят в этой стране Эр-Рияду и его «группе поддержки» не иранцы, а йеменские хоуситы и экс-президент Али Абдала Салех.
Проект свержения Асада завяз и имеет все шансы провалиться, хотя Дамаск, если бы не поддержка Ирана и действия российских ВКС, находился бы в одном шаге от падения под напором террористических группировок, поддерживаемых Турцией, Саудовской Аравией и Катаром. В регионе оформились два военно-политических и экономических альянса: Турция–Катар и Египет–Саудовская Аравия. Вооруженные силы, промышленность и значительное население, составляющие основной стратегический резерв Анкары и Каира, дополняют финансовые авуары Дохи и Эр-Рияда, гарантируя им безопасность в случае возникновения серьезных проблем. Авантюрная же политика катарцев и саудитов на протяжении первой половины 2010-х гг., почувствовавших при попустительстве США и европейцев вкус к переформатированию БСВ по собственной прихоти, эти проблемы гарантирует.
Турецко-катарский союз основан на единстве подходов к «группам внешней поддержки». Обе страны патронируют «Братьев-мусульман» всех типов, включая ХАМАС, и «Исламское государство» (ИГ), хотя у каждой есть и собственные креатуры, вроде «Ахрар аш-Шам» у Катара и туркоманов у Турции на сирийской территории. Правда, Анкара полагает для себя главной опасностью курдов, государственность или территориальная автономия которых в Ираке и Сирии чревата резким усилением сепаратизма в восточных провинциях Турции. В противоположность этому альянсу, АРЕ и Саудовскую Аравию сближает общий враг, в роли которого выступают «Братья-мусульмане» и ИГ. Их союз выглядит менее прочным. Для египетских военных салафитские радикальные группы – такой же естественный противник, как и все прочие исламисты. Для саудовской династии – скорее союзник (кроме «продавшегося» Катару ИГ), что в близкой перспективе чревато конфликтом интересов.
Возможно, главную проверку на прочность египетско-саудовская ось пройдет после ввода в эксплуатацию в 2017 г. четырехкаскадной плотины «Возрождение» в Эфиопии, на Голубом Ниле. На время заполнения водохранилища, которое должно занять 6 лет, объем стока Нила, получаемого Египтом, снизится на 30% (после чего сток Нила будет меньше «лишь» на 20% – если не будут построены другие гидроузлы). Выработка электроэнергии на Асуане, по предварительным расчетам, должна упасть на 40%. В АРЕ с ее демографией это может вызвать экономическую и социальную катастрофу. Сможет ли Каир без масштабной внешней поддержки выдержать этот удар, сомнительно, как и то, хватит ли для этой поддержки ресурсов Эр-Рияда, которые он истощает в ходе интервенции «Аравийской коалиции» в Йемене, борьбы с Катаром в Ливии, глобального противостояния с Ираном и поддержки группировок, борющихся против Асада, не говоря о ценовой войне на нефтяном рынке с США, разорительной для саудовского бюджета не меньше, чем для американских производителей сланцевой нефти.
Главные загадки на БСВ в текущий момент: курс, который после победы на внеочередных парламентских выборах Партии справедливости и развития выберет президент Эрдоган; перспективы развития ситуации в Афганистане и «Центральноазиатской весны» за его пределами, а также будущее исламистских группировок после начала действий в Сирии российских ВКС. Последнее может самым непредсказуемым образом сказаться на салафитских монархиях: Саудовской Аравии, на протяжении четверти века опирающейся на них в проведении внешней политики, и конкурирующем с ней в этом два десятка лет Катаре.
Турецкие загадки
Эрдоган с его взрывным конфликтным характером и амбициями по превращению Турции в новую Оттоманскую Порту, получив возможность сохранить контроль над однопартийным правительством, может сосредоточиться на изменении конституции, пытаясь реализовать проект превращения парламентской республики в президентскую – и, не исключено, добьется успеха. С другой стороны, он с такой же вероятностью способен начать очередную внешнеполитическую авантюру в Сирии, будь то попытка выкроить там «буферную зону» под предлогом защиты интересов туркоманского населения, удар по позициям курдов либо масштабная поддержка исламистов в районе Алеппо, традиционно считающемся зоной турецких интересов. Причем первый и третий сценарии сталкивают Турцию с Ираном в условиях, когда ее действия не поддержит Вашингтон, о чем Эрдоган знает, а второй – прямо противоречит планам Соединенных Штатов ударить по «столице ИГ» Ракке, который они готовят, имея в запасе в качестве главной атакующей силы именно курдов.
Коалиция, возглавляемая США, не может позволить себе продолжать вялотекущую борьбу против ИГ с неясными результатами и временной перспективой: на фоне успехов российских ВКС в Сирии это выглядит как потеря инициативы на БСВ в целом. Как следствие, несмотря на лоббирование со стороны аравийских монархий тех или иных исламистских группировок в качестве «умеренной оппозиции», идея использовать исламистов для свержения Асада или в качестве противовеса Ирану и шиитскому режиму в Багдаде может принести ее сторонникам в западных столицах больше минусов, чем плюсов. Заинтересованность Турции и ее президента в сохранении ИГ как партнера (контрабанда нефти, зерна и муки, археологических артефактов, продажа оружия и выкуп заложников – многомиллиардный бизнес для некоторых турецких фирм) и противника сирийских и иракских курдов до определенного времени сдерживала контртеррористическую коалицию, членом которой Анкара является, но личная неприязнь Эрдогана и Обамы зашла слишком далеко, чтобы Вашингтон перестал с этим считаться.
Опасения насчет возможного столкновения России и Турции в Сирии рассматривать всерьез не стоит: шантаж и угрозы – обычный стиль Эрдогана, который привел к его фактической изоляции в руководстве стран НАТО. Политика «ноль проблем с соседями», выдвинутая в начальный период его правления бывшим главой МИДа и нынешним премьер-министром Ахметом Давутоглу, за последнее десятилетие привела к тому, что нет ни одного соседнего с Турцией государства, у которого не было бы с ней конфликта той или иной степени. Анкаре не имеет смысла всерьез накатывать на Москву в условиях острого противостояния с Ираном из-за разногласий по Сирии. Доставка нефти и природного газа из Ирана в Турцию в настоящее время под угрозой из-за взрывов трубопроводов на востоке страны, ответственность за которые несет Рабочая партия Курдистана (РПК) – притом что разрывать перемирие с ней ради внутриполитических спекуляций Эрдогана никто не заставлял.
Отметим также, что строить в Турции АЭС «Аккую» на условиях, которые согласовал «Росатом», не будет больше никто. Превращение Турции в энергетический хаб мирового значения и главный транзитный узел по поставке газа в Южную и Восточную Европу зависит именно от России с ее проектом «Южный поток», трансформированным в «Турецкий поток». Для того чтобы эта задача была реализована, мало действующей трубопроводной системы, которая связывает Турцию с Азербайджаном, и надежд на Транскаспийский газопровод, призванный вывести на рынок ЕС природный газ Туркменистана (ТКГ). Последний проект на текущий момент в условиях жесткого оппонирования его реализации со стороны России и Ирана и заинтересованности Китая в ресурсной базе ТКГ не более реален, чем трубопровод в Турцию с Аравийского полуострова. В свое время Асад отказался дать Дохе, Эр-Рияду и Анкаре согласие на его прокладку, что во многом стало первопричиной кампании по его свержению.
Лихорадка в Центральной Азии
«Трубопроводные войны» в Центральной Азии, судя по всему, еще впереди. Конкуренция за туркменский газ идет не только между Европой, поддерживаемой Соединенными Штатами, и Китаем: проекты ТКГ и ТАПИ (Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия) конкурируют между собой. Заявления Туркменистана о том, что природного газа в недрах республики хватит на всех возможных потребителей, имеют мало общего с реальностью. Осенью 2015 г. вместо китайских компаний на газовое месторождение-гигант Галкыныш пришли японские, что стало, помимо прочего, следствием отказа Пекина предоставить туркменскому руководству очередные льготные кредиты для покрытия острого дефицита финансов, вызванного затратами на Азиатские игры. У Туркменистана нет другого выхода, кроме роли разменной монеты в новой «Большой игре».
Попытка играть на всех направлениях одну и ту же игру провалилась: провозглашенный еще президентом Сапармурадом Ниязовым нейтралитет не предполагает предоставления США базы ВВС в Мары, переговоры о чем практически завершены. Реализация этого плана ставит Ашхабад в сложное положение в отношениях с Москвой, Пекином и Тегераном, не решая проблем безопасности перед угрозами со стороны Афганистана. Кабул не контролирует не только пуштунские районы юга, но и север страны, населенный туркменами, узбеками и таджиками. Иран «держит» районы, населенные шиитами-хазарейцами, и с большим или меньшим успехом прикрывает границу в провинции Систан и Белуджистан от проникновения наркоторговцев и боевиков просаудовской белуджской террористической организации «Джондалла».
Правительство Афганистана не может защитить бывшую афгано-советскую границу от проникновения талибов, расколовшихся после смерти их лидера муллы Омара, но не ставших менее опасными, пока их поддерживают Саудовская Аравия и Пакистан, и боевиков движений, финансируемых Катаром и Турцией, частично объявивших о присоединении к ИГ, как Исламское движение Узбекистана и исламистские движения и партии таджиков и уйгуров. Очевидно, что приближающиеся попытки дестабилизации Центральной Азии и свержения контролирующих постсоветские республики светских режимов – вне зависимости от уровня их авторитаризма и контактов с Западом – будут автоматически поддержаны «сирийской тройкой» (Дохой, Анкарой и Эр-Риядом), имеющей в регионе прочные позиции. Не приходится сомневаться, что эту деятельность поддержат США и ЕС просто в силу проблем, которые это создаст для России и Китая.
Система коллективной безопасности региона, будь то ШОС или ОДКБ, неполна: Ашхабад и Ташкент ее игнорируют, пытаясь играть собственную игру. Проблема легитимной передачи верховной власти в государствах Центральной Азии между тем достаточно остра. Традиция, если не считать наследования умершему национальному лидеру (как в Туркменистане) или свержения действующего (как в Киргизии), отсутствует. Парламентская оппозиция является фикцией или просто не существует. Уровень коррупции высок. Происламские настроения населения сильны, а движения, которые на них опираются, ориентированы на джихадизм и тесно связаны с крайними радикалами исламского мира и их спонсорами. Влияние на текущую ситуацию в странах Центральной Азии региональных элит, криминальных кланов и наркомафии стоит учитывать: оно значительно превышает возможности Соединенных Штатов.
Особый вопрос – проблема афганских наркотиков, являющихся главной статьей дохода населения и элиты этой страны. Афганистан, превратившийся за время международной оккупации в монополиста-производителя опиатов и героина, сохранит это место при любом правительстве. Тем более что претензии на контроль над ситуацией в этой стране Пакистана, поддерживаемого Саудовской Аравией, способствуют этому. Причем саудовско-пакистанский альянс, сложившийся на протяжении более трети века в рамках сотрудничества в Афганистане со времен борьбы с советскими войсками, имеет тенденцию к упрочению за счет расширения партнерства этих государств в ядерной сфере.
Ядерное измерение
Говоря проще, Саудовская Аравия финансирует расширение ядерных арсеналов Пакистана средней дальности, которые он пополняет в рамках противостояния с Индией и поддержания с ней ядерного баланса, как делал и ранее. Разница в том, что Иран, заключивший «ядерную сделку» с США и другими членами «шестерки» переговорщиков, на протяжении длительного периода пытавшихся выстроить баланс интересов с Тегераном, после снятия санкций представляет значительно большую угрозу для Эр-Рияда. Эксперты полагают, что Саудовская Аравия может в короткий срок получить от Пакистана небольшие, но готовые к бою ядерные запасы, не столько намереваясь их применить в случае внешней угрозы, сколько для того, чтобы гарантировать себе защиту на крайний случай. Ведь США, их официальный гарант безопасности, продемонстрировали в ходе переговоров с Ираном свое истинное отношение к старым ближневосточным союзникам.
Превращение Ближнего Востока в «безъядерную зону» в любом случае изначально имело основной, если не единственной, целью разоружение Израиля. Разработка ядерной программы Тегерана превратила безъядерную идею в фикцию, которой она, впрочем, была с самого начала, учитывая, что тесно связанный с консервативными арабскими монархиями Персидского залива ядерный Пакистан только географически является частью Южной Азии, составляя на протяжении всей своей истории неотъемлемую часть БСВ. Гонка ядерных вооружений в этом регионе – естественный итог провала санкционной политики в отношении Ирана и договора этой страны с мировым сообществом, фактически легитимировавшего его будущий ядерный статус. С этой точки зрения наилучшим выходом для обеспечения безопасности региона могло бы стать соглашение о ненападении между Израилем и Ираном. Однако Иран, в отличие от Израиля, пойти на него в обозримом будущем явно не готов.
При этом Израиль не имеет претензий к соседям и не претендует ни на что, помимо обеспечения собственной безопасности, но готов жестко реагировать на любые попытки ослабить его обороноспособность, с чьей бы стороны они ни исходили. В этой связи появление ВКС России в Сирии, мешающее Ирану взять ее под полный контроль, расценивается израильским руководством с позиции позитивного нейтралитета. Не случайно Израиль стал первой страной западного сообщества, наладившей с Москвой координацию по ситуации в Сирии. Отметим, что это прервало опасные попытки Саудовской Аравии втянуть израильский ЦАХАЛ в войну с Ираном, предпринимавшиеся на протяжении длительного времени не без определенных успехов.
Палестина и беженцы
Наконец, в рамках данной статьи нельзя не сказать о провале палестино-израильского «мирного урегулирования». Позиции сторон оказались абсолютно и окончательно несовместимыми – и были таковыми изначально. Односторонние уступки для поддержания иллюзии переговорного процесса не одобряются израильским обществом, в том числе вследствие поддержки антиизраильского терроризма руководством ХАМАС в Газе и Палестинской национальной администрации в Рамалле. Неготовность палестинской стороны к обсуждению вопросов, которые должны были быть разрешены еще в мае 1999 г., зашкаливающая в ПНА коррупция и явное нежелание строить собственное государство, притом что Израиль не демонтирует механизмы палестинского самоуправления, чтобы не брать на себя ответственность за палестинских арабов, контрастируют с надеждами 1990-х годов.
При этом катастрофическая ситуация с беженцами, в том числе арабскими, в ближайшее время может привести к унификации программ их поддержки международным сообществом, лишив палестинцев статуса «беженцев первого сорта». Тем более что положение Иордании, граничащей с Ираком и Сирией, а также Ливана более чем шатко. Алжир с его правящей геронтократией и борьбой за власть в элите нестабилен. Судан расколот, он так и не вышел из гражданской войны, несмотря на отделение Джубы. Сомали разделен на враждующие анклавы. Эритрея все больше ориентируется на Саудовскую Аравию и ОАЭ. Опорой Джибути служат иностранные военные базы. Все эти страны и территории представляют собой еще одну зону нестабильности. То же можно сказать об африканской периферии БСВ – Сахаре и Сахеле, сепаратистские и радикально-исламистские движения которых дестабилизируют зону от Марокко до Мавритании и значительную часть Черной Африки.
Пожалуй, единственная «хорошая» новость, касающаяся БСВ, состоит в том, что Балканы и Закавказье по сравнению с Сахелем и Аф-Паком являют буквально оазис спокойствия. Что само по себе демонстрирует, насколько запущена ситуация в регионе, несмотря (а скорее благодаря) попыткам его «демократизации». Демонтаж Шенгенской зоны из-за направляющихся в Германию через Балканы беженцев может стать началом конца Евросоюза. На Закавказье влияют Турция и Иран, а также противостояние между Вашингтоном и Брюсселем, с одной стороны, и Москвой – с другой. Но по сравнению с тем, что там могло бы происходить, их положение сравнительно стабильно. В Афинах, Белграде или Будапеште с этим вряд ли кто-нибудь согласится, однако, вспоминая хотя бы о проблеме рабства в Ираке, Судане и Мавритании и геноциде христиан в Сирии и Ираке и курдов-йезидов в Ираке, понятно, в чем состоит разница между кризисом и катастрофой.

Конец Pax Americana
Почему отступление Вашингтона на Ближнем Востоке кажется разумным
Стивен Саймон – приглашенный лектор Дартмутского колледжа, старший директор по делам Ближнего Востока и Северной Африки в Белом доме в 2011–2012 годах.
Джонатан Стивенсон – профессор стратегических исследований в Военно-морском колледже США, директор по политическим и военным вопросам на Ближнем Востоке и в Северной Африке в аппарате Совета национальной безопасности США в 2011–2013 годах.
Резюме Вашингтону следует стремиться к здоровому равновесию в отношениях с Ближним Востоком, что предполагает сокращение управленческой роли Америки. Политика военного вмешательства стала отклонением и не должна превратиться в долгосрочную норму.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 6, 2015 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Несмотря на укрепление «Исламского государства» (также известного как ИГИЛ) и авиаудары возглавляемой Соединенными Штатами коалиции по его позициям, администрация Обамы явно отступила от политики вмешательства на Ближнем Востоке. Критики связывают это с тем, что администрации надоела активность США в регионе, она не готова к крупным военным операциям, а президент Обама якобы предпочитает сокращать вовлеченность в мировые дела. На самом деле интервенции Вашингтона в регионе после 11 сентября – особенно вторжение в Ирак – были аномалиями и сформировали как в стране, так и в регионе ложные представления о «новой норме» американского вмешательства. Нежелание использовать сухопутные войска в Ираке или Сирии представляет собой не отступление, а скорее корректировку – попытку восстановить стабильность, существовавшую на протяжении нескольких десятилетий благодаря американской сдержанности, а не агрессивности.
Можно утверждать, что это отступление – не выбор, а необходимость. Некоторые эксперты-реалисты считают, что в период экономической неопределенности и сокращения военного бюджета экспансионистская политика в регионе стала слишком затратной. Согласно этой точке зрения, Соединенные Штаты, как в прошлом Великобритания, стали жертвой «имперского перенапряжения». Другие утверждают, что американские политические инициативы, особенно недавние переговоры по иранской ядерной программе, отдалили Вашингтон от традиционных союзников на Ближнем Востоке. Иными словами, США отступают не по своей воле, их вынуждают это сделать.
Однако в действительности отступление спровоцировано событиями не в Америке, а в самом регионе. Развитие политической и экономической ситуации на Ближнем Востоке сократило возможности эффективного американского вмешательства до минимума, Вашингтон признал это и начал действовать соответствующим образом. Учитывая вышесказанное, Соединенным Штатам стоит продолжать умеренное отступление, по крайней мере пока нет серьезной угрозы их ключевым интересам.
Обратно к норме
После Второй мировой войны и до терактов 11 сентября 2001 г. Соединенные Штаты были основным гарантом статус-кво на Ближнем Востоке, прибегая к военным интервенциям лишь в исключительных случаях. Прямого военного участия США не было вовсе, либо оно являлось номинальным или непрямым во время арабо-израильской войны 1948 г., суэцкого кризиса 1956 г., шестидневной войны 1967 г., «войны Судного дня» в 1973 г. и ирано-иракской войны в 1980-е годы. Миротворческая миссия Соединенных Штатов в Ливане в 1982–1984 гг. завершилась провалом и обусловила появление доктрины «подавляющей силы», которая препятствовала американским интервенциям вплоть до неожиданного вторжения Саддама Хусейна в Кувейт в 1990 г., заставившего Вашингтон вмешаться.
Америке не нужна была политика с прицелом на будущее, потому что ее цели совпадали с интересами стратегических союзников и партнеров в регионе, и достичь их можно было посредством экономических и дипломатических отношений в сочетании с незначительным военным присутствием. США и арабские государства Персидского залива были заинтересованы в стабильности нефтяных поставок и цен, как и в политической стабильности вообще. После иранской революции 1979 г. общей задачей для Соединенных Штатов, Израиля и государств Персидского залива стало сдерживание Ирана. Начиная с Кэмп-Дэвидских соглашений (1978 г.) интересы США, Египта и Израиля все больше сближались, а трехсторонние отношения укреплялись благодаря существенной американской помощи и Египту, и Израилю. И даже после терактов 11 сентября у Соединенных Штатов, Израиля и арабских государств Персидского залива были общие приоритеты в борьбе с терроризмом.
Но за последние 10 лет несколько факторов, в основном не связанных с политической повесткой Вашингтона, ослабили фундамент этих альянсов и партнерств.
Прежде всего разработка технологии гидравлического разрыва пластов резко сократила прямую зависимость США от нефти из Персидского залива и снизила стратегическую ценность и приоритетность отношений с Саудовской Аравией и небольшими государствами Залива. На самом деле скоро Соединенные Штаты опередят Саудовскую Аравию, став крупнейшим мировым производителем нефти, и им придется импортировать значительно меньше ископаемых видов топлива. Хотя страны Персидского залива продолжат определять мировые цены на нефть, а американские компании сохранят свою долю в месторождениях Залива, США значительно расширят пространство для политического маневра.
Распространение и укрепление джихадизма также ослабило стратегические связи между Соединенными Штатами и их региональными партнерами. Десять лет назад американское давление в сочетании с шоком от масштабных атак «Аль-Каиды» убедили саудовцев и их соседей начать активную борьбу с джихадистами. Но сегодня подавление джихадизма отошло на второй план, а главной целью стран Персидского залива стало свержение сирийского президента Башара Асада и сдерживание его покровителей в Иране. Они поддерживают суннитских экстремистов в Сирии, несмотря на увещевания Вашингтона и желание Саудовской Аравии избежать прихода к власти в Дамаске радикалов после падения режима Асада. Региональные партнеры считают себя все менее подотчетными Вашингтону, а тот, в свою очередь, все в меньшей степени полагает себя обязанным защищать их интересы, которые становятся местническими и все дальше отходят от американских интересов и ценностей.
Кроме того, повсеместная радикализация ислама привела к возникновению панисламистской идентичности, что затрудняет участие Запада в делах Ближнего Востока. Возьмем, к примеру, нежелание многих представителей умеренной суннитской оппозиции в Сирии принимать помощь Европы или Америки, поскольку она лишит их доверия в глазах исламистов.
В то же время, с точки зрения США, Ближний Восток с его подорванными политическими и экономическими функциями стал слишком сомнительным местом для инвестиций. Регион испытывает нехватку воды, трудности с сельским хозяйством и серьезный переизбыток трудовых ресурсов. Из все еще функционирующих ближневосточных государств большинству приходится иметь дело со значительным внешним долгом и дефицитом бюджета, содержать огромный и неэффективный аппарат госслужащих, субсидировать топливо и другие нужды населения. Снижение доходов от нефти ограничит возможности стран Залива по финансированию этих изношенных механизмов. Из-за конфликтов, которые во многих странах Ближнего Востока находятся в активной стадии, значительная доля населения вынуждена покинуть свои дома, молодежь лишилась надежд на будущее и возможности получать образование. Эти обстоятельства ведут к полному отчаянию или, что более опасно, к политической и религиозной радикализации. Попытки превратить Ближний Восток в инкубатор либеральной демократии, чтобы утихомирить молодых мусульман, проваливались, даже когда у Соединенных Штатов было достаточно денег и оснований для оптимистичной оценки проекта – в первые годы после терактов 11 сентября.
Наконец, группы, которые когда-то были надежными бастионами прозападных настроений на Ближнем Востоке – военные, элита нефтяной отрасли, светские технократы – переживают спад своего влияния. А в случаях, когда традиционно прозападные элементы сохранили влияние, их интересы и политика серьезно отличаются от американской. Например, в Египте военные на протяжении десятилетий служили опорой отношений с американцами. После переворота 2013 г., в результате которого бывший армейский генерал Абдель-Фаттах ас-Сиси оказался во главе нового авторитарного режима, военные получили больше контроля в стране, чем когда-либо ранее. Но это вряд ли сулит что-то хорошее Вашингтону: если считать прошлое прологом, то жесткие действия военных против «Братьев-мусульман», вероятно, приведут к росту насилия со стороны джихадистов и подвергнут США рискам, которых они стремились избежать, оказывая помощь Египту. Надежды 1950-х – 1960-х гг. на появление светской, технократической, ориентированной на Запад арабской элиты, которая поведет за собой общество, давно исчезли.
Мощные, но бессильные
Одновременно со снижением значимости Ближнего Востока для Вашингтона и расхождением интересов Соединенных Штатов и их традиционных партнеров уменьшаются и возможности американских вооруженных сил добиваться кардинальных перемен в регионе. Децентрализация «Аль-Каиды» и появление ИГИЛ – экспедиционной армии джихадистов и квазигосударства – увеличили асимметрию между военным потенциалом США и первостепенными угрозами, стоящими перед регионом. Когда оккупированный американцами Ирак скатился в 2006 г. к гражданской войне, Пентагон занялся улучшением стратегии и тактики действий против повстанцев, перекроив военную структуру и сделав акцент на борьбе с нерегулярными формированиями и спецоперациях. Но либеральным и ответственным демократическим правительствам трудно проявлять стойкость и жестокость, которые обычно требуются для подавления непокорных и преданных идее местных жителей – особенно если речь идет об общественном движении регионального масштаба, не признающем физических и политических границ, как ИГИЛ. Это особенно справедливо, если у внешней державы нет в регионе партнеров со сплоченной бюрократией и народной легитимностью. Соединенные Штаты по-прежнему обладают достаточными ресурсами и военным потенциалом, чтобы вести войны против современных национальных государств и добиваться в них убедительной победы и вполне конкретных результатов. Но американцы на собственном горьком опыте узнали, как сложно управлять и тем более манипулировать этническими группами, заряженными религиозными идеями.
Военная операция американской коалиции против ИГИЛ, несомненно, может привести к впечатляющим победам на поле боя. Но последствия конфликта в конечном итоге докажут бессмысленность проекта. Для закрепления тактических побед потребуется политическая воля и поддержка американского общества; размещение большой группы гражданских экспертов по восстановлению и стабилизации; детальные знания о народе, за судьбу которого победоносные Соединенные Штаты возьмут на себя ответственность, и, что особенно проблематично, постоянный военный контингент для обеспечения безопасности населения и инфраструктуры. Даже при наличии всех этих условий Вашингтону будет непросто найти зависимых и преданных избирателей, клиентов или союзников, готовых помочь. Все это звучит знакомо, потому что вышеперечисленный набор условий США не смогли собрать в ходе двух последних интервенций на Ближнем Востоке – вторжении в Ирак в 2003 г. и натовских бомбардировок Ливии в 2011 году. Проще говоря, американцы, скорее всего, проиграют еще одну войну на Ближнем Востоке по тем же причинам, по которым проиграли две предыдущие.
Даже менее интенсивный, контртеррористический подход к ИГИЛ, который потребует постоянных ударов беспилотников и периодических операций спецназа, несет серьезные риски. Так, сопутствующий ущерб от атак беспилотников мешает правительству Пакистана расширять сотрудничество с США. Пять лет назад американские военные с гордостью рапортовали о спецоперациях в Афганистане, в результате которых были уничтожены или захвачены многие руководители «Талибана». Но жертвы среди мирного населения в ходе этих рейдов подорвали стратегические цели, так как вызвали негодование местных жителей и подтолкнули их к талибам.
Поэтому американские политики должны испытывать серьезные сомнения по поводу участия в любом из нынешних конфликтов на Ближнем Востоке. Особенно если эти сомнения объясняют и оправдывают нежелание администрации Обамы более активно вмешиваться в ситуацию в Сирии. С 2012 по начало 2013 гг. администрация рассматривала полный спектр вариантов по Сирии, включая введение бесполетной и буферной зоны, насильственную смену власти (для этого потребовалась бы более значительная военная помощь противникам Асада) и ограниченные ответные удары против режима в случае применения химического оружия. Но растущее участие иранского Корпуса стражей исламской революции и ливанской шиитской группировки «Хезболла» в защите Асада означало бы неприкрытую опосредованную войну с Ираном, которая в случае эскалации охватила бы весь регион. Плодотворные переговоры по сворачиванию ядерной программы Тегерана оказались бы невозможны, а Соединенным Штатам пришлось бы перекрывать уровень обязательств и инвестиций Ирана в этом конфликте. Кроме того, американская интервенция получила бы минимальную международную поддержку: Китай и Россия наложили бы вето на любую резолюцию ООН, разрешающую операцию, как поступали и с менее жесткими резолюциями, а Лига арабских государств и НАТО не одобрили бы операцию. Масштабное военное вмешательство Запада скорее всего подстегнуло бы распространение джихадизма в Сирии, как это происходило в других странах.
Сохранять спокойствие и двигаться дальше
Основной интерес Вашингтона на Ближнем Востоке – региональная стабильность. На данный момент факторы, сдерживающие США, и сложная, взаимозависимая природа американских интересов в регионе (а также вероятность длительного соперничества Соединенных Штатов и Китая, которое неизбежно переключит стратегическое внимание США на Азиатско-Тихоокеанский регион) позволяет предположить, что лучшая для Вашингтона политика на Ближнем Востоке – «оффшорное балансирование», как выражаются теоретики международных отношений. Это означает воздерживаться от участия в военных операциях за рубежом и квазиимперского строительства государств, сосредоточившись на выборочном использовании рычагов влияния для оказания воздействия и защиты американских интересов. Вашингтону следует экономить свою власть на Ближнем Востоке, если только не появится экзистенциальная угроза региональным союзникам, что маловероятно. Этот подход требует избегать дальнейшего проецирования американской военной мощи на Ближнем Востоке – например, масштабного развертывания сухопутных сил для борьбы с ИГИЛ.
Критики сдержанности утверждают, что в отсутствии твердо заявленной американской власти Иран или другие противники Соединенных Штатов усилят свои позиции – и тогда сдержанность приведет к войне. Но враги США, скорее всего, будут судить о решимости Вашингтона по условиям, сложившимся к тому моменту, когда они всерьез задумаются об агрессивных действиях, независимо от условий, существовавших за годы или месяцы до этого. Пока пределы сдержанности Вашингтона будут четко обозначены, и он будет давать понять, что альянс с Израилем остается без изменений, Иран не захочет конфликтовать с Израилем или действовать более агрессивно в Ираке, Сирии, Йемене или других странах региона. Тегеран попросту станет опасаться решительного ответа США, который приведет к срыву ядерной сделки и возвращению болезненных санкций, в первую очередь заставивших Исламскую Республику сесть за стол переговоров. В любом случае нельзя с полной уверенностью сказать, спровоцирует ли потенциального противника угроза применения силы или будет его сдерживать, потому что люди, принимающие решения, часто неверно судят о представлениях и темпераменте оппонентов.
Является ли сближение многообещающей парадигмой американо-иранских отношений – увидим. Тегеран явно стремится оказывать влияние, где это возможно, но пока не ясно, сможет ли он доминировать в регионе. Иранскому влиянию в Ираке способствовал вакуум, возникший в результате вторжения, но в более широком смысле оно обусловлено демографическим и политическим главенством иракских шиитов и поэтому неизбежно. Пока Багдад в борьбе с ИГИЛ зависит от США, они должны сохранять рычаги воздействия на иракскую политику и ограничивать влияние Ирана. Поддержка повстанцев-хоуситов в Йемене и диссидентов-шиитов в Бахрейне – скорее конъюнктурный, чем стратегический шаг Ирана, и он вряд ли кардинально изменит баланс сил в обеих странах. Участие Тегерана в палестино-израильском конфликте не дотягивает до уровня стратегического вызова: палестинская группировка ХАМАС не смогла трансформировать иранскую щедрость в серьезное преимущество в Израиле, не говоря уже о Египте и Палестинской администрации, оппонентах ХАМАС. Иранские позиции в Ливане и Сирии прочны десятки лет, но, хотя ставленники Тегерана в этих странах постоянно подтверждали обязательства защищать режим Асада, им не удалось предотвратить фактический распад страны. Даже если Иран решит превратить Сирию в свой Вьетнам, максимум, чего он сможет добиться в борьбе с пользующейся зарубежной поддержкой антиасадовской оппозицией, – консолидация статус-кво, а скромный успех придется разделить с Москвой. Таким образом, Сирия может стать трамплином для дальнейших маневров Ирана, но вряд ли превратится в плацдарм для контролирования региона. Иными словами, несмотря на заключение сделки по ядерной программе, сейчас Иран вряд ли способен делать больше – а скорее даже меньше – чем в прошлом.
Ядерная сделка расколола американцев и израильтян, считающих ее условия слишком мягкими и не способными помешать иранцам разрабатывать ядерное оружие. Но разногласия едва ли возымеют серьезные практические последствия. У Вашингтона есть обязательства по сохранению уникальных отношений с Израилем, а также стратегическая заинтересованность в двусторонних связях с израильскими военными – самой мощной силой в регионе. Ядерная сделка с Ираном также расстроила государства Персидского залива. Но глобальные экономические обязательства и контртеррористические интересы Вашингтона требуют сохранения стратегических отношений с этими странами, в первую очередь Саудовской Аравией. Кроме того, у государств Залива более тесные культурные связи с США, чем с другими ведущими державами: элита этих стран отправляет детей в американские университеты, а не в Китай, Россию или Европу.
Израилю и государствам Персидского залива не стоит паниковать: здравый смысл требует устойчивого военного присутствия Соединенных Штатов в регионе, чтобы не допустить дальнейшего распространения ИГИЛ (например, на Иорданию) и нарушения Ираном условий ядерной сделки, а также быстрого реагирования на его дестабилизирующие шаги вроде масштабного вторжения сухопутных сил в Ирак. Американское военное присутствие в регионе сохранится. По крайней мере одна авианосная ударная группа должна находиться в Аравийском море. Структуру и численность контингента американских военных баз на Ближнем Востоке следует оставить без изменений. Авиаудары по ИГИЛ нужно продолжать, а американские войска могут быть выборочно развернуты для ликвидации террористических угроз, ограниченного ответа на чудовищные злодеяния или на случай природных катастроф. Но последовательная политика сдержанности требует избегать крупных наземных интервенций на Ближнем Востоке, а региональных партнеров нужно убедить брать больше ответственности за собственную безопасность.
Более скромные цели – более крупные результаты
В дополнение к твердому отказу от военных вмешательств, характерных для периода после 11 сентября, Вашингтону следует пересмотреть дипломатические приоритеты. Последствия арабских восстаний 2011 г. – особенно в Египте, Ливии и Сирии – продемонстрировали, что в основном общество на Ближнем Востоке не готово к кардинальным шагам в сторону демократии, поэтому попытки США продвигать политическую либерализацию должны быть более мягкими. Американским властям также следует признать, что в среднесрочной перспективе устойчивого мира между Израилем и Палестиной не достичь. Упрямая решимость Соединенных Штатов добиться этой цели даже при неблагоприятных условиях создала моральные риски. Израильские правительства последовательно и практически безнаказанно противодействовали миротворческим усилиям американцев, твердо зная, что те будут пытаться снова и снова. В то же время неспособность Вашингтона привести стороны к соглашению способствовала восприятию США как державы, теряющей влияние, – при этом некоторые союзники Соединенных Штатов в Персидском заливе считают американское давление на Израиль еще одним примером того, что США как союзнику нельзя доверять.
Соединенные Штаты должны всегда поддерживать цели демократизации и палестино-израильского мирного урегулирования. Но в среднесрочной перспективе, вместо того чтобы стремиться к нереалистичным целям, Вашингтону стоит зарабатывать капитал на иранской ядерной сделке, чтобы наладить отношения с Тегераном. Если реализация соглашения пойдет относительно гладко, можно проверить иранскую гибкость в других сферах, но стараясь не спровоцировать какого-либо временного соглашения между Ираном и Саудовской Аравией – хотя, как и раньше, это кажется маловероятным. Один из вариантов – собрать вместе Иран и другие государства, чтобы попытаться остановить гражданскую войну в Сирии путем политического соглашения. Ключевые игроки – США, Россия, Иран и державы Персидского залива – начинают понимать, что, хотя мечта ИГИЛ о разрушающем границы халифате недостижима, непрекращающийся конфликт в Сирии может укрепить позиции группировки и ускорить распространение ее экстремистской идеологии.
Все игроки начали осознавать, что предпочтительный для каждого из них способ разрешения сирийского кризиса, скорее всего, не сработает. Соединенным Штатам и их партнерам в Заливе поддержка насильственной смены режима сирийскими повстанцами, которые все больше ассимилируются с ИГИЛ, кажется контрпродуктивной и сомнительной. В то же время после четырех лет военной безысходности ясно, что поддержка Асада Ираном и недавняя активизация помощи режиму со стороны России могут сохранить статус-кво, но не изменят ситуацию кардинально в пользу Асада. Тегеран и Москва понимают, что независимо от их поддержки режим Асада сейчас слабее, чем когда-либо раньше, и восстановить унитарное правление в Сирии, вероятно, не получится. Вот почему Иран и Россия недавно продемонстрировали заинтересованность в поиске путей урегулирования посредством переговоров. Хотя заявления России об отсутствии тесных связей с Асадом кажутся лицемерными, Москва не препятствовала расследованию Советом Безопасности ООН предполагаемых случаев применения бочковых бомб с хлором. В августе 2015 г. Россия поддержала заявления Совета Безопасности о «политическом переходе» в Сирии. Тегеран при содействии «Хезболлы» продвигает мирный план, предполагающий создание правительства национального единства и пересмотр конституции, при этом Асад или его режим останутся во главе страны по крайней мере на ближайший период.
Реалистичный механизм, который позволил бы воспользоваться условным совпадением интересов, пока не выстроен. Но иранская ядерная сделка продемонстрировала потенциал дипломатии в разрешении региональных кризисов. Помимо противодействия распространению джихадизма, соглашение о прекращении гражданской войны в Сирии, достигнутое при посредничестве Вашингтона, смягчит, а в конечном итоге и остановит самый острый мировой гуманитарный кризис, восстановит утраченный авторитет США в регионе. Эффективное и включающее всех урегулирование сирийского конфликта подкрепит налаживание отношений с Ираном и поможет убедить Израиль в действенности нового подхода американцев.
Вашингтон должен использовать дипломатические инструменты, наработанные в ходе ядерных переговоров ведущими державами – в особенности представителями Соединенных Штатов и Ирана, – чтобы придать импульс многосторонним переговорам по Сирии. Первым шагом может стать новое заседание конференции «Женева-2», которая собиралась в феврале 2014 г., теперь к участникам должен присоединиться Иран. Россия настаивает, что уход Асада не может быть условием политических переговоров, но это не должно стать препятствием для сделки, а скорее привлечет Тегеран к участию. Кстати, теперь госсекретарь Джон Керри может этому поспособствовать, напрямую обратившись к главе иранского МИДа Мохаммаду Джаваду Зарифу. Осторожное одобрение ядерного соглашения странами Залива и участие Саудовской Аравии в трехсторонних переговорах по Сирии с США и Россией в начале августа позволяют предположить, что эти страны все больше осознают значимость дипломатии как средства ослабления стратегической напряженности в отношениях с Ираном. Понимая актуальность угрозы ИГИЛ, Катар, Саудовская Аравия и Турция могут отказаться от требования ухода Асада как условия переговоров.
Разумеется, сложнее всего добиться приемлемых договоренностей по переходному периоду. Одна из возможностей – формирование органа исполнительной власти с участием различных политических сил, который сможет вытеснить ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусра», сирийскую группировку, аффилированную с «Аль-Каидой», как косвенно отмечалось в августовском заявлении СБ ООН. Еще один вариант – разделение страны и создание некой конфедерации взамен централизованного правления из Дамаска. Тактическое перемирие между режимом и умеренной оппозицией могло бы стать фундаментом для дальнейших политических договоренностей и позволило бы сторонам сосредоточиться на борьбе с общим врагом – джихадистами.
Зрелое отступление
Длительный период американского доминирования на Ближнем Востоке заканчивается. Война в Ираке подорвала доверие к Вашингтону и укрепила позиции его противников, но к моменту американского вторжения в регион уже стал менее податлив. Соединенные Штаты не могут и не должны уходить в буквальном смысле слова, им следует постепенно отступать ради стратегических приоритетов в других регионах, а также осознавая снижение своего влияния. Ни США, ни их региональные партнеры не хотят, чтобы Иран обладал ядерным оружием или существенно увеличил влияние в регионе. И никто из основных игроков в регионе не желает резкого скачка мощи ИГИЛ или других салафитских джихадистских группировок. Но поскольку рычагов американского воздействия стало меньше, нужно сосредоточиться на укреплении региональной стабильности. Это более разумный подход, чем продвижение политической либерализации и палестино-израильское урегулирование, к которым стремилась администрация Обамы, или попытки трансформировать регион силой – стратегия, на которую полагалась администрация Буша и получила печальные результаты.
В частности, Вашингтону пора признать, что уменьшение его военной роли будет означать большую независимость союзников в военных решениях. В свою очередь, союзники должны понимать, какую поддержку им готовы оказать Соединенные Штаты, прежде чем начинать рискованные военные авантюры вроде ударов Саудовской Аравии по повстанцам-хоуситам в Йемене. Америке и ее партнерам нужно улучшать двусторонние и многосторонние контакты и планирование. США должны более четко сформулировать, что может побудить их к военному вмешательству и какой уровень силы они готовы применить. Кроме того, нужно выработать детальный совместный план возможных ответных реакций.
Израиль по-прежнему предпочитает противодействовать Ирану, а не налаживать отношения, и Вашингтону придется проследить, чтобы выполнение ядерного соглашения убедило израильтян в эффективности такого подхода. На фоне укрепления ИГИЛ страны Персидского залива и Турция немного смягчили позицию в отношении американского подхода к Ирану, а также мнения Вашингтона, что сдерживание джихадизма сейчас важнее смены режима в Сирии.
Для успешного и конструктивного отступления с Ближнего Востока Соединенным Штатам придется приложить максимум усилий, чтобы избежать прямых противоречий с приоритетами своих союзников и партнеров – то же самое должны сделать и друзья Америки в регионе. Для этого понадобится целенаправленная дипломатия и четкая артикуляция приверженности Вашингтона своим основным интересам. Он должен, в частности, подчеркивать, что сделка по Ирану фактически будет обеспечивать устойчивое дипломатическое участие США в делах региона, а не угрожать ему. Вместо того чтобы двигаться назад, Вашингтон должен стремиться к здоровому равновесию в отношениях с Ближним Востоком, что предполагает сокращение управленческой роли Америки. Политика последних 14 лет, основанная на военном вмешательстве, стала отклонением от длительной истории американской сдержанности, но она не должна превратиться в новую долгосрочную норму.

Смысл и назначение воинственности
Что защищает Россия в рамках своей политики
Андрей Яковлев – кандидат экономических наук, директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ.
Резюме Если в 2008–2012 гг. российское правительство являлось реальным центром принятия решений, а в 2012–2013 гг. эту роль выполняла президентская администрация, то с началом конфликта на Украине данная функция перешла к Совету безопасности.
Данная статья основывается на результатах исследований, проводившихся автором в 2015 году в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ
Термин “militant”, предложенный Сильваной Малле для характеристики современной российской политики, имеет латинские корни и означает активность в отстаивании определенных идей и принципов (в логике выражений «воинствующий материализм» или «воинствующая церковь»). На мой взгляд, своей концепцией Сильвана Малле пытается объяснить явления, для описания которых в российских СМИ и социальных сетях часто используется образ «Россия, встающая с колен». Большой вопрос, однако, заключается в том, что именно пытается отстоять Россия своей политикой, которая многими в мире воспринимается сегодня как агрессия.
Предыстория «разворота» в отношениях России с Западом
На первый взгляд может показаться, что радикальное изменение внешней и внутренней политики России в первую очередь связано с событиями в Крыму и на востоке Украины в 2014 году. Однако, по моему мнению, принципиальные изменения во внутренней и внешней политике начались существенно раньше – уже с середины 2000-х годов. При этом базовые установки, лежавшие в основе этого «нового курса», менялись во времени и прошли как минимум четыре разных этапа. Мое представление об общих характеристиках этих этапов отражено в Таблице 1.
Хотя первый из выделенных в таблице этапов характеризуется преимущественно партнерскими отношениями с Западом, он важен для понимания дальнейшего развития. Одним из ключевых событий этого этапа с точки зрения концепции, предложенной Сильваной Малле, стало обеспечение экономической независимости России. До того в течение практически 15 лет сначала СССР, а потом Россия хронически не могли наполнить государственный бюджет для финансирования собственных расходных обязательств. Это вело к привлечению западных займов, которые предоставлялись на определенных условиях и воспринимались как инструмент давления на советское и затем российское правительство.
Девальвация 1998 г. создала стимулы для инвестиций и роста производства. В дальнейшем высокие темпы роста экономики поддерживались благодаря укреплению государственного аппарата и формированию «общих правил игры» в рамках либеральной экономической политики. Все вместе это сделало возможным существенное повышение собираемости налогов и погашение долгов, ставших причиной дефолта. Тем самым Россия впервые за долгое время оказалась способна проводить независимую политику.
Однако внимание российских властей в этот период прежде всего было сосредоточено на решении вопросов внутренней политики – таких как обеспечение управляемости регионами, борьба с терроризмом и противодействие политическому давлению олигархов. При этом, несмотря на восстановление государственного контроля над центральными телеканалами, сохранялась активная политическая конкуренция (включая реальную многопартийность в Государственной думе).
Внешней политике этого периода (несмотря на напряжение в связи с конфликтом в Югославии) были присущи преимущественно партнерские отношения с Западом. Особо стоит отметить эмоциональную реакцию на теракт 11 сентября 2001 года. В целом борьба с терроризмом могла рассматриваться как важный фактор, объединяющий Россию и Запад. Однако открытость России к равноправному сотрудничеству в этот период не нашла отклика на Западе. Характерно вступление в НАТО в 2004 г. новой большой группы стран Восточной Европы.
Переход к «новому курсу» в 2004 г. можно связать с рядом событий. Во-первых, это «дело ЮКОСа», которое объективно отражало острое соперничество между ключевыми группами элиты в борьбе за контроль над природной рентой. Поражение крупного бизнеса в этом конфликте, подкрепленное массовой поддержкой, которую на фоне ареста Михаила Ходорковского власть получила на парламентских и президентских выборах 2003–2004 гг., привело к изменению соотношения сил в правящей коалиции. Однозначно стали доминировать федеральная бюрократия и силовики, не удовлетворенные геополитическими итогами 1990-х гг., а крупный бизнес (всегда занимавший более прагматические позиции по отношению к Западу) оказался в заведомо подчиненном положении.
Во-вторых, существенную роль в смене курса сыграли «цветные революции», произошедшие в 2003–2005 гг. в Грузии, на Украине и в Киргизии и активно поддержанные США и ведущими европейскими странами. Консервативная часть российской элиты воспринимала их как наступление на интересы России на постсоветском пространстве.
Повороту к «новому курсу» также способствовал бурный экономический рост середины 2000-х гг. и резкое повышение цен на нефть на мировом рынке, сопровождавшиеся притоком прямых иностранных инвестиций и прекращением оттока капитала. В сочетании с зависимостью европейских стран от поставок российских энергоресурсов все это порождало в высшей политической элите ощущения нового статуса России как «энергетической супердержавы» и претензии на восстановление ее роли в мировой политике. Известную речь Владимира Путина на конференции по безопасности в Мюнхене в феврале 2007 г. можно воспринимать как концентрированное публичное проявление этого курса. Одним из его ключевых элементов стало продвижение идеи «нового глобального порядка», учитывающего интересы не только развитых, но и крупнейших развивающихся стран. (Тем самым создавались предпосылки для геополитического альянса с Китаем, Индией и Бразилией.) Война с Грузией в августе 2008 г. в этом контексте может рассматриваться как косвенная демонстрация силы, подтверждающая претензии России на новую роль в геополитике.
Однако кризис 2008–2009 гг. (с исключительно глубоким падением российского ВВП, не соответствовавшим всем базовым макроэкономическим индикаторам) наглядно показал, что модель экономического развития, сложившаяся в России в 2000-е гг., неадекватна новым реалиям. Претензии на иную роль в мировой политике оказались не подкреплены экономическим потенциалом. Осознание этого привело к запросу на модернизацию и попыткам диалога с бизнесом и экспертным сообществом в 2009–2011 годах. Следствиями диалога стали меры по улучшению бизнес-климата, а также разработка в 2011 г. Стратегии-2020 с привлечением широкого круга экспертов. К этому же периоду относится попытка «перезагрузки» отношений между Россией и Америкой. Все эти шаги, однако, сопровождались программой модернизации армии и ростом военных расходов (несмотря на заметный дефицит бюджета).
Основные черты и противоречия «нового курса»
Новый поворот к более «воинственной политике» в явном виде начался с середины 2012 года. С формальной точки зрения этот поворот можно считать «консервативной» реакцией на массовые политические протесты в Москве против фальсификаций на парламентских выборах в конце 2011 – начале 2012 года. Однако более фундаментальные причины связаны с «арабской весной». Серия революций в арабских странах весной 2011 г. стала шоком для российской политической элиты, который можно сравнить с событиями 1968 г. в Праге и их влиянием на высшее советское руководство. Страх перед развитием событий в России по египетскому или ливийскому сценарию в контексте массовых политических протестов в Москве против фальсификаций на парламентских выборах привел к защитной реакции. Она проявлялась в разных формах.
В первую очередь следует выделить пакет мер по улучшению делового климата. В частности, в феврале 2012 г. Путин декларировал Национальную предпринимательскую инициативу с задачей радикального улучшения позиций России в рейтинге Doing Business. Тогда же объявлено о распространении процедур оценки регулирующего воздействия (ОРВ) на налоговое и таможенное законодательство, а также на региональные нормативные акты, о введении в президентской администрации поста Уполномоченного по защите прав предпринимателей и планах проведения амнистии для осужденных за экономические преступления. Поскольку все наиболее радикальные меры из этого пакета были объявлены в начале 2012 г. в период президентской кампании, можно предположить, что тем самым власть пыталась удержать бизнес (прежде всего средний и малый) от поддержки оппозиции.
Существенным элементом реакции власти на политические протесты 2011–2012 гг. можно считать повышение уровня доходов работников бюджетного сектора (как базовой группы социальной поддержки сложившегося политического режима). Инструментом достижения цели стала серия президентских указов, подписанных в мае 2012 г. и предусматривавших повышение заработной платы врачам, учителям и другим работникам социальной сферы. Однако ответственность за решение такой задачи в основном возлагалась на региональные власти, что в дальнейшем привело к резкому ухудшению состояния региональных бюджетов.
Также следует отметить активизацию борьбы с коррупцией, включая очень быстрое принятие закона о декларировании расходов чиновников в начале 2012 г. и введение ответственности за несоответствие расходов и доходов. Эти действия в целом противоречили публичным заявлениям высших российских чиновников еще осенью 2011 г. о том, что подобные меры, предусмотренные статьей 20 Конвенции ООН о борьбе с коррупцией, нарушают «презумпцию невиновности». В дальнейшем борьба с коррупцией включена в число приоритетных направлений деятельности ФСБ. В итоге с 2013 г. наблюдался заметный рост числа уголовных дел и арестов высокопоставленных чиновников, включая губернаторов и заместителей федеральных министров. Можно предположить, что таким образом предполагалось повысить эффективность функционирования госаппарата и снизить недовольство качеством общественных благ и государственных услуг, которое лежало в основе протестов 2011 года.
Другой стороной реакции на политические протесты стало явное подавление политической оппозиции (начиная с разгона митинга на Болотной площади 6 мая 2012 г. и включая последующие судебные процессы против участников митинга) и ужесточение контроля деятельности НКО путем принятия закона об «иностранных агентах». Также после победы Владимира Путина на президентских выборах резко усилилась антизападная и антиамериканская риторика в Государственной думе и провластных СМИ. Еще одной составной частью усиления антизападных трендов стали меры по «национализации элит» – запрет депутатам и чиновникам иметь счета в зарубежных банках, а также ограничения на поездки за границу.
Наконец, следует отметить дальнейший рост военных расходов, а также ассигнований на правоохранительную деятельность. Можно предположить, что для правящей элиты задачей здесь было не только усиление реальной военной мощи, но также (в не меньшей степени) сохранение лояльности силовых структур, которые после событий 2011–2012 гг. стали восприниматься как главная опора режима.
Этот разворот в политике сопровождался попытками разработки «альтернативной идеологии». В частности, осенью 2012 г. при неформальной поддержке кремлевской администрации был создан ультраконсервативный Изборский клуб. В своем первом докладе, опубликованном в январе 2013 г., эксперты Изборского клуба исходили из неизбежности «третьей мировой войны», которую в течение 5–7 лет начнет «мировая финансовая олигархия» и которая прежде всего будет направлена против России. Отсюда следовали аргументы о позиционировании России как «осажденной крепости» и необходимости мобилизации в духе Петра I и Сталина.
Таким образом, на первый взгляд, после периода неопределенности в 2009–2011 гг. высшая политическая элита сделала выбор, и с 2012 г. наблюдается возврат к политике “militant Russia”. Отличие же от середины 2000-х гг. заключается в более резких формах ее осуществления. Однако при схожести риторики существенно различаются базовые факторы, лежавшие в основе политического курса в эти два периода.
В середине 2000-х гг. эта политика прежде всего была ориентирована на внешнеполитические цели. Предлагая альтернативу однополярному миру, сложившемуся после распада СССР, и говоря о необходимости нового мирового порядка, российская элита хотела добиться признания и уважения глобальных элит – как в развитых, так и в развивающихся странах. При этом данная политика базировалась на внутреннем консенсусе по следующим ключевым вопросам. Во-первых, полный контроль правящей элиты над политическими процессами в стране, подтверждавшийся результатами выборов 2003–2004 и 2007–2008 годов. Во-вторых, уверенность в том, что Россия с ее энергетическими ресурсами обладает достаточной экономической мощью для проведения независимой политики, соответствующей ее статусу ядерной державы. Эта уверенность подкреплялась динамикой мировых цен на нефть, притоком инвестиций и высокими темпами роста экономики.
Однако кризис 2008–2009 гг. наглядно показал уязвимость модели экономического развития, сформированной в 2000-е годы. В свою очередь протесты 2011 г. (ставшие неожиданностью как для Кремля и абсолютного большинства экспертов, так и для представителей оппозиции) поставили под вопрос тезис о полном контроле политических процессов. В сочетании с событиями «арабской весны» это привело к тому, что в новой политике, проводимой с 2012 г., гораздо более важным стало внутриполитическое измерение и защитная функция. Если в середине 2000-х гг. с помощью воинственной риторики российская элита хотела обеспечить себе достойное место в глобальной элите, то теперь речь шла о подтверждении права на власть в собственной стране. Но при этом высшая политическая элита оказалась неспособной предъявить другим элитным группам и в целом обществу убедительный образ будущего. Очень характерным в этом отношении является абсолютное доминирование апелляций к великому прошлому России в государственной пропаганде.
В этом контексте перечисленные выше меры по восстановлению контроля над политическими процессами и обеспечению поддержки режима основными социальными группами оказали противоречивое влияние на экономических агентов, а также на чиновников в самом госаппарате. В частности, уже в 2012 г. было понятно, что у государства нет денег на рост финансирования бюджетного сектора при одновременном форсированном наращивании военных расходов. Упорное декларирование этих задач порождало сомнения в общей адекватности экономической политики и поддержании макроэкономической устойчивости. Следствием стало нарастание оттока капитала из страны.
Усилившееся давление на бюрократический аппарат в рамках борьбы с коррупцией также имело противоречивые следствия. В условиях избыточного и противоречивого регулирования, сложившегося в 2000-е гг., усиление административного контроля повысило для чиновников риски проявления любой инициативы – и по факту снижало у добросовестных представителей бюрократии стимулы к созданию адекватной среды, способствующей экономическому развитию.
В итоге уже в 2013 г. наблюдалось существенное замедление экономического роста (1,3% по сравнению с консенсусными прогнозами начала года на уровне 3–3,5% при отсутствии значимых колебаний цен на нефть), сокращение инвестиций и увеличение оттока капитала. Не менее важным стало начавшееся на этом фоне сокращение политической поддержки власти (снижение личных рейтингов Путина с лета 2013 г.). Эти процессы, на мой взгляд, предопределили переход к следующей стадии в эволюции российской политики, которую мы наблюдаем с 2014 г. и которая связана с событиями на Украине.
Кризис стал результатом глубоко неадекватной политики по отношению к Украине со стороны всех заинтересованных игроков, включая Россию, Евросоюз и США. Не менее печальную роль сыграла недееспособность украинской элиты, представители которой вместо выстраивания нормальных институтов в течение двадцати лет занимались межклановой борьбой за контроль над потоками ренты и играли на противоречиях между Россией и Европой.
Однако в контексте процессов, происходивших в России, кризис на Украине скорее должен восприниматься как повод для мобилизации социальной поддержки правящего режима. Кремлевские политтехнологи действительно смогли уловить патриотические настроения, которые стали усиливаться в обществе в 2000-е годы. Следует подчеркнуть, что сам по себе патриотизм и желание гордиться своей страной – здоровое явление. В тяжелые 1990-е гг. об этом было сложно думать, но восстановление экономики и позитивные социальные изменения 2000-х гг. давали основания для реализации этого стремления. При этом исторический опыт свидетельствует, что патриотические настроения могут быть важным фактором экономического развития, консолидирующим разные социальные группы (как это было в Южной Корее или на Тайване в 1960-е – 1970-е гг. или происходит сейчас в Китае).
Однако российская правящая элита использовала этот ресурс в сугубо утилитарных целях. На фоне разворачивавшихся негативных внутриполитических тенденций кризис на Украине послужил поводом для новой мобилизации массовой политической поддержки внутри страны. Как показало развитие событий, такое решение дало ощутимый эффект «патриотической консолидации» – с резким ростом поддержки власти и повышением личных рейтингов популярности Владимира Путина до 85–90%.
Но одновременно присоединение Крыма оказало радикальное воздействие на внешнеполитическую обстановку и отношения России с Европой и Соединенными Штатами. До того российские лидеры фактически могли маневрировать, ослабляя или усиливая антизападную риторику. События в Крыму и начало военного конфликта на Украине уничтожили остатки былого доверия между сторонами и стали «точкой невозврата», после которой восстановление моделей взаимодействий, сложившихся между Россией, ЕС и США в последние 25 лет, стало принципиально невозможно. В экономике проявлением поворота стали международные санкции со стороны Запада и ответное «продовольственное эмбарго» России. Причем сейчас уже очевидно, что в том или ином виде санкции будут действовать многие годы и Россия будет существенно ограничена в доступе к глобальным рынкам капитала и новым технологиям.
Столкнувшись с ощутимыми негативными эффектами санкций, российские власти попытались компенсировать потери на европейском направлении разворотом на восток. Но достаточно быстро стало понятно, что несмотря на некоторые общие геополитические интересы, Китай намерен оказывать сколь-либо серьезную поддержку России только в той мере, в которой это соответствует его задачам.
Тем самым перспективы экономического и социального развития в ближайшие годы должны рассматриваться в контексте «опоры на собственные силы». Возможно, Россия не дойдет до состояния Ирана последних лет, но мы уже близки к тем условиям, в которых Иран жил с 1979 и до середины 2000-х годов.
Ресурсы, возможности и ограничения для развития
В подготовленном в 2013 г. докладе НИУ ВШЭ о новой модели экономического развития выделялись две достаточно большие социальные группы, которые сформировались в условиях экономического роста и социально-политической стабильности в 2000-е гг. и могли бы стать драйверами роста в новых условиях.
Во-первых, это «новый бизнес» – успешные средние компании, воспользовавшиеся возможностями роста спроса на внутреннем рынке. Перед кризисом 2008 г. в российской экономике действовали около пяти тысяч средних предприятий с оборотом свыше 10 млн долларов в год, которые устойчиво поддерживали среднегодовые темпы роста продаж на уровне 20% и более. Такие фирмы были представлены во всех отраслях, но особенно выделялись в строительстве и торговле. При этом как до, так и сразу после кризиса доля быстрорастущих фирм («газелей») в России была заметно выше, чем в развитых странах.
Именно такие компании, использовавшие благоприятную конъюнктуру для развития бизнеса (включая осуществление инвестиций, технологическое перевооружение, выход на новые рынки, привлечение иностранных партнеров), во многом обеспечивали экономический рост в 2000-е годы. При этом их собственники сознавали, что высокого социального статуса они могут добиться только в России. Именно поэтому после кризиса 2008–2009 гг. они оказались вовлечены в коллективные действия по изменению инвестиционного климата (прежде всего через ассоциацию «Деловая Россия»). Такие компании, знающие российский рынок, обладающие финансовыми ресурсами и управленческими командами, могли бы стать базой для новой модели экономического роста. Однако для этого у них должны быть достаточные стимулы для инвестиций.
Во-вторых, существенную роль в структуре общества в 2000-е гг. стала играть «новая бюрократия» – представленная как чиновниками разных уровней, так и руководителями учреждений общественного сектора. Представители этой группы восстановили свой социальный статус и стали получать достаточно высокие доходы. Также (в том числе благодаря заметному обновлению персонального состава этой группы) у них вырос уровень квалификации и сформировались необходимые профессиональные компетенции. Эти люди знают, как управлять регионами, муниципалитетами, университетами, школами и больницами в рамках унифицированных правил игры, которые в 2000-е гг. пытался выстроить федеральный центр. При этом, несмотря на традиционные обвинения в коррупции, большинство представителей этой группы предпочитают добросовестные стратегии поведения, так как в отличие от 1990-х им есть что терять. Их знания и навыки могут быть использованы для развития (включая создание благоприятной бизнес-среды). Но для этого представители «новой бюрократии» также должны иметь стимулы к проявлению инициативы.
Изменение геополитической обстановки в 2014–2015 гг., безусловно, ухудшило ситуацию для этих двух групп. Тем не менее только они могут стать движущими силами для новой модели экономического роста. Барьеры для задействования их модернизационного потенциала создаются сложившейся сверхцентрализованной системой государственного управления, которая образно описывается как «вертикаль власти». Данная система управления была сформирована в начале 2000-х гг. в противовес близкой к хаосу децентрализации 1990-х годов. Основными задачами «вертикали власти» было восстановление порядка и обеспечение территориальной целостности России. Эти задачи были решены, но при этом похоже, что маятник достиг другой крайней точки – поскольку «вертикаль власти», генерирующая искаженные стимулы для бюрократического аппарата, так же как и децентрализованная система 1990-х гг., оказывается неадекватной для решения задач социального и экономического развития.
Таким образом, несоответствие сложившейся системы управления возникающим задачам является одной из ключевых проблем для России. Однако изменению существующей модели объективно препятствуют интересы трех ключевых групп, формирующих действующую «правящую коалицию» – в лице высшей федеральной бюрократии, силовиков и олигархического крупного бизнеса. Каждая из этих групп извлекает для себя ренту в рамках сверхцентрализованной системы управления. Вместе с тем их «рентоориентированное поведение», приемлемое в условиях сверхдоходов от экспорта нефти, сегодня создает проблемы для высшего политического руководства и формирует базу для конфликта «лидер-элиты».
Проявлением конфликта стали действия Путина по национализации элиты, направленные прежде всего на устранение возможного оппортунизма представителей элитных социальных групп и привязывание их к существующему режиму. Эти меры, однако, объективно ущемляли экономические интересы этих групп.
Надо сказать, что подобное не первый раз происходит в российской истории – можно вспомнить Ивана Грозного, Петра I или Сталина, которые в процессе создания новой системы управления вступали в острый конфликт с действующими элитами. При этом в противостоянии со старыми элитами каждый из этих лидеров опирался на новые, созданные им группы (опричники Ивана Грозного, «потешные полки» Петра I, аппарат НКВД при Сталине), и результатом конфликта становилась смена или существенное обновление элиты.
Можно было ожидать, что ужесточение бюджетных ограничений, начавшееся уже с кризиса 2008–2009 гг., изменит требования к высшим чиновникам и руководителям госкомпаний – от них будет нужна не только лояльность, но и компетентность. Признаками изменений кадровой политики в регионах можно считать появление новых губернаторов-«тяжеловесов» с опытом работы на ключевых позициях в федеральном центре, а также активное использование Кремлем рейтингов губернаторов. Замена Рашида Нургалиева на Владимира Колокольцева на посту министра внутренних дел в 2012 г. может восприниматься как проявление данного подхода. В этой же логике стоит рассматривать отставку Владимира Якунина с поста президента РЖД в августе 2015 г. с заменой его на технократа Олега Белозерова, не входящего в узкий круг приближенных Путина. РЖД является крупнейшей госкомпанией, сопоставимой по численности сотрудников с МВД, и для эффективного управления ею в условиях бюджетных ограничений нужны профессиональные компетенции.
Однако помимо конфликта «лидер – элиты» не менее серьезной проблемой является конфликт между ключевыми группами в рамках элиты. После «дела ЮКОСа» высшая федеральная бюрократия вместе с силовиками играет ведущую роль в рамках «правящей коалиции», а крупный олигархический бизнес перешел на позиции младшего партнера. В 2009–2011 гг. в связи с вопиющими фактами насилия и неэффективности в борьбе с преступностью в системе МВД, а также в связи с протестами бизнеса против рейдерства с участием сотрудников правоохранительных ведомств наблюдалось некоторое ослабление позиций силовых структур. Но с 2012 г. на фоне подавления политической оппозиции и поиска «иностранных агентов» влияние силовиков резко возросло, и в дальнейшем этот тренд только усиливался. В личных беседах весной 2014 г. высокопоставленные чиновники отмечали, что если в 2008–2012 гг. правительство являлось реальным центром принятия решений, а в 2012–2013 гг. эту роль выполняла президентская администрация, то с началом конфликта на Украине центром принятия решений стал Совет безопасности. Правительство в этих условиях все больше выполняет технические функции.
Отражением изменения баланса сил, с одной стороны, можно считать опережающий рост расходов на оборону и правоохранительную деятельность при распределении сжимающегося «бюджетного пирога». С другой стороны, отток капитала в размере 152 млрд долларов в 2014 г. и свыше 50 млрд долларов в первом полугодии 2015 г., а также панические колебания спроса на валютном рынке свидетельствуют о недоверии бизнес-сообщества к политике, проводимой Владимиром Путиным. Но это означает, что равновесие, основанное на доминировании силовиков, является шатким и временным, а разрыв между военно-политическими амбициями, заявляемыми руководством страны, и экономико-технологической базой будет только нарастать.
Еще одна линия внутреннего напряжения связана с конфликтом «массы – элиты». Он обусловлен социальным неравенством и тем, что российская элита слишком долго не выполняла свои базовые социальные функции, связанные с формированием системы ценностей для общества. Демонстративное потребление и общий цинизм элит в 1990-е гг. предопределили глубокое недоверие общества к бизнесу и государству, а также сильные перераспределительные настроения. Чувствуя эти настроения, высшая политическая элита в 2000-е гг. в целях поддержания социально-политической стабильности сознательно направляла существенную часть природной ренты на повышение доходов населения. Эта политика была продолжена в период глобального финансового кризиса – когда в 2009 г. на фоне почти восьмипроцентного падения ВВП доходы населения в среднем выросли на 2% (прежде всего за счет повышения пенсий и зарплат в бюджетном секторе).
Однако сегодняшняя финансовая ситуация не оставляет возможности для дальнейшей реализации стратегии подкупа избирателей. Поэтому с 2013 г. для поддержания социально-политической стабильности кремлевские политтехнологи используют ресурс «патриотической мобилизации». В краткосрочном периоде такая политика дала результаты. Присоединение Крыма вызвало эмоциональный подъем в широких массах – с готовностью идти на жертвы ради интересов страны. Однако когда гражданам не ясно, чем жертвуют элиты, этот эмоциональный подъем достаточно быстро может изменить вектор и стать фактором дестабилизации.
Вместо заключения
Завершая данную статью, я хочу сослаться на первые результаты исследовательского проекта ИАПР по анализу стратегий иностранных компаний, действующих на российском рынке. В рамках этого проекта весной и летом 2015 г. была проведена серия интервью с представителями бизнес-ассоциаций, объединяющих иностранные компании – таких как American Chamber of Commerce, Association of European Business, Russian-British Chamber of Commerce и др. Несмотря на международные санкции, респонденты в ходе этих интервью заявляли о стремлении своих компаний остаться в России и говорили о долгосрочных конкурентных преимуществах российского рынка. В числе таких преимуществ отмечалось:
Наличие разнообразных природных ресурсов (не только нефть, но также металлы, леса, пахотные земли). На фоне скептических рассуждений о «ресурсном проклятии», типичных для российских либеральных экспертов, представители иностранного бизнеса однозначно рассматривают богатство природных ресурсов как большое потенциальное преимущество России.
Существенные структурные диспропорции в экономике, унаследованные от советского планового хозяйства и не устраненные за 25 лет, прошедших с начала реформ. Для конкретных компаний эти диспропорции означают наличие рыночных ниш, в которых возможен активный рост продаж в течение многих лет.
Высокая квалификация работников. Несмотря на критические высказывания многих российских экспертов об ухудшении качества образования, по оценкам иностранных компаний квалификация работников в России в среднем по-прежнему выше, чем на других развивающихся рынках, и это дает возможности для размещения здесь сложных производств.
Высокий уровень урбанизации. Большая доля городского населения в сочетании с высоким уровнем образования и возросшим уровнем доходов создает массовый спрос на потребительские товары среднего и высокого качества.
До 2014 г. сочетание этих факторов, по мнению опрошенных, давало возможности для устойчивого долгосрочного роста российской экономики темпами в 5–6% в год. Тот факт, что потенциал не был реализован, респонденты объясняли неадекватностью экономической политики и недоверием к государству со стороны бизнеса. Но и сейчас, несмотря на неизбежную в ближайшие годы напряженность в отношениях с развитыми странами, ограничения в доступе к капиталу и технологиям для российских компаний, вероятное сохранение низких цен на нефть, действие названных факторов не исчезло. У России сохраняются возможности для развития.
Однако для их практического осуществления необходимо урегулирование описанных выше системных конфликтов – с выстраиванием новой системы договоренностей между ключевыми группами в элите, а также с формированием нового «общественного договора» между элитами и обществом. Эти процессы невозможны без новой стратегии развития, без формирования образа будущего, дающего ответ на вопросы: что именно защищает Россия в рамках своей «воинственной политики»? Ради каких идей и ценностей власть призывает общество и элиты пойти на самоограничение и самопожертвование?
Таблица 1. Основные этапы в эволюции внешней и внутренней политики с начала 2000-х гг. в логике концепции «Воинственной России»
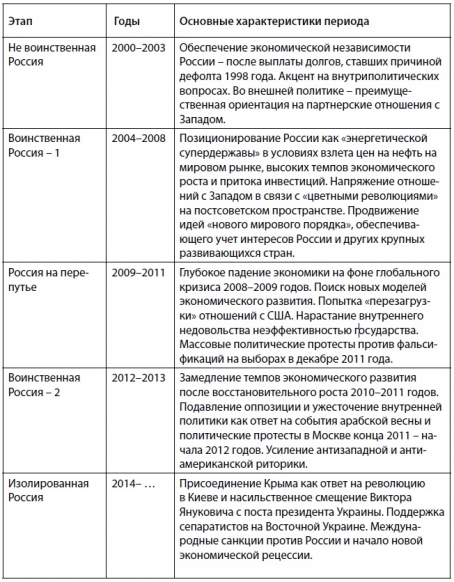
"Шестерка" примет активное участие в реконструкции реактора в Араке
На сайте Организации по атомной энергии Ирана в открытом доступе был размешен официальный документ, который вступил в силу с момента его подписания всеми представителями «шестерки» и получения ими заверенных копий 13, 17 и 18 ноября.
Согласно данному документу, страны «шестерки» (России, США, Китая, Франции, Великобритании и Германии) будут оказывать Ирану помощь в модификации тяжеловодного реактора в Араке в целях исключения возможности производства на предприятии оружейного плутония
При этом отмечается, что Тегеран «возьмет на себя руководящую роль» и будет нести ответственность за установление сроков работ и реализацию общего проекта по модификации ядерного реактора в Араке.
Как стало известно Iran.ru , Россия обеспечит Ирану консультативную помощь и проведет экспертизу модернизированного ректора. Китай будет отвечать за проектирование и конструирование модифицированного реактора, включая поставку оборудования и обеспечение топлива. США дали согласие обеспечить техническую поддержку, провести оценку проекта реконструкции, и установить степень соответствия нового реактора условиям соглашения. Германия, Франция и Британия также будут поставлять оборудование и осуществят проверку стандартов безопасности.
Россия сняла запрет на покупку обогащенного урана из Ирана
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому будет снят запрет на поставки оборудования, связанного с импортом обогащенного урана из Ирана.
Согласно документу, действующие ранее запреты больше не распространяются на поставки предметов, материалов и оборудования, если они связаны «с экспортом из Исламской Республики Иран обогащенного урана».
Данный документ распространяется на все органы, учреждения, организации и т.д., действующих под юрисдикцией РФ.
Как уже ранее сообщал Iran.ru, согласно Совместному всеобъемлющему плану действий, Иран обязуется вывести из страны запасы обогащенного урана, который превышает допустимую норму, т.е. 300 килограммов, обогащенных не выше 3,67%. В свою очередь, Иран заявлял о готовности продавать свой обогащенный уран в обмен на продовольствие.
В иране пройдут специализированные учения ВМС
Командующий Военно-морских сил Исламской республики Иран контр-адмирал Хабиболла Сайяри объявил о проведении крупномасштабных военно-морские учений под названием «Велаят-94», которые должны состоятся в ближайшие три месяца.
Кроме того, в ходе пресс-конференции по случаю национального дня ВМС в Иране, Сайяри сообщил о том что, 1 декабря в плавание отправится 37-я флотилия ВМС ИРИ в составе эсминца «Альванд» и десантного корабля «Тонб». Флотилия будет выполнять миссию по поддержанию безопасности морских путей в районе Аденского залива.
При этом командующий Военно-морских сил Ирана напомнил, что в настоящее время эту миссию в акватории Аденского залива и Баб-эль-Мандебского пролива успешно выполняют эсминец «Джамаран» и корабль поддержки «Бушер».
По информации Iran.ru , контр-адмирал также сообщил о готовящихся двух совместных маневров ВМС Ирана и Индии в Персидском заливе, и Каспийской флотилией ВМС России в Каспийском море. По его словам, в ноябре будут проходить специализированные военно-морские учения.
Иран может стать газовым хабом в регионе
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангене после встречи с министром энергетики России Александром Новаком отметил, что Иран может стать региональным газовым хабом и это позволит ему выступать в качестве своеобразного центра в регионе, который будет определять цены на газ.
Б.Н.Зангене подчеркнул, что на то, чтобы Иран стал виртуальным газовым хабом, потребуется определенное время и, кроме того, необходимо будет проделать серьезную подготовительную работу. Основным условием создания подобного хаба станет формирование структуры газового рынка на основе краткосрочных или разовых контрактов. В этой связи министр особое внимание обратил на то, что в долгосрочных контрактах должна содержаться формула ценообразования, а выработать формулу, которая отражала бы постоянное изменение цен, пока не представляется возможным.
Министр нефти отметил, что все эти вопросы постоянно обсуждаются в рамках двусторонних и многосторонних совещаний и встреч. При этом Б.Н.Зангене напомнил, что в случае создания газового хаба станет актуальным и создание газовой биржи.
Иран обсуждает с Россией три проекта в области электроэнергетики и водных ресурсов
Заместитель министра энергетики Ирана Хушанг Фелахатиян, коснувшись вопроса о своей встрече с главой «Российского энергетического агентства» министерства энергетики России Анатолием Тихоновым, сообщил о том, что с Россией обсуждается три крупных проекта в области электроэнергетики и водных ресурсов. По его словам, в случае всеобъемлющей договоренности по этим проектам меморандум о взаимопонимании по поводу их реализации должен быть подписан в ходе визита в Иран президента России на этой неделе.
Как уточнил Хушанг Фелахатиян, в ходе переговоров с российской стороной обсуждаются два проекта в области электроэнергетики и один – в области водных ресурсов, и предварительная договоренность по этим проектам уже достигнута.
Первый из электроэнергетических проектов предусматривает строительство электростанции мощностью 1,4 тыс. МВт в районе Бендер-Аббаса. Технические характеристики будущей электростанции на экспертном уровне уже окончательно определены, и на данный момент продолжается обсуждение экономического обоснования проекта и его предполагаемая стоимость.
Второй электроэнергетический проект касается синхронизации энергетических сетей трех стран, России, Азербайджана и Ирана. Техническое обоснование проекта уже подготовлено, и в ближайшее время Иран даст свой ответ России по поводу реализации данного проекта с целью достижения окончательной договоренности по его поводу.
Хушанг Фелахатиян подчеркнул, что данный проект представляется весьма важным с точки зрения сотрудничества между двумя странами в области энергетики. Он отвечает экономическим интересам Ирана и России, и, кроме того, соответствующий контракт будет носить стратегический характер для обеих сторон.
Далее Хушанг Фелахатиян сообщил, что по результатам переговоров российской стороны с руководителями министерства энергетики Ирана, отвечающими за водные ресурсы, принято решение завершить работу над рядом приоритетных проектов, предусматривающих проведение разведки на наличие запасов грунтовых вод в нескольких районах Ирана, и подписать в этой связи меморандум о взаимопонимании.
Мазендеранская курятина поставляется в Россию
Секретарь Совета развития экспорта провинции Мазендеран Мохаммед Мохаммадпур Омран на совещании экспортеров провинции Мазендеран в Сари сообщил о поставках произведенной в провинции курятины на российский рынок.
Как уточнил М.М.Омран, помимо этого в Россию, в соответствии с вступившим в силу двусторонним протоколом, из провинции Мазендеран экспортируется рыбная продукция. При этом он указал на то, что провинция для экспорта молочной, протеиносодержащей и рыбной продукции в Россию, Беларусь и Казахстан закупила контейнеры-рефрижераторы, оплата за транспортировку перечисленной продукции с помощью которых установлена в размере 50 долларов за каждую тонну.
М.М.Омран сообщил, что в провинции Мазендеран производится около 25% мяса битой птицы, производимой в Иране, и она располагает инфраструктурой, необходимой для экспорта протеиносодержайщей продукции в Россию и другие страны СНГ. При этом провинция занимает удобное месторасположение для такого экспорта.
Указав на санкции, которые введены странами Евросоюза и Америкой в отношении России, М.М.Омран отметил, что на данный момент Россия и другие страны региона нуждаются в иранской продукции и Иран, в полной мере соблюдающий международные стандарты при производстве своей продукции, может с успехом занять достойную нишу на рынках этих стран.
По словам М.М.Омрана, одним из важных преимуществ в плане развития торговли между Ираном и Россией можно считать то, что в двустороннем протоколе предусматривается отказ от доллара при заключении внешнеторговых сделок между двумя странами и переход во взаиморасчетах на иранский риал и российский рубль.
Бижан Занген: Иран смотрит на Россию как на долговременного и стратегического партнера
Министр нефти Ирана Бижан Зангене во время встречи с министром энергетики России Александром Новаком, состоявшейся в министерстве нефти, заявил, что Иран смотрит на Россию как на долговременного и стратегического партнера и надеется на то, что после отмены санкций сотрудничество между Ираном и Россией в области энергетики получит дальнейшее развитие.
Бижан Зангене отметил, что саммит глав государств Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) представляется весьма удобным случаем для проведения двусторонних встреч и переговоров и обсуждения хода реализации достигнутых ранее договоренностей.
По словам Бижана Зангене, Иран надеется на то, что российская сторона решительно настроена на то, чтобы после отмены западных санкций между Ираном и Россией были установлены прочные и долгосрочные связи в области нефти и газа.
Затронув вопрос о достигнутых ранее двусторонних договоренностях, иранский министр подчеркнул, что настало время для практической реализации этих договоренностей и для расширения сотрудничества между иранскими и российскими компаниями. Как известно, российские компании, поддерживающие связи с иранской стороной, весьма заинтересованы в дальнейшем развитии отношений со своими иранскими партнерами.
Александр Новак, в свою очередь, отметил, что Российская Федерация намеревается и дальше расширять свое сотрудничество с Ираном во всех областях, в том числе и в области нефти и газа. Наглядным подтверждением тому, что отношениям с Ираном придается особое значение, можно считать участие президента России в саммите ФСЭГ в Тегеране.
Министр энергетики России подчеркнул необходимость выполнения двусторонних договоренностей и отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы Иран был ее долговременным партнером. По словам Александра Новака, перед двумя странами открываются самые широкие горизонты.
Тегеранский газовый саммит
Личное участие Владимира Путина в Третьем Форуме стран-экспортёров газа (ФСЭГ) 23 ноября в Тегеране перевело событие из разряда отраслевых в разряд геополитических.
В этой связи представляется важным определить, что из запланированного на саммите потребовало личного участия российского лидера и какой стратегический горизонт открывается по итогам этого события.
Прежде всего, саммит в Тегеране не имеет аналогов не только в газовой отрасли, но и в мировой энергетике в целом. Например, встречи ОПЕК на самом высоком уровне, как правило, собирают далеко не всех мировых игроков на рынке нефти, – из соглашений исключены Россия и США, первый и второй по объемам производители нефти в мире по итогам 2015 года. Этот фактор помогает Саудовской Аравии и ее союзникам из монархий полуострова, доминирующим в организации, вести агрессивные демпинговые войны.
Саммит ФСЭГ объединяет всех без исключения заметных игроков на мировом газовом пространстве. В эту группу входят Россия и Норвегия – первый и второй в мире экспортеры природного газа по трубопроводам, Катар – в качестве крупнейшего экспортера сжиженного природного газа, и Иран – как крупнейший держатель запасов природного газа, несмотря на низкую пока долю в торговле.
Возникает возможность согласовывать правила игры, обязательные к исполнению для всей отрасли.
Второй важнейший фактор связан с тем, что в тегеранском саммите принимают участие (в том или ином формате) семь государств ОПЕК. За исключением Катара и Объединенных Арабских Эмиратов все эти государства представляют ту группу стран в ОПЕК, которая выступает против монархий Залива в их нынешней игре на понижение цен на нефть.
Возможность заручиться поддержкой всего рынка мирового природного газа, тесно связанного с нефтяным и точно также несущего потери из-за ценовых войн в соседнем секторе экономики, крайне важна для формирования оппозиции странам, ориентирующимся на Саудовскую Аравию, особенно в контексте предстоящей встречи министров ОПЕК, которая состоится в начале декабря в Вене.
Третий фактор, определяющий геостратегическое значение саммита 23 ноября – фактор возвращения Ирана в мировую политику. В первую очередь благодаря усилиям России сегодня Иран имеет график освобождения от санкций, и это усиление экономической роли союзника России в регионе понятным образом сочетается с усилением его политического влияния.
Около двух лет назад, на встрече министров ФСЭГ, которая тоже состоялась в Тегеране, президент Рухани добился своего первого достижения в области энергополитики – избрания представителя Ирана в качестве Генерального секретаря форума. Третий саммит должен закрепить этот успех, и участие в нем Владимира Путина придает иранскому руководству организацией новый акцент.
Аналогично, Москве крайне важно, чтобы неизбежное в контексте отказа Запада от санкций в отношении Ирана усиление роли последнего на энергетическом рынке шло в русле ее интересов. Сейчас, после удачной «ядерной сделки», вокруг Ирана уже действует множество «новых друзей» рассчитывающих на свою долю от поступления на мировой рынок иранских нефти и газа. В такой ситуации одной лишь признательности за помощь в снятии санкций слишком мало, и Кремль стремится связать Тегеран новыми выгодами от ставки на Россию и союзничества с ней. Сейчас момент настолько удобный, что Президент решил использовать его лично.
В тактическом плане это означает занятие Россией доминирующей позиции в узле сети по доставке природного газа, который планирует организовать Иран с участием России, Туркменистана и Азербайджана.
«…..Мы до сих пор не играли ключевую роль на рынке экспорта газа, …. Мы экспортируем газа почти столько, сколько мы импортируем ….. но тенденция меняется», – цитирует 17 ноября агентство ISNA министра нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. «….Нашим приоритетом является экспорт газа в соседние страны. Мы готовы экспортировать газ [в том числе] в иракский Курдистан….», – добавил министр.
Это крайне важное заявление. Имея крупнейшие мировые запасы газа и возможности по его добыче, Иран после снятия санкций еще не обладает инструментами доставки его потребителям в Европу. Заводы сжижения природного газа в Катаре для него безнадежно закрыты по политическим причинам, а трубопроводами в Европу сегодня обладает только Россия.
Такая ситуация крайне раздражает производителей газа в регионе – прежде всего Туркменистан и Азербайджан. Но проект Nabucco погряз в политических проблемах из-за позиции США, которые, как отмечают в Баку, слишком рьяно «учат Азербайджан демократии». Президент Алиев опасается, что политическая плата, которую его стране придется заплатить за практическую поддержку Вашингтоном идеи Nabucco, будет примерно такой же, какую пришлось заплатить Украине. Кроме того, этот проект никак не снимает вопросы Туркменистана, чей газ на западном векторе все равно «упирается» в русскую трубу.
Слова министра Зангане про Иракский Курдистан де-факто означают прощупывание Тегераном почвы собственного европейского трубопровода – возможно через курдские территории в Турцию, обладающую развитой трубопроводной инфраструктурой.
Хотя сегодня такой вариант кажется политически маловероятным, нужно учесть, что события в Ираке развиваются стремительно, Иракский Курдистан в полушаге от объявления независимости от Багдада, который давно прекратил отчислять ему платежи за продажу углеводородов. И если Тегеран прогарантирует Турции лояльность нового независимого Курдистана, то лучшего решения курдской проблемы президенту Эрдогану не найти: независимое Курдское государство далеко от турецкой территории.
Россия не готова к пассивной роли в такой ситуации. Через два месяца после переговоров между Ираном и Россией по поводу возможности свопа газа, информационное агентство Shana сообщило, что 11 ноября стороны договорились создать совместную комиссию для операции.
Это революционный проект не только для Ирана, но и для российской газовой отрасли. «Газпром» выступает монопольным экспортером газа. Однако крупнейший производитель нефти в стране «Роснефть» в июле попросила правительство отменить это исключительное право «Газпрома».
Если иранский своп состоится, он полностью изменит мировую конструкцию торговли природным газом – учитывая вступление на рынок «Роснефти».
Россия и Иран соединяются через 1474-километровый газопровод Гази-Магомед-Астара-Бинд-Бианд. Он был введен в эксплуатацию в 1971 году, и недавно Азербайджан полностью модернизировал свой участок, снабдив его новой газокомпрессорной станцией. Так что все технические предпосылки к такому свопу газа готовы.
В отличие от ОПЕК, ФСЭГ не функционирует как организация. Тем не менее, за 14 лет с момента своего основания, группа стран ФСЭГ показывает лучшую дисциплину и организованность с точки зрения соблюдения договоренностей, достигнутых в ходе встреч. Характерный пример – в течение многих лет ОПЕК не удавалось достичь соглашения о выборах своего генерального секретаря; ФСЭГ справился с этим в один раунд, – при том, что и Катар, и Норвегия явно не в политических симпатизантах Ирана.
Процедуры ФСЭГ изначально были прозрачными и открытыми, что в значительной степени и помогает предотвратить глухое блокирование принятия решений, аналогичное тем, что происходит в ОПЕК постоянно – и на чем, собственно, и держится диктат Саудовской Аравии внутри нефтяного картеля.
Так что ФСЭГ – удобный и эффективный инструмент энергополитики.
Сегодня, благодаря российско-сирийской военной операции, Иран и Россия стали реальными союзниками против монархий Залива. За последние полвека у Москвы не было таких хороших карт для ближневосточной игры, и Путин стремится закрепить этот успех в доминирующее положение России в будущих стратегических энергосоюзах в регионе.
Военные успехи в Сирии, монополии на трубопроводы в Европу, координация линии Тегерана с Москвой – все это требует поддержки на самом высоком уровне и способно принести значительную политическую капитализацию. Именно поэтому Путин сегодня лично летит в Тегеран.
Путин встретился с Хаменеи
Президент Российской федерации Владимир Путин встретился с Верховным лидером ИРИ аятоллой Али Хаменеи.
Как известно, сегодня днем Владимир Путин прибыл в Тегеран для участия в третьем саммите глав государств-членов Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ), который начался в 21-го ноября.
Пред тем, как начать участие в заседании форума, Владимир Путин провел встречу с Верховным лидером.
Как ранее заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков, ожидается, что в ходе беседы состоится обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества (торгово-инвестиционное взаимодействие, атомная энергетика, добыча нефти и газа, ВТС), а также по международным проблемам, таким, как урегулирование конфликта в Сирии, реализация Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерное соглашения), борьба с терроризмом, противодействие группировке «Исламское государство», и т.д., передает Iran.ru.
Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова в составе делегации под руководством Президента Российской Федерации Владимира Путина с рабочим визитом посетила Исламскую Республику Иран.
Во время визита состоялась встреча Вероники Скворцовой с Министром здравоохранения и медицинского образования Республики Хасаном Хашеми.
В ходе встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики Иран.
Настоящий Меморандум о взаимопонимании устанавливает нормативно-правовые основы для углубленного развития дружественных отношений и укрепления сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки.
Данный документ предполагает обмен правовой, статистической и аналитической информацией; обмен экспертами и делегациями; участие специалистов в конгрессах, научных конференциях, семинарах, тренингах и других научных мероприятиях, а также содействие в установлении прямых контактов между образовательными медицинскими и научными институтами и учреждениями России и Ирана.
Также стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по таким направлениям, как обмен информацией, государственное регулирование обращения лекарственных средств и медицинских изделий, медицинский туризм, медицинское образование и исследования, медицинское обеспечение, включая онкологию, в особенности применение лучевой терапии и ядерной медицины, управления системами здравоохранения.
В завершение стороны договорились о проведении третьего заседания рабочей группы по здравоохранению в Москве.
Александр Новак принял участие во встрече Президента РФ Владимира Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани.
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани.
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
Российско-иранские документы, подписанные по итогам переговоров:
1. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики Иран об упрощении условий взаимных поездок отдельных категорий граждан Российской Федерации и Исламской Республики Иран
2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики Иран
3. Меморандум между Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российское энергетическое агентство» и Министерством энергетики Исламской Республики Иран
4. Меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Акционерным обществом «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» и Центральным банком Исламской Республики Иран о содействии развитию инвестиционной деятельности, гарантийной поддержки, экспортного финансирования и торговых связей
5. Контракт на проектирование, поставку материалов, оборудования и строительство по проекту электрификации железнодорожного участка «Гармсар-Инче Бурун»
6. Контрактное соглашение на строительство тепловой электростанции в составе четырех энергоблоков 350МВт и опреснительной установки в окрестностях г.Бандар-Аббас, провинция Хормозган между Открытым акционерным обществом «Технопромэкспорт» и «Холдинговой компании по производству электроэнергии на тепловых станциях» Исламской Республики Иран
7. Базовый договор на выполнение работ по поиску и оценке запасов подземных глубоких вод на территории Исламской Республики Иран между Акционерным Обществом «Росгеология» и Бюро макропланирования водных ресурсов и оборота воды Министерства энергетики Исламской Республики Иран.
Александр Новак принял участие в работе Третьего саммита ФСЭГ.
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в работе Третьего саммита Форума стран – экспортёров газа в составе делегации Президента Российской Федерации Владимира Путина. Страны – участницы ФСЭГ с учётом стран-наблюдателей обладают 85% доказанных мировых запасов природного газа и обеспечивают почти половину мировой торговли этим видом топлива.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам развития глобального рынка природного газа. Было отмечено, что достигнутые на предыдущем саммите в Москве договорённости позволили заметно усилить координацию стран – участниц Форума в стратегических вопросах развития газовой отрасли, заложили основу для формирования единых подходов к справедливому ценообразованию и равному распределению рисков между потребителями и поставщиками топлива.
«Газ – это наиболее доступный, экономически выгодный и экологически чистый вид топлива. Спрос на него в мире растёт темпами, опережающими спрос на нефть и другие энергоресурсы. По прогнозам, к 2040 году глобальные потребности в газе увеличатся на 32 процента – почти до 5 триллионов кубических метров», - сказал Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что «в интересах стабильности и предсказуемости рынка, для привлечения инвестиций в газовую отрасль нельзя отказываться от проверенной годами практики заключения долгосрочных контрактов и использования принципа «бери или плати».
В ходе встречи также было отмечено, что к 2035 году в России будет добыто 885 миллиардов кубических метров газа, поставки на азиатском направлении возрастут с 6 до 30 процентов, увеличится производство сжиженного природного газа до 60 миллионов тонн, что составит 13% мирового рынка СПГ.
Иран увеличит поставки фруктов и сухофруктов в Омскую область
Договоренность об увеличении товарооборота и ассортимента торговли представители обеих стран заключили в ходе встреч в самом Омске.
По мнению Оксаны Фадиной, министра экономики региона, Омская область – безусловно, аграрный регион, но местное производство не может обеспечить жителей всем необходимым продовольствием.
- В частности, также были договоренности о поставках в Омск фруктов, сухофруктов, уже сейчас на омских рынках присутствует определенная иранская продукция,- сказала Оксана Фадина.
Сельскохозяйственная продукция и пищепром, как считает г-жа министр, не единственные перспективные направления сотрудничества с гостями из Ирана. В дальнейшем возможно создание других двусторонних аграрных проектов.

Встреча с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
В ходе визита в Иран Владимир Путин встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Г.Бердымухамедов: Во–первых, хочется выразить большую благодарность за то, что мы встречаемся на полях саммита глав государств по экспорту газа. Хорошо, что появилась возможность обсудить вопросы двусторонних отношений.
Владимир Владимирович, я, конечно, прежде всего хотел бы выразить наши глубокие соболезнования по поводу крушения самолёта. Ваш братский туркменский народ всегда рядом с вами, и, конечно, это останется в наших сердцах. Примите наши соболезнования.
Хотел бы также поднять такой вопрос. Вы знаете, в этом году будет саммит глав государств по Каспию в Казахстане. И якобы наши казахские коллеги очень обеспокоены вопросами, которые происходят над уровнем Каспийского моря. Это связано с военными вопросами. Поэтому там возникают вопросы, связанные с гражданским международным авиасообщением, надо ли менять авиасообщение, эшелоны движения. Не знаю, в курсе Вы дела или не в курсе, но казахские наши коллеги этим вопросом обеспокоены.
Если же говорить о двусторонних вопросах, я хотел бы выразить очень большую благодарность за Вашу поддержку в укреплении нашей туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству. Как раз на прошлой неделе состоялось девятое заседание. Мы прошлись по всем аспектам нашего сотрудничества, не говоря, конечно, о политических. Вы всегда поддерживаете нашу инициативу на международной арене, за что мы Вам очень-очень благодарны.
Говоря о торгово-экономических вопросах, конечно, хороший темп есть, он всегда у нас идёт по восходящей линии. Но мы посмотрели на заседании, всё–таки есть и резервные потенциалы, очень много. Я думаю, будем мы их применять именно на благо наших народов – и в Туркменистане, и в Российской Федерации.
Конечно, мы много говорили и о вопросах нашего гуманитарного сотрудничества. Вы понимаете, с каким воодушевлением и любовью мы относимся в целом к русскому языку. Работает российская школа имени А.С.Пушкина. Прекрасная школа, очень много периодики, вы нам помогаете и в других вопросах, в литературных источниках. Ну и вообще мы в Туркменистане, Вы знаете, как мы относимся к изучению русского языка, начиная с детского сада и кончая высшими учебными заведениями. И в прессе, и по телевидению, в наших средствах массовой информации. Как раз на неделе был показ фильмов «Мосфильма», приезжали супруги Меньшовы. Мы очень благодарны. В таком ракурсе мы всегда будем продолжать наше сотрудничество, поэтому ещё раз позвольте Вас поблагодарить за то, что Вы делаете для укрепления дружбы между Туркменистаном и Российской Федерацией.
Пользуясь случаем, я всё–таки хотел бы ещё раз подтвердить своё приглашение. Мы нейтральная страна. Поэтому будет создан очень хороший международный форум, площадка, где мы могли бы обсудить все наши актуальные вопросы. Тема – «Нейтралитет во имя мира и стабильности». Я просто хочу осведомить, очень много желающих глав государств приехать на этот международный форум, и самое главное, он будет сопровождаться праздничными мероприятиями. А Вы для нас, как всегда, очень почётный и уважаемый гость.
Я ещё раз подтверждаю своё приглашение Вам и членам Вашей делегации.
В.Путин: Спасибо большое, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич.
Туркменистан относится к числу наших стратегических партнёров региона. Это зафиксировано в наших базовых документах. Так оно есть и на практике. У нас очень добрые отношения в политической сфере, в сфере взаимодействия в области гуманитарных связей, в экономике. Правда, в денежном выражении торговый оборот несколько сократился, но товарные потоки у нас приемлемые.
Что касается озабоченности наших друзей в регионе по поводу использования воздушного пространства над Каспийским морем – нам наши казахстанские друзья об этом пока ничего не говорили, но будем иметь это в виду. Мы понимаем, что, наверное, ограничения есть и неудобство некое создаётся, но мы с вами знаем, что все усилия, которые предпринимает Россия по борьбе с терроризмом, ложатся бременем прежде всего на Российскую Федерацию, я имею в виду даже материальную составляющую. А террористические организации, такие, как так называемый ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусра» и прочие, не щадят никого. Они занимаются натуральными зверствами, не щадят в том числе и гражданские суда, имею в виду гражданской авиации. Поэтому если какие–то неудобства создаются, то их нужно, конечно, минимизировать, это точно совершенно, и мы будем иметь это в виду.
Но, имея также трагический опыт, связанный с гибелью нашего самолёта, мы будем делать это до тех пор, пока посчитаем нужным, для того чтобы наказать виновных. Но все эти операции не будут проводиться вечно, я изначально говорил о том, что они будут иметь временный характер, связанный с наступательными операциями сирийской армии по подавлению террористических организаций. Неизбежно всё равно сирийский кризис должен решаться и будет решаться политическими средствами.
Мы очень надеемся на то, что процесс, который идёт в Вене, приведёт к положительному результату. Мы только сегодня обсуждали это с иранским руководством. Думаю, что все наши друзья, ближайшие союзники, стратегические партнёры не только с пониманием к этому отнесутся, но и будут нас поддерживать. Мы на это очень рассчитываем.
Что касается гуманитарного взаимодействия, оно для нас действительно очень важно. Вы упомянули сейчас и про школу, которую мы вместе с Вами закладывали, и про фестиваль наших фильмов. А я хотел бы вспомнить о том, что мы принимали с удовольствием ваших деятелей искусства, которые представляли музыкальную часть, традиционное музыкальное искусство Туркмении. Это вызвало тоже большой интерес. Очень рассчитываем на то, что такое взаимодействие по всем направлениям будет продолжаться. Мы с уважением относимся к нейтральному статусу Туркменистана, всячески его поддерживаем. И, безусловно, будем принимать участие в мероприятиях, которые вы планируете.
И хочу Вас поблагодарить за приглашение, которым я обязательно воспользуюсь. Спасибо большое.

Российско-иранские переговоры.
В Тегеране состоялись переговоры Владимира Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани.
По итогам переговоров в присутствии глав двух государств подписан пакет документов о сотрудничестве в различных областях.
Владимир Путин и Хасан Рухани сделали заявления для прессы.
* * *
В.Путин: Уважаемый господин Президент! Уважаемые дамы и господа!
Саммит Форума стран – экспортёров газа предоставил хорошую возможность поговорить не только по развитию отрасли, по её состоянию на сегодняшний день, но и дал возможность для обстоятельных встреч с иранским руководством.
Мы провели обстоятельные переговоры с Президентом Ирана с участием глав ключевых министерств, ведомств, представителей бизнес-сообщества. Эти переговоры стали продолжением политически насыщенной беседы с Верховным руководителем Исламской Республики Иран, состоявшейся сегодня утром.
В ходе встреч мы подробно обсудили весь комплекс наших отношений в сфере экономики, координации на международной арене, по вопросам борьбы с международных терроризмом.
Вы видели, что только что был подписан солидный пакет документов, который призван стимулировать взаимодействие в самых разных областях. Мы намерены наращивать динамику наших торговых связей, будем уделять необходимое внимание диверсификации товарной номенклатуры, шире использовать национальные валюты во взаиморасчётах.
Евразийский экономический союз в прикладном ключе начнёт изучение возможности создания зоны свободной торговли с Ираном. Будем активизировать и промышленную кооперацию. Россия готова выделить на эти цели государственный экспортный кредит в размере 5 миллиардов долларов. Отобрано 35 приоритетных проектов в сфере энергетики, строительства, морских терминалов, электрификации, железных дорог и так далее.
Мы продолжим взаимовыгодное сотрудничество в атомной энергетике. На полную мощность уже вышел первый блок атомной электростанции Бушер, начаты работы по возведению второго и третьего блока.
Будем оказывать максимальное содействие реализации соответствующего плана действий в рамках иранской ядерной программы, одобренного в июле Совбезом ООН. В том числе будем помогать в переработке обогащённого урана и в перепрофилировании производств на выпуск стабильных изотопов в научных целях.
Продолжим координацию по борьбе с терроризмом, будем укреплять взаимодействие в рамках Международной группы по Сирии, в том числе в целях реализации решений о запуске всеобъемлющего межсирийского политического процесса.
Что касается итогов встречи лидеров Форума стран – экспортёров газа, господин Рухани сегодня уже провёл подробную пресс-конференцию на эту тему. Хотел бы поздравить наших друзей с успешным проведением этого крупного международного мероприятия и добавить на этой пресс-конференции, что Россия намерена увеличить размеры производства газа к 2035 году на 40 процентов.
Хотел бы в заключение поблагодарить наших иранских партнёров и друзей за приглашение, господина Президента, что он пригласил меня на это мероприятие, за тёплую атмосферу, которая была создана в ходе нашей совместной работы.
Спасибо.
(Отвечая на вопрос журналиста о ситуации в Сирии.)
В.Путин: Действия наших лётчиков я оцениваю весьма положительно. Я сегодня проинформировал наших иранских друзей по этим вопросам, мы обменялись, естественно, мнениями о ситуации в Сирии.
Что касается действий наших военных, то это сложная операция, задействована большая космическая группировка, разнородные силы авиации: это и штурмовики, бомбардировщики, это стратегические бомбардировщики-ракетоносцы, прикрывающие их истребители, это две группировки флота в Каспийском море и Средиземном море, в том числе ударные ракетоносцы, которые наносят удары из акватории Каспийского моря. Всё это делается, разумеется, по согласованию с иранскими партнёрами, и думаю, что без их участия это было бы просто невозможно.
Это сложная, большая работа по координации, по обслуживанию техники, которая свидетельствует о высокой выучке наших офицеров, военнослужащих. Эта работа приносит положительный результат, мы вместе её положительно оцениваем. Но ещё раз хочу сказать, нет никакой другой возможности на долгосрочной основе решить проблему Сирии, кроме как путём политических переговоров.
Спасибо.
Президент РФ Владимир Путин пообещал президенту Боливии Эво Моралесу оказать необходимую правительственную поддержку со стороны РФ по созданию в Боливии крупнейшего центра по изучению ядерных технологий.
"Сейчас для нас есть более важный вопрос — это вопрос взаимодействия с "Росатомом". Видимо, мы со своей стороны обеспечиваем инвестиции и у нас будет в стране создан крупнейший центр изучения ядерных технологий. Он будет оснащен передовым оборудованием, исследовательским реактором, синхротронной установкой для гамма-лучей. Хочу отметить, что технологии будут российские, а финансовое обеспечение наше — 300 миллионов долларов",- сказал Моралес в ходе двусторонней встречи с Путиным на полях форума стран-экспортеров газа в Тегеране.
Он отметил, что это будет первый подобный центр во всей Южной Америке.
В свою очередь Путин отметил, что ему известно об этом проекте. "Мне известно об этом проекте. Мы будем, безусловно, на правительственном уровне его поддерживать", — добавил Путин.
В ходе беседы Моралес выразил соболезнования президенту РФ в связи с трагедией Airbus A321 над Синаем.
Госкорпорация "Росатом" и министерство углеводородов и энергетики Боливии в октябре нынешнего года подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ предполагает помощь российских атомщиков в сооружении в Боливии научно-исследовательского ядерного центра. Этот центр, который построят в городе в городе Эль-Альто, будет состоять из трех частей — циклотронного и радиофармацевтического центра, многоцелевой гамма-излучательной установки и исследовательского ядерного реактора.
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес обсудили в Тегеране вопросы сотрудничества в разных сферах, в том числе в военно-технической.
"Ваша страна — один из крупнейших производителей газа, запасы хорошие. Компания "Газпром" уже работает в вашей стране, планирует, по-моему, уже в следующем году добычу", — сказал Путин.
По словам президента РФ, к сотрудничеству с Боливией готов не только "Газпром", но и другие компании.
""Газпром" — не единственная компания, которая проявляет интерес к работе в вашей стране. Есть интересы в области электроэнергетики, машиностроении, в некоторых высокотехнологичных секторах. Мы готовы поработать с вами и в сфере военно-технического сотрудничества", — сказал лидер РФ в ходе встречи с президентом Боливии, прошедшей на полях форума стран-экспортеров газа в Тегеране.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов считает, что Россия и Туркменистан имеют большой потенциал для сотрудничества в торгово-экономической сфере.
"Говоря о торгово-экономических вопросах, конечно, темп (у РФ и Туркменистана) есть хороший. Мы посмотрели на заседании (российско-туркменистанской межправкомиссии) — все-таки есть резервный потенциал, очень много. Я думаю, будем мы его применять именно на благо наших народов", — сказал Бердымухамедов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла на полях форума стран-экспортеров газа в Тегеране.
Он напомнил, что у двух стран налажены взаимоотношения и по вопросам гуманитарного сотрудничества. По его словам, в Ашхабаде на прошлой неделе прошло заседание межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству, на котором были рассмотрен самый широкий круг вопросов взаимоотношений.
Иран уже обсуждает с РФ детали соглашения по свопам с нефтью и газом, сообщил министр нефти Ирана Биджан Зангане.
"Иран будет сотрудничать с Россией по своповым операциям с нефтью и газом. Сейчас мы ведем переговоры и уточняем детали сотрудничества", - сказал Зангане на пресс-конференции по итогам третьего саммита ФСЭГ.
В октябре министр энергетики РФ Александр Новак говорил РИА Новости, что Россия и Иран обсуждают возможность заключения своповых (обменных) контрактов по нефти и газу, но окончательного решения пока нет.
Позднее в понедельник Новак сказал журналистам в Тегеране, что в ходе нынешнего визита президента РФ Владимира Путина этот вопрос также обсуждался. "Своп обсуждали как предложение, детально все это надо еще прорабатывать", - сказал Новак.

Саммит Форума стран – экспортёров газа.
Владимир Путин принял участие во встрече глав государств и правительств стран – участниц Форума стран – экспортёров газа.
Выступление на пленарном заседании Третьего саммита Форума стран – экспортёров газа
В.Путин: Уважаемый господин председатель! Уважаемые коллеги, дамы и господа!
Тесное взаимодействие производителей и поставщиков газа становится всё более важным фактором устойчивого развития мировой энергетики. За 14 лет Форум стран – экспортёров газа превратился в солидную международную организацию, помогающую газодобывающим государствам сообща продвигать свои интересы на глобальных рынках.
Страны – участницы Форума обладают львиной долей доказанных мировых запасов природного газа (79 процентов, а с учётом стран-наблюдателей – 85 процентов) и обеспечивают почти половину мировой торговли этим видом топлива.
Наши государства, наши национальные компании инвестируют огромные средства в долгосрочные проекты по разведке, добыче, переработке и транспортировке газа. Тем самым мы вносим весомый вклад в энергетическую безопасность и поступательный рост экономики всего мира.
Достигнутые на предыдущем саммите в Москве договорённости позволили заметно усилить координацию стран – участниц Форума в стратегических вопросах развития газовой отрасли, заложили основу для формирования единых подходов к справедливому ценообразованию и равному распределению рисков между потребителями и поставщиками топлива.
Уверен, что и нынешняя встреча будет не менее продуктивной, а решения, которые войдут в итоговую Декларацию, придадут дополнительный импульс нашему сотрудничеству, сделают ещё эффективнее совместную работу по совершенствованию международной торговли газом.
В этой связи считаю крайне актуальной тему «Природный газ – лучшее топливо для устойчивого роста», которую иранские партнёры предложили как ключевую для обсуждения на саммите.
Газ – это наиболее доступный, экономически выгодный и экологически чистый вид топлива. Спрос на него в мире растёт темпами, опережающими спрос на нефть и другие энергоресурсы. По прогнозам, к 2040 году глобальные потребности в газе увеличатся на 32 процента – почти до 5 триллионов кубических метров. Напомню, что в 2014 году это было 3,7 триллиона кубических метров.
Это открывает большие возможности для наращивания производства и экспорта газа и одновременно представляет серьёзный вызов, потому что понадобится кардинально ускорить освоение новых месторождений, модернизировать перерабатывающие мощности, расширить газотранспортную инфраструктуру – ввести в строй дополнительные трубопроводы и наладить разветвлённые маршруты поставок сжиженного природного газа.
Столь амбициозные планы требуют масштабных капиталовложений, период окупаемости которых растянется на десятилетия вперёд. И инвесторам, конечно, нужны чёткие, твёрдые гарантии. Но главное, наравне с производителями газа инвестиционные риски должны нести и будущие потребители. За энергетическую безопасность надо платить всем – и странам-экспортёрам, и странам-покупателям, что справедливо и полностью отвечает духу рыночных отношений.
Мы все хорошо понимаем, что современные технологии, новые бизнес-модели меняют структуру газового рынка в мире. Для фиксации цен всё шире задействуются биржевые способы торговли, спотовые механизмы.
В прошлом году у нас в России, например, была запущена торговля газом на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Менее чем за год объём торгов составил 6,8 миллиарда кубических метров, в планах нарастить его до 35 миллиардов кубических метров в год. При этом наша ведущая компания «Газпром» реализовала по спотовым ценам 17 миллиардов кубических метров газа, что составляет более 8 процентов общего объёма его продаж.
Однако хотел бы подчеркнуть: в интересах стабильности и предсказуемости рынка, для привлечения инвестиций в газовую отрасль ни в коем случае нельзя отказываться от проверенной годами практики заключения долгосрочных контрактов и использования принципа «бери или плати». Считаю важным, чтобы государства – участники Форума проявляли в этом солидарность.
Уважаемые коллеги, в готовящийся проект национальной Энергетической стратегии на период до 2035 года мы закладываем существенный – на 40 процентов – прирост добычи природного газа. Если в 2014 году мы добыли 578 миллиардов кубических метров, то к 2035 году планируем добыть 885 миллиардов кубических метров.
С партнёрами из Евросоюза мы планируем осуществить целый ряд инфраструктурных проектов, с Турцией проводим согласование южного маршрута. Наша страна будет также экспортировать газ и увеличивать свои поставки на восточном направлении, и здесь у нас очень позитивная работа идёт с нашими партнёрами из азиатских стран: и с Китаем, и с Индией, и с другими нашими партнёрами. Планируем на азиатском направлении увеличить наши поставки с 6 до 30 процентов – до 128 миллиардов кубических метров.
Мы увеличиваем производство сжиженного природного газа до 60 миллионов тонн, что значит с сегодняшних 4 процентов до 13 на мировом рынке СПГ. И здесь нами запланирован целый ряд проектов как в восточной, северной части Российской Федерации, так и на Дальнем Востоке России.
Уверен, Россия, безусловно, справится со всеми этими планами, ей по силам их реализовать. При этом мы готовы к самому плотному взаимодействию с партнёрами по нашему Форуму – по Форуму экспортёров газа, с другими заинтересованными странами в целях удовлетворения глобальных потребностей в энергоресурсах и устойчивого развития мировой экономики в целом.
Большое спасибо вам за внимание.
Новая британская стратегия в сфере обороны и безопасности предусматривает сотрудничество с Россией в сфере безопасности и выделение в течение 10 лет 178 миллиардов фунтов стерлингов на повышение обороноспособности Великобритании и закупку новых вооружений.
Стратегия обновляется каждые пять лет.
Россия: сотрудничество с "угрозой"
России в стратегии отведена отдельная глава, нередко она упоминается и в других главах, в основном, в негативном ключе. В то же время Великобритания, несмотря на большое количество разногласий с российскими властями, готова сотрудничать с РФ в сфере безопасности, в том числе в борьбе с "Исламским государством".
"Россия сейчас работает над программой крупных инвестиций в модернизацию и совершенствование своих вооруженных сил, в том числе ядерных. Она также увеличила количество военных учений и усилила риторику, угрожая разместить элементы ядерных сил в Калининграде и Крыму. Ее военная активность вокруг территорий союзников, вблизи воздушного пространства и территориальных вод Великобритании направлена на проверку нашей реакции", — говорится в тексте стратегии Великобритании в сфере обороны и безопасности.
"Поведение России продолжит быть труднопредсказуемым, и хотя это в высшей степени маловероятно, но мы не можем исключать, что она может почувствовать искушение проявить агрессию по отношению к странам НАТО", — отмечается в документе.
В связи с угрозой, которая, убеждено британское правительство, исходит от России, необходимо принимать меры — как военного, так и экономического характера.
"Но все чаще наша реакция проверяется с помощью самолетов, в том числе российских, приближающихся к нашему воздушному пространству, и действиями в море вблизи наших территориальных вод… Наши инвестиции в самолеты морской разведки помогут существенно улучшить наши возможности по обеспечению безопасности наших вод", — говорится в тексте.
"Мы предоставили наши самолеты Typhoon миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтики, мы предоставили корабли и армейские подразделения для учений НАТО, чтобы помочь нашим союзникам в отражении угрозы, исходящей от России, и мы продолжим это делать", — отмечается в документе.
Необходимо снижать энергозависимость от России, убеждены авторы стратегии.
"Мы предпримем дальнейшие действия по защите Великобритании от неопределенности на рынках, причиной которых являются нестабильность на Ближнем Востоке и действия России в странах, соседствующих с Восточной Европой", — говорится в тексте стратегии.
"Мы будем работать с ЕС над формированием единого энергетического рынка, помогая снизить зависимость Европейского союза от России", — отмечается в документе.
Необходимо сохранять санкции в отношении России, указывается в тексте стратегии.
"Незаконная аннексия Россией Крыма и дестабилизирующая деятельность на Украине напрямую угрожает европейской безопасности и основанному на правилах европейскому порядку… Мы работаем с европейскими партнерами над сохранением санкционного давления на Россию с тем, чтобы она следовала своим обязательствам в соответствии с минскими соглашениями, ушла из Крыма и выполнила свои международные обязательства из уважения к закону, правам человека и демократии. Мы продолжим предпринимать жесткие меры для поддержания мира и стабильности", — говорится в документе.
В то же время, несмотря на все разногласия, британская сторона включила в стратегию пункт о необходимости сотрудничества с РФ.
"Россия — один из пяти постоянных членов Совбеза ООН, и, невзирая на наши разногласия, мы будем искать пути сотрудничества с Россией в борьбе с различными угрозами безопасности, такими, как угроза, исходящая от ИГ", — говорится в тексте.
Кроме того, в стратегии сообщается, что МИД Великобритании усилит российское направление.
"Мы используем дипломатические навыки и опыт для того, чтобы поддерживать наших сторонников, бороться с нашими врагами, усиливать влияние и охват Великобритании. Мы продолжим усиливать оперативность реагирования в кризисных ситуациях. Мы будем поддерживать нашу дипломатическую сеть", — говорится в тексте.
"Мы расширим нашу компетентность и широту в страноведении, что жизненно необходимо для нашей безопасности и процветания, в том числе мы усилим арабский язык и мандаринский диалект китайского. И мы усилим российское направление", — отмечается в документе.
Китай и Иран — необходимые партнеры
В стратегии немалую роль играют международные вопросы, в первую очередь, вопросы сотрудничества со странами, уже являющимися ближайшими союзниками Великобритании. В документе подтверждается, что в настоящее время правительство ведет с ЕС переговоры об изменении условий членства Великобритании в объединении, и что реформы пойдут на пользу и Соединенному Королевству, и ЕС.
Однако британские власти считают необходимым укрепление партнерства и с теми странами, с которыми у них исторически сложились весьма непростые отношения.
Так, Великобритания выступает за усиление роли Ирана в борьбе с исламским терроризмом.
"После более чем десяти лет переговоров мы с партнерами достигли в июле исторического соглашения, которое предусматривает жесткие ограничения и обязательные инспекции в том, что касается ядерной программы Ирана", — говорится в тексте.
"Мы будем призывать Иран играть прозрачную и конструктивную роль в региональных делах, в особенности в борьбе против жестокого исламского терроризма", — отмечается в документе.
Также Великобритания будет укреплять отношения с Китаем, в том числе, с целью противостояния ядерной программе КНДР.
"Наши отношения с Китаем быстро развиваются. Мы не рассчитываем, что во всем будем соглашаться с китайским правительством. Во всех наших договоренностях мы будем рьяно защищать британские интересы", — говорится в тексте.
"Но наша цель — построить более тесное сотрудничество с Китаем, сотрудничать более тесно в противостоянии глобальным угрозам, включая изменение климата, терроризм, экономическое развитие Африки, и в противостоянии ядерной программе КНДР", — отмечается в документе.
В стратегии также говорится, что КНДР — единственная страна, испытавшая в 21 веке ядерное оружие.
Тема ситуации в Сирии не слишком подробно освещается в тексте стратегии, однако премьер-министр Великобритании, обсуждая оборонную стратегию с депутатами палаты общин, отметил, что не считает необходимым разрушать государственное устройство Сирии и настаивает лишь на передаче полномочий от нынешнего президента Башара Асада в рамках общего плана по урегулированию конфликта.
"Когда мы говорим об Асаде (о том, что он должен уйти в отставку), мы не имеем в виду полного демонтажа системы государственных институтов. Она в Сирии есть и работает. Речь идет лишь о передаче власти. Для этого необходима концепция по урегулированию ситуации (в стране)", — отметил премьер.
Собственные силы
Главными вызовами для страны, помимо недружественных действий России, британское правительство называет терроризм и киберугрозу. Лондон намерен сделать все, чтобы британские вооруженные силы и спецслужбы, считающиеся одними из самых эффективных и современных в Европе, могли бы и далее эффективно противостоять террористам, для чего будет увеличена численность контртеррористических подразделений.
Ключевым элементом новой стратегии стало перевооружение и модернизация вооруженных сил. После целой серии терактов в мире британское правительство решило увеличить расходы на закупки военной техники, оружия и экипировки на 12 миллиардов фунтов стерлингов. В числе наиболее значимых закупок — истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, самолеты морской разведки и новые атомные подлодки.
"Будут закуплены 138 истребителей F-35. Первые 24 самолета будут размещены на новых авианосцах к 2023 году… Девять самолетов морской разведки Boeing P8 Poseidon поступят в войска к 2020 году", — говорится в документе.
При этом правительство отмечает, что самолеты-разведчики необходимы для поиска вражеских подлодок и спасательных операций.
Помимо F-35, ВВС Великобритании получат дополнительно еще одну эскадрилью истребителей четвертого поколения Typhoon, а флот беспилотных аппаратов будет увеличен в два раза — с 10 до 20.
ВМС страны также ждет модернизация. Главным проектом на предстоящие годы станет ввод в строй новых ядерных подлодок.
"Полная замена флота ядерных АПЛ обойдется в 31 миллиард фунтов стерлингов, что на 6 миллиардов фунтов больше планируемых ранее затрат… Также будут построены восемь боевых кораблей проекта 26 для замены стоящих в строю линейных кораблей проекта 23", — отмечается в докладе.
Ранее, в октябре министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подтвердил намерение правительства строить новые подводные лодки. В рамках программы Trident британское правительство закупает, ставит на боевое дежурство ядерные вооружения и средства их доставки, а также управляет ядерным арсеналом. В структуре программы находятся четыре атомных подлодки, способные нести ядерные боезаряды.
При этом ранее ВМС Великобритании заявляли, что планировали получить 13 таких новых кораблей.
Представляя стратегию, премьер Кэмерон подтвердил, что к 2018 году в строй встанут два строящихся авианосца. В общей сложности ВМС в рамках стратегии получат 26 военных кораблей, поставщиком которых станет компания BAE Systems.
Главной реформой для сухопутных сил станет формирование к 2025 году двух бригад повышенной готовности, численностью в пять тысяч человек каждая, которые в случае крупных терактов должны прийти на помощь полиции внутри страны или быть развернуты в кратчайшие сроки в любой точке земного шара.
Кэмерон также пообещал, что его правительство делает все, чтобы направить инвестиции в область развития вооружений нового поколения. Одним из главных направлений он назвал усовершенствование беспилотных летательных аппаратов. При этом для финансирования модернизации правительство намерено сокращать расходы самого Минобороны. Стратегия предусматривает сокращение на 30% в течение следующих пяти лет количества гражданских служащих министерства до уровня в 41 тысячу человек.
Спецслужбы в прибыли
Штаты антитеррористических подразделений спецслужб будут увеличены, а финансирование самих спецслужб вырастет до 2 миллиардов фунтов стерлингов в течение 5 лет.
Новое финансирование будет выделено службам безопасности и разведки MI5, MI6 и Управлению правительственной связи с целью увеличить штат на 1,9 тысячи сотрудников. Решение принято в качестве ответа на растущую угрозу атак международных террористов, растущее количество кибератак и другие глобальные риски". В настоящее время общая численность сотрудников MI6, MI5 и Управления правительственной связи составляет примерно 12,7 тысячи человек.
Непосредственно фонд борьбы с терроризмом будет увеличен на треть до 15 миллиардов фунтов стерлингов, средства из него будут направляться на установление подозрительных пассажиров, новые меры контроля на границах для борьбы с контрабандой оружием.
Также будет увеличена и помощь другим государствам. Половина из 11-миллиардного бюджета помощи иностранным государствам будет направляться на поддержку нестабильных государств и регионов.
Особую опасность британское правительство видит в том, что террористические группы, в том числе экстремистские организации "Исламское государство" и "Аль-Каида" могут попытаться завладеть химическим, биологическим или радиоактивным оружием.
Говоря о борьбе с ИГ, Кэмерон подтвердил, что в предстоящий четверг выступит перед парламентом страны с объяснением, почему страна должна принять участие в военной кампании против "Исламского государства" в Сирии.
"В четверг я снова приду сюда, чтобы привести аргументы в пользу участия Великобритании в операции против ИГИЛ в Сирии", — сказал Кэмерон.
Он подчеркнул, что терроризм можно победить лишь вместе с партнерами.
Кибербезопастность и отмывание денег
Киберугрозу британское правительство отдельно упомянуло как одну из главных угроз, а стратегия предусматривает создание национального центра по противодействию киберугрозам.
"Мы создадим новый национальный кибер-центр, который будет курировать работу по противодействию кибератакам. Центр будет работать под руководством Управления правительственной связи при МИД страны", — говорится в документе.
Всего на кибербезопасность будет выделено 1,25 от всего оборонного бюджета страны. Для борьбы с кибер-угрозой также планируется создать специальный фонд инноваций с объемом средств в 165 миллионов фунтов.
Правительство планирует инвестировать не только в оборонную сферу, но и в образование, повышая компьютерную грамотность граждан с тем, чтобы они могли эффективнее защищать свои данные. В планах кабинета министров — налаживание диалога с крупными компаниями по вопросам кибербезопасности.
В общей сложности, согласно стратегии, Великобритания выделит дополнительно почти два миллиарда фунтов стерлингов на обеспечение кибербезопасности.
Наравне с киберугрозой Британия собирается бороться с "отмыванием" преступных доходов, а также лицами и организациями, которые пытаются уйти из-под международных санкций. Великобритания проведет международный форум по борьбе с коррупцией в 2016 году, меры по борьбе с отмыванием денег будут усилены.
"Мы представим новые меры, которые позволят Великобритании активнее бороться с теми, кто пытается перемещать, прятать или использовать средства, полученные от преступной деятельности или коррупции, а также пытается ускользнуть от санкций… Великобритания проведет глобальный антикоррупционный саммит в 2016 году", — говорится в распространенном канцелярией премьера документе.
Британское правительство планирует опубликовать программу по борьбе с отмыванием денег в ближайшее время, рассчитывая "устранить имеющиеся недостатки в этой сфере".
Мария Табак, Денис Ворошилов, Ирина Чумакова.
Россия готова выделить Ирану экспортный кредит на 5 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Ирана Хасаном Роухани.
"Будем активизировать и промышленную кооперацию. Россия готова выделить на эти цели государственный экспортный кредит в размере 5 миллиардов долларов", — сказал Путин.
"Отобрано 35 приоритетных проектов в сфере энергетики, строительства, морских терминалов, электрификации, железных дорог и так далее", — отметил президент РФ.
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак, являющийся сопредседателем российско-иранской межправительственной комиссии, сообщал, что страны обсуждают предоставление Тегерану межгосударственного экспортного кредита на 5 миллиардов долларов, а также экспортного кредита со стороны Внешэкономбанка (ВЭБа) на 2 миллиарда евро.
Великобритания выступает за усиление роли Ирана в борьбе с исламским терроризмом.
"После более чем десяти лет переговоров, мы с партнерами достигли в июле исторического соглашения, которое предусматривает жесткие ограничения и обязательные инспекции в том, что касается ядерной программы Ирана", — говорится в тексте новой стратегии Великобритании в сфере обороны и безопасности.
"Мы будем призывать Иран играть прозрачную и конструктивную роль в региональных делах, в особенности в борьбе против жестокого исламского терроризма", — отмечается в документе.
Мария Табак.
Нельзя одной рукой бороться с террористами, а другой подыгрывать им
Александр МЕЗЯЕВ
20 ноября Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2249 о борьбе с терроризмом, точнее – по ситуации, сложившейся в связи с террором «Исламского государства» в Сирии и Ираке. Впрочем, политически правильнее называть эту организацию Даеш,(1) так как использование термина «Исламское государство» (ИГ) является умышленной дискредитацией ислама как религии мира и терпимости.(2) Единственной проблемой использования термина Даеш вместо названия «Исламское государство» является решение Верховного суда России от 29 декабря 2014 года, в котором ИГ признаётся террористической организацией и её деятельность на территории России запрещается. В решении Суда перечисляются другие названия ИГ, но все они в той или иной форме содержат слово «ислам», а название «Даеш» в него не попало.(3) Впрочем, впервые термин «Даеш» был включён в иные названия ИГ в только что принятой резолюции СБ ООН 2249, таким образом, решение Верховного суда РФ можно толковать в системе с этой резолюцией.
Данный пункт повестки дня был чрезвычайным, в план работы СБ на ноябрь включён не был и потому проект готовился в необычной обстановке. Как правило, каждый запланированный пункт повестки дня имеет своего ответственного члена Совета, готовящего проект резолюции, но внеочередные пункты повестки дня часто предполагают активное участие со стороны разных членов Совбеза. При подготовке заседания Совбеза произошло столкновение двух проектов - французского и российского. Впрочем, говорить о том, что вопрос о терроризме является для СБ внезапным, конечно, не приходится. Вот уже много лет этот вопрос находится в постоянной повестке дня Совета, проходит рутинное обсуждение, завершающееся то выражением соболезнований отдельным государствам, то принятием отдельных резолюций, но вопрос так и не получил окончательного решения. Так, например, ещё в октябре 2004 года СБ ООН принял решение о создании специального компенсационного фонда помощи жертвам терроризма. Однако через год данное решение было признано поспешным. В том числе по причине… отсутствия определения терроризма в международном праве! Данное решение Совбеза наглядно демонстрирует половинчатый характер действий Совета Безопасности.
Резолюция 2249, принятая 20 ноября, носит тот же характер. Обновлённый российский проект, который был представлен в Совет ещё 30 сентября, поддержан не был. Более того, постоянный представитель России в СБ ООН В.И.Чуркин сообщил, что ряд государств попытались даже заблокировать работу над российским проектом.(4) В отличие от «ряда государств», Франция учла некоторые российские поправки. В создавшейся ситуации Россия поддержала французский проект.
Что же предусматривает новая резолюция СБ ООН 2249?
Прежде всего, следует отметить, что, согласно резолюции, Даеш представляет собой «глобальную и беспрецедентную угрозу международному миру и безопасности». Это намного более жесткая квалификация, нежели простое включение Даеш и «Фронт ан-Нусра» в список террористических организаций, что было сделано в резолюции СБ ООН в мае 2015 года.
Кроме того, СБ призвал все государства принять «все необходимые меры» по борьбе с террором Даеш и рядом других организаций. Эта формула вызывает серьёзные вопросы.
Во-первых, несмотря на квалификацию деятельности Даеш как «угрозу международному миру», резолюция 2249 не упоминает главу VII Устава ООН в качестве основы принимаемых им действий. Это весьма странно, так как единственным смыслом квалификации той или иной ситуации в качестве «угрозы миру» является применение силы, то есть мер, предусмотренных главой VII Устава ООН. На этом странности резолюции не прекращаются. Внимательное прочтение текста показывает, что СБ как таковой не принял никаких мер в отношении террора Даеш. Он всего лишь «призвал» другие государства (добавлено: «имеющие такие возможности») принимать те или иные меры.(5) Сам СБ ООН ничего не предписывает и даже не одобряет. Во-вторых, призыв к принятию «всех необходимых мер» обусловлен целой группой ограничений. Среди них: нормы международного права, включая Устав ООН, нормы международного права, регулирующего права человека, международного права, регулирующего права беженцев, и международного гуманитарного права. Возможно, это самый главный пункт резолюции 2249, и как раз он-то оставляет ощущение двусмысленности… По крайней мере, странности текста французского проекта дают основания полагать, что если бы главной целью было действительно уничтожение Даеш, то формулировки были бы совершенно иными.
И здесь надо сказать о противостоянии двух проектов резолюций, а точнее двух концептуальных подходов - Франции (западного блока в целом) и России. Дело в том, что Россия постоянно подчёркивает необходимость соблюдения государственного суверенитета Сирии. Отсутствие в тексте резолюции прямого указания на согласие сирийских властей при принятии другими государствами «всех необходимых мер» (положение, содержавшееся в российском проекте) является ещё одной важнейшей проблемой данной резолюции. Данное положение российского проекта вызвало весьма ожесточённую реакцию со стороны западного блока. Так, постоянный представитель Британии в Совбезе заявил: «Россия должна решить сама, будет ли она возвращаться к своей резолюции. Если она намерена так действовать, то для преодоления возникших разногласий в проект следует внести изменения, касающиеся роли Асада в Сирии». Однако позиция России основана на международном праве, а не на ублажении британских пожеланий. Российская Федерация намерена бороться с терроризмом всерьёз и по всем фронтам. Именно поэтому Россия заявила, что она будет продолжать продвигать свой проект в СБ ООН(6).
(1) Аббревиатура от арабского произношения ИГИЛ (ad-Dawlah al-Islāmiyah fī 'l-Irāq wa-sh-Shām).
(2) Даеш резко критикуется исламскими религиозными деятелями, включая теологов. Так, Великий муфтий Саудовской Аравии Абдул-Азиз назвал в 2014 году террор главным врагом ислама. В сентябре 2014 года более 120 имамов и мусульманских теологов всего мира направили главарю Даеш аль-Багдади открытое письмо, выразив несогласие с его интерпретацией ислама. Великий имам мечети Аль-Азхар А. эль-Тайеб назвал деятельность Даеш попыткой экспорта фальшивого ислама. Имеется много других примеров осуждения исламским миром так называемого «Исламского государства».
(3) См. решение Верховного суда России по делу №АКПИ14-1424С от 29 декабря 2014 г. // http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1223842
(4) Выступая на заседании Совбеза 20 ноября, В.И.Чуркин заявил: «Попытку некоторых членов Совета заблокировать работу над нашим проектом считаем политически близорукой. Нельзя одной рукой бороться с террористами, а другой фактически подыгрывать им, руководствуясь конъюнктурными соображениями».
(5) Дословно текст параграфа 5 резолюции 2249 звучит следующим образом: Совет Безопасности «призывает государства-члены, которые способны сделать это, принять все необходимые меры в соответствии с международным правом… на территории под контролем ИГИЛ, также известного как «Даеш», в Сирии и Ираке, с тем чтобы удвоить и координировать свои усилия для предупреждения и пресечения террористических актов, совершаемых непосредственно ИГИЛ» и другими террористическими группами, «обозначенными Советом Безопасности ООН, сообразно тому, как это может быть дополнительно согласовано Международной группой поддержки Сирии (МГПС) и одобрено Советом Безопасности ООН в соответствии с заявлением Международной группы поддержки Сирии от 14 ноября».
(6) http://www.fondsk.ru/news/2015/11/21/rossia-prodolzhit-dobivatsja-prinjatija-sovbezom-oon-ee-rezoljucii-po-terrorizmu-36916.html
Президентский срок Барака Обамы, по всей видимости, закончится раньше, чем Башар Асад уйдет с поста президента Сирии, пишет обозреватель агентства Ассошиэйтед Пресс.
Когда сирийский конфликт только разгорался, Вашингтон заявлял, что дни Асада во власти сочтены, и требовал его немедленного ухода с поста президента. С тех пор позиция Белого дома смягчилась, поскольку после нападений в Париже внимание всего мира приковано к террористической группировке "Исламское государство".
"В результате США сотрудничают с Россией и Ираном – странами, которые они прежде пытались изолировать", — отмечается в статье. Расчет при этом состоит в том, что перемирие между сирийским правительством и оппозицией позволит всем силам объединиться для борьбы против ИГ.
"Войска Асада, при всей своей жестокости, не нападают на европейские столицы, не обезглавливают американских журналистов и не устраивают терактов в российских пассажирских самолетах", — подчеркивает агентство. В отличие от ИГ, Асада поддерживают "могущественные покровители" в Москве и Тегеране, помощь которых позволила укрепить позиции сирийской армии.
Пытаясь учесть все эти факторы, США в данный момент корректируют свою сирийскую стратегию в переговорах с партнерами в Европе и арабском мире.
В плане мирного урегулирования, принятом на переговорах в Вене 14 ноября, указывается, что в течение 18 месяцев в Сирии будут проведены выборы в соответствии с новой конституцией, о которой правительство и оппозиция еще должны договориться. О будущем Асада, однако, ничего не говорится. В итоге вполне вероятно, что он все еще будет во главе Сирии в тот момент, когда президентский срок Барака Обамы подойдет к концу, 20 января 2017 года, пишет агентство.
Как сообщили агентству западные дипломаты, хотя США согласны с тем, что Башар Асад на некоторое время останется президентом Сирии, план его ухода все же должен быть согласован. Саудовская Аравия, Турция и Катар, как предполагается, должны убедить сирийскую оппозицию в необходимости поддержать план мирного урегулирования, но они пойдут на это лишь в том случае, если у них будут гарантии по уходу Асада. США и Европа, в свою очередь, не могут этого гарантировать, рассказали западные дипломаты.
Если оппозиция откажется вести переговоры, Асад не уйдет в отставку. И даже если план мирного урегулирования сработает, Асад будет вовлечен в переходный процесс, который может затянуться до 2017 года и более. Если же ИГ будет повержено и в Сирии восстановится мир, оппозиционные группировки могут снова потребовать отставки президента и конфликт разгорится заново.
В связи с этим западные дипломаты обсуждают возможность того, чтобы Асад остался во главе Сирии на неопределенный срок в качестве президента с представительскими функциями, без контроля над спецслужбами и силами безопасности. Однако неясно, согласятся ли с этим все стороны переговоров, подчеркивается в статье.
Оценивая влияние выхода иранской нефти на мировой рынок, глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил: «Ответ на этот вопрос не такой прямолинейный. Конечно, дополнительные объемы в любом случае повлияют на баланс спроса и предложения».
По его словам, "нужно посмотреть, что произойдет в целом по другим странам, какие будут цены на тот момент, какие инвестиции".
Напомним, что ранее замминистра нефти Ирана Амир Хоссейн Заманиния заявил, что Тегеран в течение 5-6 месяцев увеличит добычу нефти примерно на 1 миллион баррелей в сутки. А министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что страна уже обратилась в организацию стран-экспортеров нефти с просьбой сократить производство, чтобы оставаться в рамках квоты ОПЕК, которая на данный момент составляет 30 млн баррелей в сутки.
"ОПЕК добывает больше согласованной квоты. Я попросил их сократить производство нефти в соответствии с квотой. Но это не значит, что мы не будем производить больше, потому что вернуться на рынок - это наше право", - отметил Зангане.
Кроме того, Тегеран рассчитывает в течение пяти лет начать поставки газа в страны Персидского залива.
“Сейчас у нас очень мало газа для поставок. Мы поставляем лишь небольшое количество в Турцию… Мы ожидаем, что в течение 5 лет мы сможем поставлять газ нашим соседям на юге Персидского залива — Оман, ОАЭ, Кувейт и, возможно, Пакистан”, — сказал замминистра нефти страны Амир Хоссейн Заманиния.
Тем временем страны, участвующие в форуме ФСЭГ, выразили общую позицию по ситуации на рынке газа.
В 17-ой министерской встрече форума стран-экспортеров газа, которая состоялась в преддверии третьего саммита глав государств ФСЭГ, принял участие министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.
«Страны еще раз подтвердили, что роль газа будет увеличиваться и признали важность таких инструментов как долгосрочные контракты, механизмы take-or-pay и привязку к цене на нефть", - сказал Александр Новак.
Глава Минэнерго России подчеркнул, что также было очень важным согласование в проекте резолюции обеспокоенности стран односторонними санкциями, что противоречит международному праву и создает неустойчивость, риски и дисбаланс.
По итогам встречи министров было объявлено, что следующая, 18-я министерская встреча ФСЭГ пройдет 17 ноября 2016 года.
Александр Новак также провел двусторонние переговоры с министром энергетики и промышленности Катара Мухаммадом Салехом Ас-сада и министром нефтяной и горнорудной промышленности Боливарианской Республики Венесуэла Эулохио Дель Пино.
Форум стран-экспортеров газа объединяет страны, лидирующие в мире по экспорту природного газа. Организация основана в 2001 году в Тегеране, учреждена юридически — 23 декабря 2008 года в Москве, где министры энергетики стран-участниц приняли устав форума и подписали межправительственное соглашение.
Участниками ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла. Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу участвуют в нем в качестве наблюдателей. Штаб-квартира ФСЭГ располагается в столице Катара Дохе.
Александр Новак принял участие в 17-ой Министерской встрече ФСЭГ.
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в 17-ой Министерской встрече Форума стран-экспортеров газа, которая состоялась в преддверии третьего Саммита глав государств ФСЭГ.
По словам российского Министра, страны, участвующие в форуме ФСЭГ, выразили общую позицию по ситуации на рынке газа.
«Страны еще раз подтвердили, что роль газа будет увеличиватьс и признали важность таких инструментов как долгосрочные контракты, механизмы take-or-pay и привязку к цене на нефть", - сказал Александр Новак.
Глава Минэнерго России подчеркнул, что также было важным согласование в проекте резолюции обеспокоенности стран односторонними санкциями, что противоречит международному праву и создает неустойчивость, риски и дисбаланс.
Оценивая влияние выхода иранской нефти на мировой рынок, Александр Новак сообщил: «Ответ на этот вопрос не такой прямолинейный. Конечно, дополнительные объемы в любом случае повлияют на баланс спроса и предложения. Нужно посмотреть, что произойдет в целом по другим странам, какие будут цены на тот момент, какие инвестиции».
По итогам встречи министров было объявлено, что следующая, 18-я Министерская встреча ФСЭГ, пройдет 17 ноября 2016 года.
В рамках Министерской встречи ФСЭГ Александр Новак также провел ряд двусторонних переговоры, в том числе, с Министром энергетики и промышленности Катара Мухаммадом Салехом Ас-сада и Министром нефтяной и горнорудной промышленности Боливарианской Республики Венесуэла Эулохио Дель Пино.
Справочно:
Форум стран-экспортеров газа объединяет страны, лидирующие в мире по экспорту природного газа. Организация основана в 2001 году в Тегеране, учреждена юридически — 23 декабря 2008 года в Москве, где министры энергетики стран-участниц приняли устав форума и подписали межправительственное соглашение.
Участниками ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла. Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу участвуют в нем в качестве наблюдателей. Штаб-квартира ФСЭГ располагается в столице Катара Дохе.
Иран рассчитывает в течение пяти лет начать поставки газа в Оман, ОАЭ, Кувейт, заявил журналистам замминистра нефти страны Амир Хоссейн Заманиния.
По словам министра, пока что в стране недостаточно газа для поставок, Иран может поставлять лишь небольшое количество сырья в Турцию.
"Мы ожидаем, что в течение 5 лет мы сможем поставлять газ нашим соседям на юге Персидского залива - Оман, ОАЭ, Кувейт и, возможно, Пакистан", - сказал он.
Ранее стало известно, что Иран намерен увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Министр нефти Ирана Бижан Зангане считает, что России не стоит волноваться относительно того, что Иран займет ее долю на мировом рынке газа.
"Думаю, не стоит", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли России беспокоиться, что Иран займет ее долю на рынке газа.
Говоря о планах Ирана по экспорту газа, Зангане отметил: "У нас нет трубопровода для экспорта газа в европейские страны, для этого необходимо время. Сейчас идет много переговоров с Турцией и другими странами, чтобы экспортировать газ в Европу".
"Мы продолжим строительство нашего СПГ-завода (предприятия по производству сжиженного природного газа — ред.)", — добавил он.
Российская Федерация выставила кандидата на пост генсека Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), сказал журналистам пресс-секретарь организации Акбар Нематоллахи (Akbar Nematollahi).
"Нигерия, Ливия и Россия выставили кандидатов на пост генерального секретаря ФСЭГ", — сказал Нематоллахи.
"В настоящий момент идет голосование", — добавил он.
Форум стран-экспортеров газа объединяет страны, лидирующие в мире по экспорту природного газа. Организация основана в 2001 году в Тегеране, учреждена юридически — 23 декабря 2008 года в Москве, где министры энергетики стран-участниц приняли устав форума и подписали межправительственное соглашение.
Участниками ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла. Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу участвуют в нем в качестве наблюдателей. Штаб-квартира ФСЭГ располагается в столице Катара Дохе.
Страны "шестерки" помогут Ирану в модификации тяжеловодного экспериментального реактора в Араке с целью сделать невозможным производство на нем оружейного плутония, говорится документе, подписанном главами МИД Ирана, России, США, Китая, Франции, Великобритании и Германии.
Согласно документу, Иран "возьмет на себя руководящую роль" и будет нести ответственность за обозначение сроков работ и общую реализацию проекта модификации реактора в Араке. Китай примет участие в проектировании и конструировании модифицированного реактора, "включая выполнение проектных работ, поставку оборудования и обеспечение топлива для первой загрузки активной зоны ядерного реактора". США обеспечит техническую поддержку и оценку проекта реконструкции реактора, будет осуществлять контроль ядерного топлива и стандартов безопасности. Помимо этого США удостоверится в соответствии нового реактора принципам атомного соглашения. Франция, Великобритания, Германия осуществят проверку работ и стандартов безопасности, а также будут поставлять необходимое оборудование. Россия "обеспечит консультационную помощь" и при необходимости проведет экспертизу модернизированного ректора.
Официальный документ, который размещен на сайте Организации по атомной энергии Ирана в открытом доступе, вступил в силу с момента подписания его всеми членами соглашения 13, 17 и 18 ноября и получения ими заверенных копий.
Иран и "шестерка" в июле достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, выполнение которого снимет с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на верификацию мирного характера иранской ядерной программы. Соглашение вступило в силу 18 октября.
Министр энергетики России Александр Новак приветствовал переизбрание представителя Ирана Хоссейна Адели на пост генсека Форума стран-экспортеров газа и пожелал ему завершить ряд запланированных исследовательских работ в рамках организации.
Министры энергетики стран ФСЭГ в субботу переизбрали Адели генсеком организации на ближайшие два года.
"Мы заслушали сегодня отчет генсека ФСЭГ господина Адели. Отчет был подготовлен на высоком уровне. За два года его председательства было многое сделано, была подготовлена газовая модель, решены кадровые вопросы, но ряд запланированных исследовательских работ не был закончен. Мы пожелали ему, чтобы они были завершены", — сказал Новак журналистам
"Это не значит, что плохо работает комитет, поэтому сегодня было принято решение продлить полномочия Адели еще на два года. Я думаю, это хороший вариант, чтобы стабильно и качественно продолжить работу", — добавил министр энергетики РФ.
Форум стран-экспортеров газа объединяет страны, лидирующие в мире по экспорту природного газа. Организация основана в 2001 году в Тегеране, учреждена юридически — 23 декабря 2008 года в Москве, где министры энергетики стран-участниц приняли устав форума и подписали межправительственное соглашение.
Участниками ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла. Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу участвуют в нем в качестве наблюдателей. Штаб-квартира ФСЭГ располагается в столице Катара Дохе.
Иран в конце 2016 года начнет поставки нефти и газа в Ирак, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане.
"Иран начнет поставки газа на Басру в Ираке и нефти в Нафтшар (месторождение в Ираке — ред.) в конце 2016 года", — сказал он журналистам в субботу.
Ранее глава Национальной иранской газовой компании Хамид Реза Араги заявлял, что приоритетными рынками для поставок газа из Ирана являются соседние страны — Турция и Ирак.

Авторитетное мнение: В России нужно стимулировать частный сектор
Угрожает ли эскалация политической напряженности на Ближнем Востоке глобальному экономическому росту? Что будет с ценой нефти? Стоит ли миру опасаться замедления китайской экономики?
О своем видении экономической ситуации в России и мире рассказал знаменитый американский экономист Нуриэль Рубини.
О СИТУАЦИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
Профессор предрек перебои нефтяных поставок, еще большее увеличение потока мигрантов в Европу и предсказал появление нового поколения джихадистов. Очень серьезным он назвал один из геополитических рисков - дугу нестабильности, протянувшуюся от Магриба до Афганистана и Пакистана. Нестабильность по этой дуге нарастает, даже несмотря на угасание воспоминаний об «арабской весне». Он напомнил, что произошло с первоначальными государствами «арабской весны»: Ливия стала недееспособной, Египет вернулся, по его мнению, к авторитарному правлению, а Тунис дестабилизирован террористами. Большая часть Ближнего Востока нестабильна, правда, это не оказывает влияния на цены на нефть (цены, наоборот, резко снизились еще в прошлом году и не растут).
И главная причина, по мнению Рубини, скорее в том, что проблемы на Ближнем Востоке не спровоцировали перебоев в поставках нефти, потому что даже в контролируемых «Исламским государством» частях Ирака добыча нефти не останавливается.
Тем более существует мировой избыток нефти, многие страны активно добывают нефть плюс к тому обнаружены огромные запасы в Южной Америке и Восточной Африке.
ЧТО ЖДЕТ РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ?
По мнению профессора, единственным путем к более быстрому росту является наращивание объемов производства, что предполагает инвестиции и государства, и частных инвесторов в человеческий капитал, инфраструктуру и технологии. В России же объем инвестиций остается на низком уровне. Рубини считает, что нужно стимулировать частный сектор, который способен подтолкнуть рост производства.
Некоторое экономическое восстановление можно будет ожидать уже в следующем году. Разгона инфляции не будет. Но потенциал восстановительного роста сегодня в России не превышает 1,5-2%. Реформы проходят медленно и не успевают за глобальными переменами в экономике.
Но будущее для российского сырья явно не лучшее: вакантное место поставщика газа в Европу, скорее всего, будет занято США - они сейчас в процессе отмены собственного запрета на экспорт нефти и получения лицензий на экспорт сжиженного газа. Дайте им 5-6 лет - и Европа перестанет надеяться на российский газ, который будет продан по меньшей цене Китаю. Выход в этой ситуации - начало диверсификации экономики. Это единственное решение.
ЧЕМУ РОССИЯ ОТДАЕТ ПРИОРИТЕТЫ В РАСХОДАХ?
Рубини считает, что Россия слишком озабочена политическими вопросами, военными делами, милитаризацией. В бюджете на 2016 год очевидна приоритетность расходов на оборону. Не лучше ли сфокусировать свои усилия на экономическом развитии?
Профессор отметил, что в России (как и в Китае) есть влиятельные группы, не заинтересованные в проведении реформ. При условии высоких цен на нефть эти группы имели доходы, процветала коррупция, а теперь это невыгодно.
В России необходимо установить соглашение между обществом и политической верхушкой, поскольку на частный сектор оказывается слишком большое давление и это никому не выгодно.
Каждому государству хочется быть сильным игроком на мировой арене не только в отношении экономики, но также в политической и геополитической сферах. Однако для достижения этой цели необходимо иметь хорошую экономику. Китай, например, решил сосредоточить свои усилия на достижении экономического результата и в итоге превратился в сильную и влиятельную страну, поскольку все успехи в экономике распространились на политику и геополитику. Экономическая уязвимость влияет на политическую сферу и дипломатические возможности.
А в настоящее время главным риском является замедление роста экономики в Китае. Россия относится к числу тех государств, для которых последствия этого могут быть нежелательными, поскольку Китай не будет нуждаться в таких объемах нефти, как сейчас, стоимость энергоресурсов будет оставаться низкой.
О САНКЦИЯХ ПРОТИВ РОССИИ
Если действие санкций в отношении РФ будет приостановлено, российская экономика начнет расти в лучшем случае с 2016 года.
Причем не столько санкции будут влиять, сколько общее падение цен на сырье, которое вызвано ростом добычи шельфового газа в США, Канаде и других странах мира. Кроме того, цена на нефть зависит и от цены на доллар, и укрепление американской валюты в целом в мире давит и на нефтяные котировки, и на рубль.
Россия должна достичь компромисса с Западом. Параллельно России необходимо думать о том, как вернуться к росту ВВП, - подойдет стратегия, включающая привлечение частного капитала, сокращение трат для ведения бизнеса, снижение уровня коррупции.
КТО ОКАЗАЛСЯ НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫМ?
Те страны, которые проводят структурные реформы, оказались наиболее устойчивыми: Мексика (при президенте Энрике Нето), Индия (при премьер-министре Моди). Если раньше прогнозы мирового роста составляли 4%, то сейчас с замедлением потенциала роста развивающихся экономик до 4% мировой рост снизится до 3%.
Но что очень важно: качество роста, а не только количество.
Рубини назвал среди возможных угроз в политике для мировых рынков приход к власти радикальных партий в европейских странах, ситуацию на Украине. Во Франции, по его прогнозу, к власти может прийти Ле Пен (глава Национального фронта), а в Испании - «Подемос». Есть определенные проблемы в Таиланде, Аргентине.
А какие последствия возможны при продолжении снижения цен на нефть? По мнению профессора, это может подтолкнуть Тегеран к диалогу с Западом по урегулированию ядерного вопроса. Саудовской Аравии нужно повышать цены на нефть, чтобы не допустить сближения Ирана с США.
Елена Половцева
Переговорные позиции Москвы и Тегерана крепнут
Орхан Саттаров,
руководитель европейского бюро "Вестника Кавказа"
Террористические атаки в Париже настолько сильно потрясли Европу, что сейчас в обществах многих европейских стран меняется представление о том, насколько активно надо бороться с терроризмом. Даже в миролюбивой Германии, где традиционно сильны пацифистские настроения, на сегодняшний день большинство опрошенных респондентов высказываются за активное участие бундесвера в борьбе против «ИГ». Жесткие заявления последовали и из Москвы, где недавно официально объявили, что на борту А321 произошел теракт. На этом фоне наблюдается определенная солидаризация общественности Европы с позицией, которую занимает Россия по Сирии.
Ограничится ли сближение России с Западом лишь общественными настроениями или же эта тенденция перекинется на внешнеполитическую плоскость? Несмотря на солидарность по поводу того, что осуществляться эта борьба должна совместными усилиями, а также переговоры в рамках саммита «большой двадцатки», ни одна из сторон пока не демонстрирует готовности идти на уступки по ключевому – с геополитической точки зрения – сирийскому вопросу. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Вестям» в очередной раз подтвердил, что Россия не рассматривает вопрос отстранения от власти Башара Асада. Отказаться от Асада Кремль на данном этапе не готов. Прекращение поддержки сирийского правительства, являющегося одним из наиболее действенных центров противодействия «ИГ» на земле, стало бы контрпродуктивным шагом с точки зрения эффективности продолжающейся антитеррористической кампании. Успешное же завершение этой миссии для РФ по ряду причин крайне важно – в том числе, и в свете уничтожения террористами российского гражданского лайнера.
Одновременно с выходом в эфир интервью Сергея Лаврова американский президент Барак Обама призвал Россию выбрать «между спасением сирийского государства и Башаром Асадом». По мнению Обамы, окончание гражданской войны в Сирии немыслимо в условиях сохранения у власти нынешнего президента, «утратившего легитимность». Из высказываний ведущих политиков России и США складывается впечатление, что камнем преткновения остается именно судьба Башара Асада. Но абсолютно очевидно, что в глобальной политике значение имеет не столько личность сирийского президента, сколько завязанные на нем политические, экономические и военные факторы. Ведь для Кремля важно преемственности проводимого им геополитического курса в том случае, если Асад добровольно покинет свой пост. Точно так же, как для Запада и арабских монархий важнее добиться реальных изменений во внешней и внутренней политике САР, а не номинальной смены руководителя государства.
Вывести Башара Асада из игры, создав переходное правительство, которое включило бы в себя, в том числе, представителей нынешней правящей элиты Сирии – задача не из легких. Следует заметить, что в западной прессе муссируется информация о наличии определенных противоречий между Россией и Ираном относительно дальнейшей судьбы президента Башара Асада. Согласно данным анонимных дипломатических источников, Москва готова рассмотреть варианты состава сирийского правительства без участия Асада, в то время как Тегеран выступает с непримиримой позиции и настаивает на сохранении действующей власти в Дамаске. Достоверность подобных информационных «вбросов» оценить сложно. Политика – искусство возможного, и в ходе закрытых для общественности переговоров по сирийскому конфликту могут прорабатываться самые разные варианты. Но следует учитывать, что ни в одном из вариантов решение кризиса без участия Ирана не представляется возможным. Во многом лишь благодаря широкой поддержке Тегерана и союзной ей «Хизбаллы» столица Дамаск находится под контролем правительства. О масштабах вовлеченности иранских военных в борьбу против «ИГ» свидетельствует число убитых в последние недели генералов КСИР в Сирии.
Ни для Ирана, ни для России сохранение власти Башара Асада в Сирии не является самоцелью, важно сохранение его политического курса. Замена Асада на более положительно воспринимаемую в международном сообществе фигуру была бы, возможно, даже выгодна. Но уход Асада сопряжен с высокими рисками. Насильственное отстранение его от власти, либо же его добровольный отказ от нее в условиях не стихающей гражданской войны, может обернуться правовым хаосом, разрушением и без того хрупкой внутривластной конфигурации в стране. Это, в свою очередь, может спровоцировать еще большее обострение гражданской войны, что неизбежно повысит вероятность окончательной дефрагментации сирийского государства и полное уничтожение конституционной власти.
Создание сирийского «переходного правительства», о котором часто говорят на Западе, предполагает выработку консенсуса между региональными и мировыми игроками, имеющими свои интересы в Сирии, и подразумевает включение представителей интересов каждой из этих стран в состав подобного правительства. Помимо того, что консенсус отсутствует в принципе, возникает также вопрос, насколько дееспособной может оказаться такая «сборная власть» (в особенности, в условиях войны с «ИГ»), и не разделит ли она судьбу других шатких коалиций, образованных исключительно вокруг одной общей цели (в данном случае – уничтожении «ИГ»), по достижении которых страны вновь скатывались в пучину политического кризиса? К тому же, нет гарантий, что все региональные и мировые игроки в дальнейшем будут играть по правилам в случае достижения согласия по поводу состава переходного правительства. Вместо того, чтобы идти на подобные риски, России и Ирану, тактически выгоднее продолжать поддержку законного правительства Сирии. Тем более, фактически судьба Сирии решается на поле боя – и в данный момент, когда правительственные войска демонстрируют военные успехи и освобождают ранее занятые боевиками территории, переговорные позиции Москвы и Тегерана лишь крепнут.
В этом году запасы нефтепродуктов в Иране на 2 млрд. литров превышают прошлогодние запасы
Генеральный директор Иранской национальной компании по производству и распределению нефтепродуктов Аббас Каземи сообщил, что этой зимой, как и в прежние годы, в стране не будет никаких проблем с обеспечением потребителей топливом. Принятые меры позволили обеспечить достаточные запасы нефтепродуктов, и в этой связи причин для беспокойства нет.
Коснувшись вопроса обеспечения топливом электростанций, Аббас Каземи сообщил, что здесь также нет никаких проблем и электростанции полностью обеспечены альтернативным топливом. На электростанциях в качестве топлива шире используется природный газ, и это служит важным фактором сокращения потребления дизельного топлива. Так, если в прошлом году Иран импортировал дизельное топливо, то в этом году этот вид топлива уже не импортировался. Мало того, ежедневно экспортировалось по морю и суше до 10-12 млн. литров дизельного топлива.
Глава Иранской национальной компании по производству и распределению нефтепродуктов уточнил, что в этом году Иран производит нефтепродукты, за исключением бензина, в объеме, существенно превышающем внутренние потребности страны. Это позволяет активизировать другие важные сферы деятельности, в частности увеличить объемы бункеровки (заправки топливом судов, проходящих через Персидский и Оманский заливы). В этом году заметно увеличились объемы доставляемых на суда дизельного топлива и топочного мазута. Если сравнивать с прошлым годом, то объемы бункеровки выросли примерно на 20%.
Иранский флот пополнит новый эсминец
Новый эсминец «Саханд» (Sahand), разработанный иранскими специалистами, будет спущен на воду уже к концу текущего года по иранскому календарю ( до марта 2016 года). Об этом заявил командующий ВМС ИРИ контр-адмирал Хабиболла Сайяри.
По словам командующего, за последние годы Иран добился больших успехов в области обороны, и в настоящее время специалисты военно-морского флота Исламской республики строят еще несколько эсминцев.
«Саханд» является усовершенствованной модификацией 1400-тонного эсминца «Джамаран». Судно отличается лучшими физическими параметрами и оперативным потенциалом. В частности большей маневренностью, что позволяет кораблю быстрее изменять курс.
По информации Iran.ru , в носовой части главной палубы эсминца находится 76 миллиметровая автоматическая пушка «Фаджр-27», предназначенная для уничтожения надводных целей и воздушных объектов. Отличие ракетного оружия «Саханда» заключается в использовании двух счетверенных установок противокорабельных ракет, управляемых СУО. Оборонные и наступательный потенциал судно примерно в два раза превышает потенциал «Джамарана».
Иран имеет возможность экспортировать в Ирак до 3 тыс. МВт электроэнергии
Генеральный директор энергетической компании «Таванир» Ареш Корди в интервью агентству ИСНА сообщил, что согласно оценкам, Иран имеет возможность экспортировать в Ирак до 3 тыс. МВт электроэнергии в случае проведения соответствующих переговоров с иракской стороной.
Указав на то, что в Ираке наблюдаются отключения электроэнергии и на то, что электроэнергия может поставляться в эту страну из Ирана, Ареш Корди отметил, что на данный момент с иракцами проводятся консультации и обсуждается вопрос о возможных поставках электроэнергии из Ирана в часы непикового потребления.
По словам Ареша Корди, для экспорта электроэнергии в Ирак требуется соблюдение двух условий: во-первых, к таким поставкам должна быть готова энергетическая сеть Ирака и, во-вторых, поставки электроэнергии в Ирак без каких-либо ограничений возможны в часы непикового потребления в Иране.
Иранские вагоны на 25% дешевле импортных
Генеральный директор Иранской компании по развитию железнодорожной промышленности (IRICO) Мортаза Мокаддами в интервью агентству ИСНА сообщил, что возглавляемая им компания может на 100% обеспечить потребности иранских железных дорог в вагонах. По его словам, если каждый импортный вагон стоит около 4,7 млн. евро, то вагон отечественного производства обходится примерно на 20-25% дешевле.
Мортаза Мокаддами напомнил, что производственная линия компания вновь была запущена в марте этого года благодаря поддержке со стороны правительства после четырехлетнего перерыва, связанного с антииранскими санкциями, и правительство уже заказало компании 300 вагонов. При этом глава IRICO уточнил, что производственные мощности компании позволяют выпускать до 600 вагонов в год.
Производство продукции на заводе компании осуществляется при тесном взаимодействии с южнокорейскими партнерами. Именно IRICO способна обеспечить основную часть потребностей страны в железнодорожных вагонах. В настоящее время локализация производства вагонов составляет около 30%, а недостающие комплектующие поставляются южнокорейской стороной, которая даже в период санкций продолжала сотрудничать с IRICO, несмотря на невозможность осуществления платежей из-за банковских ограничений.
Мортаза Мокаддами подчеркнул, что в компании прилагаются усилия к тому, чтобы довести уровень локализации производства до 70%. Комплектующие, которые могут производиться внутри страны, будут обязательно выпускаться отечественными предприятиями. Однако для производства ряда комплектующих, таких, например, как тяговые двигатели вагонов, требуются особые технологии, и такие комплектующие приходится закупать у зарубежных партнеров.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























