Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Лорды в стекле и стали
Британский парламент станет прозрачным
Текст: Ариадна Рокоссовская
В Лондоне построят новое здание парламента с прозрачным фасадом. Оно будет служить временным домом для депутатов, пока Вестминстерский дворец будет закрыт на реконструкцию.
Напомним, что на сегодняшний день британские парламентарии заседают в неоготическом здании на берегу Темзы в лондонском районе Вестминстере. До 1529 года этот дворец служил столичной резиденцией английских королей, а в последние почти 500 лет в нем располагается парламент. За это время он один раз горел, неоднократно ремонтировался. Последний раз масштабные реставрационные работы в нем проводились после бомбардировок немецкой авиацией во время Второй мировой войны и закончились в 1950 году. По словам Ричарда Уэра, директора рассчитанной на 50 миллионов фунтов стерлингов в год программы реставрации и обновления дворца, благодаря ей здание удается лишь поддерживать в рабочем состоянии. В 2014 году он сообщил изданию The Daily Telegraph, что без капитального ремонта дворец может сгореть во второй раз. "Чем больше все устаревает, тем выше шансы на масштабный кризис. Один раз он уже сгорел", - напомнил Уэр.
Однако, пока в этом здании, насчитывающем 1100 помещений, 100 лестниц и 5 километров коридоров, работает одно из крупнейших законодательных собраний в мире, найти время и возможность для обновления сложно. Поэтому, рассмотрев все предложения - от многолетнего постепенного косметического ремонта, который только ухудшит общее состояние здания, до масштабной реконструкции с предварительным переносом парламента в другое здание, депутаты остановились на последнем. Оставалось только найти свободное здание, которое вместит 650 депутатов палаты общин и 789 лордов, а также весь аппарат. Задача эта не из легких, и еще несколько лет назад ходили слухи, что парламент переедет в Манчестер. Или же предлагалось построить для законодателей новое здание. В отчете, представленном парламентариям, говорилось, что этот вариант будет более дорогим в краткосрочной перспективе из-за затрат на поиск нового участка и строительных работ, но в долгосрочной перспективе он может оказаться дешевле и позволит сделать более фундаментальный ремонт. План встретил одобрение британских депутатов, и вот на днях известный архитектор лорд Норман Фостер обнародовал проект строительства необычного здания всего в 400 метрах от Вестминстерского дворца.
По данным издания The Daily Mail, это будет сборная конструкция из бронированного стекла и стали в стиле футуризм. Проект, над которым Фостер работает вместе с застройщиком сэром Джоном Ритблатом, будет включать 650 депутатских офисов, переговорные, столовые и, главное, копию старого зала пленарных заседаний палаты общин. Это немаловажная деталь, ведь в большинстве парламентов мира залы заседаний напоминают учебный класс, подкову или полукруг, а в Британии - еще со времен противостояния тори и вигов - сохраняется строение "Скамейки друг напротив друга" (Opposing-Benches. - Прим. ред.). Когда в 1941 году этот зал был разрушен бомбой, многие считали, что ремонт - самый подходящий момент, чтобы поменять его размер и структуру. Но премьер Уинстон Черчилль настоял на том, чтобы новая палата общин осталась неизменной и сохранила "интимность и театр" старой. Строительство, если комиссия, занимающаяся реставрацией и обновлением дворца, даст Фостеру зеленый свет, обойдется стране в 300 миллионов фунтов стерлингов. Оно должно закончиться к 2025 году, на который намечено начало реставрации Вестминстерского дворца. Зато, когда депутаты переедут обратно, здание, по словам архитектора, можно будет разобрать и собрать в любом другом месте.
"Спутник V" без секретов
Ученые рассказали о вакцине в научном журнале
Текст: Ирина Невинная
Подробности создания первой российской вакцины от COVID-19, разработанной в НИЦЭМ имени Гамалеи, наконец, опубликованы: статья вышла в одном из самых престижных медицинских журналов The Lancet. И это дорогого стоит.
Журнал рецензируемый, то есть до публикации статью предоставляли нескольким ученым-рецензентам, а уровень The Lancet - это мировой уровень профессионализма и известности. Так что сам факт публикации в большой степени гарантирует и качество технической стороны исследований, и их полноту, и корректность выводов. Кроме того, теперь весь мир знает имена группы ученых, которой руководил Денис Логунов - это коллектив более чем из трех десятков человек. Такой открытости очень не хватало. Наконец, самое главное, статья подтвердила то, о чем и сам Логунов, и директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, и активно поддерживающий проект глава РФПИ Кирилл Дмитриев много раз заявляли на пресс-брифингах и в интервью: вакцина эффективна и безопасна.
Эффективность вакцины оценивали просто: ученые сравнивали уровень антител в крови у добровольцев после прививки и у пациентов, которые переболели COVID-19. Оказалось, что после проведения двойной вакцинации - с использованием препаратов на основе двух форм векторов-аденовирусов - иммунный ответ оказался в 1,5 раза мощнее, чем у переболевших, - пояснил Александр Гинцбург. Только одно введение вакцины оказалось менее действенным. Кстати, зарубежные вакцины, которые также проходят сейчас заключительную фазу испытаний, вызывают иммунный ответ примерно на том же уровне, который фиксируется у перенесших заболевание. "Это выдающаяся работа наших ученых, они создали передовой вакцинный препарат. Публикация в The Lancet показала открытость и готовность России к диалогу, а также стала ответом скептикам, которые необоснованно критиковали российскую вакцину", - заявил Кирилл Дмитриев.
При этом исследования третьей фазы, в которых будут участвовать 40 тысяч добровольцев, начались. Их результаты ученые НИЦ имени Гамалеи также опубликуют, по планам, в ноябре. Пока же каждый вправе сам решать: сделать прививку сейчас или дождаться окончания всех этапов исследования.
Его укол - другим наука
Высшие чиновники сделали прививку от ковида, но дело это добровольное
Текст: Сергей Бабкин
Глава минобороны, генерал армии Сергей Шойгу сделал прививку от коронавируса отечественной вакциной. Ведомство даже распространило видеозапись самой процедуры.
На кадрах - все, как при обычной вакцинации от гриппа. Процесс обычный, но событие - эпохальное. Российский НИЦ имени Гамалеи первым в мире создал и зарегистрировал вакцину от "короны". Первые результаты тестирования "Спутник V" уже опубликовал самый авторитетный медицинский журнал The Lancet. А это высшая степень признания в сообществе. Одним из первых в России вакцинацию от COVID-19 прошел Сергей Шойгу. В дальнейшем вакцина будет поступать в армию, в первую очередь поставки будут рассчитаны на тех, кто работает с личным составом, - на командиров и военных врачей. Естественно, все на добровольной основе.
Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по борьбе с COVID-19, также привился от "короны" - об этом он доложил президенту Владимиру Путину. "Иначе мне было бы сложно агитировать за российскую вакцину, - признался он. - Ведь даже сегодня, по опросам, около половины россиян вообще сомневаются, доработана ли вакцина". Официальные бюллетени о состоянии привившихся не публикуются, однако, судя по активности главы столицы, испытания проходят нормально. В минувшие выходные Сергей Собянин осмотрел отреставрированный Северный речной вокзал, принял участие в праздничном приеме в "Зарядье" по случаю Дня города, оценил новый поезд метро "Москва-2020". По данным источников РБК, прививки от "короны" также сделали двое заместителей Собянина, однако "РГ" пока не удалось получить официального подтверждения этой информации.
В то же время глава минпромторга Денис Мантуров в интервью программе "Поздняков" на "НТВ" также рассказал, что привился от коронавируса. С тех пор прошло уже более двух недель. В первый день после вакцинации, как признался министр, у него немного поднялась температура. Затем немного "почувствовал затылок". Однако в целом никаких побочных эффектов министр не отметил. Также открыто о вакцинации своего лидера Владимира Жириновского заявили в ЛДПР.
В Москве пострегистрационное тестирование новой вакцины должно начаться на этой неделе. Испытания займут от двух до шести месяцев. Промышленное производство должно начаться в конце этого года или в начале следующего. Отдельные партии вакцины могут поступить в Москву в течение 2020-го. Они, по оценкам Собянина, будут предназначены для групп риска: работников социальной, торговой сферы и всех отраслей, подразумевающих тесное взаимодействие с людьми.
Кстати
Вакцинация работников школ пройдет в добровольном порядке. Например, от учителей не будут требовать пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко. А школьников не заставят сдать тесты на COVID-19.
Авиационные технологии для нефтегазовой отрасли: чем удивят на TNF 2020
Компанией-рекордсменом по заявленным проектам на Технологические дни Тюменского нефтегазового форума стало ООО «Аэрогаз»: на мероприятие было отобрано 7 проектов.
ООО «Аэрогаз» – резидент Фонда «Сколково», а сотрудники компании – выходцы Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е.Жуковского. Не удивительно, что инновационные для нефтегазовой отрасли решения были найдены разработчиками в аналогах из авиации.
«В 90-е годы команда специалистов ЦАГИ начала заниматься технологиями подготовки природного газа, они абсолютно идентичны тем же, которые используют в работе с большими объемами воздуха, – рассказывает заместитель генерального директора ООО «Аэрогаз» Евгений Войтенков. – Такие же криогенные установки, только для природного газа и в компактном виде». Спрос на компактные технологии, предлагаемые взамен огромным сепараторам, гравитационным бочкам и прочим, оказался высок. Специалистам удалось в прямом смысле этого слова уместить в трубе гигантские устройства.
«У нас есть два основных устройства: внутритрубные сепараторы, которые отделяют газ от жидкости прямо в трубопроводе и система бескомпрессорной регулируемой подкачки давления низконапорных газов. Например, устьевое давление одной скважины 120 атмосфер, другой – 60 атмосфер, а нужно, чтобы среднее давление для подачи в газосборную сеть было 80 атмосфер. Скважину с низким давлением можно подкачать с помощью регулируемых газодинамических струйных компрессоров. Во всем мире это делают только в Англии, но даже там не умеют делать такие системы регулируемыми, что успешно реализовала компания «Аэрогаз» в России», – говорит Войтенков.
Еще одна разработка на основе двух предыдущих – технология обработки газа прямо на кустах скважин. С помощью компактных устройств можно извлекать ценные компоненты из голубого топлива, например, углеводородный конденсат непосредственно сразу после разбуривания скважины, без строительства больших УКПГ и сети трубопроводов. Компании смогут получать прибыль уже на ранней стадии исследования скважин, а не просто сжигать газ. Причем для этих установок не нужно забивать свайный фундамент, вести долгосрочную подготовительную работу. Несколько плит, на которые ставится система, и можно работать. Закончили на одной скважине – переехали быстро на другую, добавляет эксперт.
Часть решений компания уже апробировала в дочерних предприятиях ПАО «НОВАТЭК». Специально для них же была создана технология выработки электроэнергии прямо в трубе за счет перепада давления. Небольшая турбина с генератором позволяет получить несколько киловатт энергии, которую хватит для питания телеметрии, запорной арматуры на отдаленных скважинах. Такое устройство позволяет сэкономить сотни миллионов рублей, ведь протянуть только один километр электрокабеля в условиях вечной мерзлоты стоит несколько миллионов рублей.
На Технологических днях TNF 2020 компания планирует предложить вышеописанные разработки нескольким нефтегазовым компаниям: «НОВАТЭК», «Газпром нефть», «Татнефть». Евгений Войтенков признается, Тюменский нефтегазовый форум – отличная площадка для поиска заказчиков, обмена опытом и получения обратной связи. «Аэрогаз» – постоянный участник форума. На прошлых мероприятиях сотрудники компании получили комментарии по своим проектам, узнали, каких технологий не хватает нефтегазовым компаниям, а в этом году приедут уже с готовыми решениями.
Напомним, на Технологических днях TNF разработчики презентуют свои идеи и технологии потенциальным заказчикам – представителям ведущих нефтегазовых компаний страны напрямую. Цель – поиск новых, эффективных решений в ответ на текущие вызовы нефтегазовых ПАО, снижение зависимости топливно-энергетического комплекса от импорта. В этом году свои разработки презентует 41 компания, всего потенциальных заказчиков заинтересовали 50 проектов.
Тюменский нефтегазовый форум – ведущая профильная площадка страны, ежегодно собирающая более трех тысяч экспертов нефтегазовой и машиностроительной отраслей, высокопоставленных представителей федеральных министерств и ведомств, руководителей компаний-лидеров рынка. 22-24 сентября 2020 года Форум TNF соберет более 40 000 участников на 35 различных онлайн- и офлайн-площадках. В программе Форума: пленарные сессии, панельные дискуссии, Технологические дни, а также Выставка инновационных технологий и разработок.
Международная ассоциация издателей призывает мировые правительства оказать поддержку авторам, переводчикам издателям, и книгораспространителям
Источник: Пресс-служба Роспечати
3 сентября на Московской международной книжной ярмарке, на международной конференции «Как книжная индустрия выходит из пандемии: Стратегии выживания и направления поддержки», состоялось принятие важнейшего документа – Декларации Международной ассоциации издателей (IPA). Этот документ является призывом к действию и оказанию поддержки книжной индустрии для всех правительств мира.
Проходящая 33 Московская международная книжная ярмарка является международным интеллектуальным центром книгоиздания и книгораспространения, в ней принимают участие ведущие мировые эксперты, происходит обмен опытом и лучшими мировыми практиками, как в офлайн, так и в онлайн форматах.
Конференция «Как книжная индустрия выходит из пандемии: Стратегии выживания и направления поддержки» стала первым самым масштабным и знаковым событием мирового значения в период выхода книжной индустрии из пандемии. В ней приняли участие издатели, книгораспространители, эксперты в сфере электронных технологий из Великобритании, Австрии, Германии, Индонезии, Норвегии, Бельгии, ОАЭ, США, Швеции и России.
Среди них: Бодур аль-Касими, вице-президент Международной ассоциации издателей, Мария А. Палланте, президент и главный исполнительный директор Ассоциации американских издателей, Иоахим Кауфманн, член исполнительного комитета Международной ассоциации издателей, руководитель издательства «Карлсен» (Германия), Мария Хамрефорс, член правления Европейской и Международной федерации книгораспространителей, руководитель Ассоциации книготорговцев Швеции, Лаура Принсоло, председатель Национального книжного комитета Индонезии, директор издательства «Кесан Бланк», Джулия Белградо, исполнительный директор Европейской и Международной федерации книгораспространителей, Джеймс Донт, генеральный директор сетей Waterstones и Barnes&Noble (Великобритания, США), Айрис Ханшид, генеральный директор независимого книжного магазина «Ульрих Хофманн» (Германия), Рудигер Вишенбарт, основатель и президент компании «Ruediger Wischenbart Content and Consulting» (Австрия), Натан Халл, директор по развитию компании Beat Technologies, audio-book platform, (Норвегия), Владимир Григорьев, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Олег Новиков, президент холдинга «ЭКСМО-АСТ», член президиума Российского книжного союза, Евгений Капьев, генеральный директор издательства «ЭКСМО», Сергей Анурьев, генеральный директор компании «ЛитРес».
В ходе конференции обсуждались меры государственной поддержки книжной индустрии в разных странах мира, основные проблемные зоны книжной отрасли, масштабы её потерь в разных странах в связи с распространением COVID-19, а также прогнозы по восстановлению ключевых индикаторов книжного рынка. Были проанализированы издательские стратегии по трансформации книжного ассортимента и определению возможных точек роста, в том числе и в цифровом сегменте.
Эксперты отметили, что пандемия Covid-19 нанесла тяжелый урон книжному сектору во всем мире. Убытки ключевых книжных рынков на всех континентах исчисляются миллиардами евро. Из-за введенных карантинных мер, снижения доходов населения в марте-июле 2020 г. издатели и книготорговцы потеряли от 20 до 50% дохода и были вынуждены отказаться от выпуска значительного числа книжных новинок.
Пандемия ускорила тренд на цифровизацию книжного рынка и рост продаж через интернет-канал. Рудигер Вишенбарт, крупнейший мировой эксперт, представил свежие данные о том, как пандемия повлияла на развитие диджитал сегмента и привела к росту рынка электронных и аудиокниг.
Однако, электронные продажи не смогли компенсировать потери на традиционном книжном рынке. И сегодня одной из важнейших задач является возвращение покупателей и восстановление продаж в книжных магазинах, которые по-прежнему остаются одним из главных каналов сбыта.
В текущих условиях эксперты отметили необходимость роста дальнейших инвестиций в развитие прямых коммуникаций с читателем и масштабные кампании по продвижению чтения, создание медиаконтента одновременно в разных форматах: бумажном, электронном и аудио.
Участники конференции отметили необходимость поддержки международных и национальных книжных ярмарок как важнейших общественных институций, служащих мостами между писателями, издателями и читателями всех стран мира.
Главным итогом конференции стало принятие декларации Международной ассоциации издателей, в которой прозвучал призыв к правительствам всех стран мира принять конкретные меры поддержки книжной индустрии.
Книга и литературное наследие было и остается важнейшим культурным достоянием мировой цивилизации. Сегодняшние вложения государства в книжную инфраструктуру многократно окупятся в будущем, позволят сохранить значимость книги и чтения для всех будущих поколений, развивать национальные языки и культуры, укреплять интеллектуальные основы мировой цивилизации.
В этот критический момент правительства должны оказать экстренную помощь отрасли и инвестировать в это будущее, предложив неотложную финансовую поддержку авторам, издателям, книготорговцам и переводчикам.
Международная ассоциация издателей готова обсуждать с правительствами и их полномочными представителями любые аспекты, касающиеся данного призыва к действию, опираясь на примеры лучших международных практик, представленных членами организации.
Организаторами конференции при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям выступили Международная ассоциация издателей, Европейская и Международная Федерация книгораспространителей, Российский книжный союз и журнал «Книжная индустрия».
США и Великобритания призвали к безотлагательному началу межафганских переговоров
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен провел телефонные переговоры с главой Афганистана Мохаммад Ашрафом Гани.
МИД РФ призвал Кабул к скорейшему завершению процесса обмена пленными и началу межафганских переговоров
В ходе беседы О’Брайен подчеркнул необходимость как можно скорее начать переговоры с талибами. Он добавил, что США продолжат оказывать поддержку Афганистану, который «больше никогда не станет источником международного терроризма».
Тем временем посольство Великобритании в Кабуле осудило продолжающееся насилие в Афганистане и призвало стороны конфликта безотлагательно приступить к диалогу.
«Все стороны должны продемонстрировать свою приверженность урегулированию путем переговоров и миру, согласившись начать межафганские переговоры без дальнейших задержек», – сообщается в заявлении дипмиссии.
Напомним, что ранее глава Высшего совета по национальному примирению ИРА Абдулла Абдулла сообщил о возможности начала переговоров на этой неделе.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран БРИКС, Москва, 4 сентября 2020 года
Завершилась полноформатная встреча министров иностранных дел стран БРИКС в режиме видеоконференции. Это – уже второе такое совещание в нынешнем году под российским председательством.
Первое было посвящено исключительно задачам мобилизации усилий по эффективному предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Сегодня мы обсудили широкий круг международных глобальных проблем, ключевые вопросы повестки дня 75-й сессии ГА ООН и ход нашего практического сотрудничества в «пятерке».
Приняли подробное, развернутое, хорошее итоговое коммюнике. Вы можете с ним ознакомиться. Поэтому не буду слишком подробно останавливаться на ключевых международных сюжетах, которые там подробно прописаны.
Отмечу, что в коммюнике подтверждена приверженность БРИКС принципам многосторонности, опоры на международное право, решению конфликтов исключительно политико-дипломатическими методами и принципам, которые закреплены в Уставе ООН. В очередной раз решительно высказались в поддержку центральной роли ООН в поиске коллективных ответов на стоящие перед человечеством вызовы и угрозы.
В год 75-летия Победы во Второй мировой войне отметили важность сохранения исторической памяти об уроках этой трагедии во избежание ее повторения в будущем. Единодушно осудили любые проявления нацизма, расизма и ксенофобии. Соответствующая резолюция, ежегодно принимаемая ГА ООН, традиционно поддерживается всеми странами БРИКС.
Договорились укреплять и развивать наше стратегическое партнерство по всем ключевым направлениям деятельности БРИКС: политика и безопасность, экономика и финансы, гуманитарные связи.
Признательны нашим друзьям за поддержку российского председательства в «пятерке» в достаточно непростых условиях, когда международное общение напрямую, физическое общение, по сути дела, поставлено «на паузу». Тем не менее, используя современные технологии, смогли провести большинство запланированных мероприятий. Состоялось уже более 50, еще столько же состоится до конца года. У нас есть все основания полагать (об этом наши партнеры сегодня также упомянули), что все планы российского председательства будут выполнены в том, что касается деятельности БРИКС.
Мы достигли ряд практических договоренностей, в том числе, по содействию инвестициям, по поддержке эффективного участия микро-, малых и средних предприятий в международной торговле. Наши соответствующие министерства приняли совместное заявление в поддержку многосторонней торговой системы и реформирования ВТО. На очередной срок был продлен еще один важный документ – Меморандум о сотрудничестве в сфере конкурентной политики. Наши банки развития согласовали план действий рабочих групп по инновациям и блокчейну. Продолжается энергичная работа по линии министерств и ведомств в других областях.
Большинство этих инициатив готовятся с прицелом на одобрение в ходе очередного саммита, который запланирован в Российской Федерации этой осенью. Его окончательные сроки мы определим дополнительно с учетом развития эпидемиологической ситуации.
Вот такие основные итоги. Еще раз обращаю внимание на коммюнике, которое мы распространили, в котором почерпнете немало интересного.
Вопрос: Год председательства Российской Федерации в БРИКС выдался довольно непростым. Пандемия внесла свои коррективы во все сферы и направления. Что все же удалось осуществить в этом году по направлению БРИКС? Каких встреч и заявлений мы можем ожидать до конца 2020 г.?
С.В.Лавров: Я частично коснулся этих вопросов, когда излагал основные итоги нашей сегодняшней встречи. Подчеркну еще раз, что мы считаем принципиально важным достижение договоренности по целому ряду направлений.
Это блок документов, посвященных торговле и инвестициям, поощрению малых, средних и микропредприятий к участию в международных торговых обменах, укрепление сотрудничества между банками (центральными и банками развития наших стран), активная деятельность Нового банка развития, который был создан лидерами БРИКС и успешно функционирует. Кстати, на октябрь этого года запланировано открытие Евразийского регионального центра Нового банка развития. Этот центр будет расположен в Российской Федерации.
Отмечу также важное значение договоренностей, касающихся сферы предотвращения новых вызовов и угроз. Согласован очень сильный документ по контртерроризму. Он будет вынесен на утверждение глав государств. Возобновлена деятельность по противодействию наркотрафику и наркопреступности. Наращивается наша совместная работа в сфере кибербезопасности. Это тоже очень важное направление, которому мы уделяем повышенное внимание.
Стоит упомянуть, что особое внимание уделено российским инициативам, которые были представлены год назад и дополнили деятельность БРИКС двумя новыми форматами. Имею в виду Женский деловой альянс (он сформирован и приступает к работе) и Платформу энергетических исследований, призванную активнее привлекать научное сообщество к практической деятельности по составлению планов в сфере энергоресурсов. В рамках Платформы энергетических исследований уже состоялись два крупных мероприятия. Их результаты тоже будут доложены на рассмотрение глав государств.
Вопрос: Вы многократно упоминали о важности международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом. Сейчас Китай и Россия ведут работу над разработкой собственной вакцины от COVID-19. Китай уже официально заявил о готовности укреплять сотрудничество в области исследования и разработки вакцины.
Как Вы оцениваете перспективы возможного сотрудничества Китая и России в разработке и производстве вакцины? Насколько взаимодействие двух стран поможет обеспечению доступа к вакцинам другим нуждающимся в поддержке странам, в том числе участникам БРИКС?
С.В.Лавров: Мы сегодня подтвердили, что в деятельности БРИКС это направление остается одним из приоритетных. Партнеры России и Китая (Индия, Бразилия, ЮАР) активно поддерживали предпринимаемые Москвой и Пекином усилия в этой области. Все они с признательностью восприняли сделанные нашим китайским коллегой и мной заявления о том, что мы заинтересованы в самом широком сотрудничестве, в том числе с участием наших друзей по БРИКС. Отмечу, что коронавирус отнюдь не стал толчком для сотрудничества в этой области в рамках БРИКС. Взаимодействие началось гораздо раньше. Первый документ на эту тему был принят в 2015 году на саммите БРИКС в Российской Федерации в г.Уфе, когда главы государств БРИКС выдвинули инициативу о налаживании взаимодействия в борьбе с инфекционными заболеваниями. Затем на саммите в ЮАР в 2018 году наши партнеры из Южно-Африканской Республики выдвинули инициативу о создании центра по разработке и исследованию вакцин. Так что работа велась последние пять лет, еще до того, как коронавирусная инфекция поставила всех нас перед очень сложными проблемами.
Страны БРИКС благодаря таким провидческим решениям предыдущих саммитов оказались неплохо подготовленными к тому, чтобы сейчас перед лицом коронавирусной инфекции мобилизовать весь свой потенциал.
Рассмотрены и одобрены дополнительно внесенные в этом году российские инициативы. Одна из них касается создания системы раннего предупреждения эпидемиологических угроз, вторая предлагает разработать конкретные шаги по нормативно-правовому регулированию медицинской продукции. Всё это, безусловно, повысит способность справиться с коронавирусом сейчас и быть готовыми к тому, что нам наверняка не раз придется столкнуться с подобными явлениями в будущем. Так что БРИКС – это структура, которая находится среди передовиков в разработке мер предупреждения такого рода эпидемий и мер по преодолению их последствий.
Вопрос: Как повлияют на российско-европейский стратегический диалог заявления, которые мы слышим последние два дня из Берлина, по вопросу А.А.Навального? Сегодня мы слышали призыв от НАТО, чтобы Россия полностью открыла для ОЗХО досье «Новичок». Кто сейчас заинтересован в таком детективном сценарии с отравлением А.А.Навального?
С.В.Лавров: На эту тему уже высказывались представители Администрации Президента Российской Федерации и МИД России. Нам нечего скрывать. Напомню еще раз, как только А.А.Навальный почувствовал в самолете недомогание, были приняты немедленные меры по посадке борта. В аэропорту уже ждала скорая помощь, которая немедленно доставила его в больницу, где был включен аппарат ИВЛ и приняты все другие необходимые меры. Как я понимаю, А.А.Навальный провел там чуть больше полутора суток. Все это время ежечасно мы слышали требования немедленно рассказать, что случилось, показать, сообщить, дать какие-то сведения.
Как только он оказался в Германии, в течение больше, чем недели, никто из людей, поднимавших шум во время его пребывания в Омске, не интересовался и громогласно не требовал от немецких врачей предъявить какую-то информацию. Мы до сих пор ее не имеем. Все происходит по старым сценариям, когда выдвигаются какие-то обвинения в наш адрес с публичных трибун, когда наше официальное обращение с просьбой задействовать договоры о правовой помощи и предоставить нам данные в ответ на конкретные вопросы, поставленные Генеральной прокуратурой России, остаются без ответа. Федеральный канцлер ФРГ А.Меркель уже как двое суток обвиняет нас в этом деянии (якобы в отравлении), но не может ничего предъявить. Сегодня мы в очередной раз интересовались у наших коллег из ЕС, из Германии, планирует ли А.Меркель дать поручение своим сотрудникам, направить ответ Министерства юстиции ФРГ на запрос Генпрокуратуры России.
Я уже вынужден произнести вслух, что, по нашим данным, этот ответ задерживается из-за позиции МИД ФРГ. Мы поручили Послу России в Германии задать соответствующие вопросы и поинтересоваться, в чем задержка. Правда, сегодня нам по крайней мере пообещали, что скоро ответ поступит. Когда мы получим его с конкретными фактами, которые, как я понимаю, немцы считают там содержатся, тогда мы будем на это реагировать. Повторю, все это напоминает, к сожалению, происходившее со Скрипалями и другие истории, когда Россия была голословно обвинена, а результаты расследований, которые в случае со Скрипалями проходили в Великобритании, остаются засекреченными. Самих Скрипалей никто не видит.
В этой связи в очередной раз напомню, что когда наши британские коллеги на волне этой русофобской истерики по поводу Скрипалей заставили большинство стран Евросоюза выгнать российских дипломатов (на что Москва, естественно, ответила), мы доверительно поинтересовались у членов ЕС, предъявили ли англичане какие-либо факты кроме того, что они публично излагали через СМИ. Нам сказали «нет». Факты не предъявили, но попросили выгнать дипломатов, пообещали, что потом предоставят конкретную информацию. Я не ленюсь и каждый раз, когда встречаюсь со своими коллегами, спрашиваю насчет случая со Скрипалями, когда они как бы под честное слово Лондона присоединились к его призыву и выслали российских дипломатов. Интересуюсь, предоставили ли им обещанную конкретную информацию помимо того, что было публично озвучено. Ответ – «нет». Никто никому ничего не предоставил.
Поэтому сейчас мы подходим к таким высокопарным, пафосным заявлениям наших западных коллег уже с изрядной долей скептицизма. Посмотрим, какие факты будут предоставлены. Считаю, что само поведение в публичной сфере, выдвижение таких высокомерных, аррогантных требований, в таком тоне, который себе позволяют наши западные партнеры, говорит о том, что они, кроме искусственно нагнетаемой патетики, пока мало что могут предъявить.
Вопрос: Глава МИД Украины заявил, что главы МИД Германии и Франции настроены на проведение встречи министров иностранных дел «нормандского формата» в сентябре. По его словам, Вы не против проведения такой встречи. Насколько это соответствует действительности?
С.В.Лавров: На этот вопрос уже отреагировало Министерство иностранных дел. Если кто-то настроен встречаться – пусть они и встречаются. В нашем случае каких-либо договоренностей не обсуждалось. Сейчас идет речь о том, чтобы подготовить встречу внешнеполитических советников лидеров «нормандского формата». Про встречу министров иностранных дел никто никаких предложений конкретных не вносил. Я думаю их не вносили потому, что прекрасно знают нашу позицию: сначала нужно выполнить то, о чем в декабре прошлого года в Париже договорились лидеры наших стран. Пока там прогресса немного. Мы лишь видим все новые и новые проблемы, возникающие в связи с постоянным изменением (причем в худшую сторону) позиции украинских властей в том, что касается их приверженности выполнению Минских договоренностей.
Вопрос: Вчера стало известно, что демократы в США потребовали немедленного введения санкций в адрес России в связи с предстоящим в ноябре проведением выборов Президента США. Они ссылаются на заключение разведки о том, что Россия якобы может в них вмешаться. Как бы Вы могли это прокомментировать?
С.В.Лавров: Обвинения в том, что Россия вмешивается в президентские выборы в США мы слышим уже многие годы. У них уже даже такая игра есть – «кто больше вмешивается: Россия, Китай или Иран?» Недавно спрашивали представителя национальной разведки США. Он подумал и сказал, что Китай больше России вмешивается, больше Ирана. Так что эти игры взрослых людей продолжаются уже давно, они нас не удивляют. Хотя иногда, все-таки, приходится удивляться. Имею в виду недавнее заявление, которое прозвучало с обвинениями в адрес России в том, что мы пытаемся злоупотребить и использовать в интересах того или иного кандидата планируемое в США голосование по почте. Я был изумлен таким обвинением, потому что до сих пор мне казалось, что голосование по почте – это проблема противоречий между Президентом США Д.Трампом, который категорически не хочет позволить провести это голосование и демократами, которые обязательно хотят голосование по почте расширить максимально.
Честно говоря, мы уже привыкли к такого рода нападкам. В этом случае, как и в случае с отравлениями, как и в случае с другими ситуациями в различных странах мира мы будем руководствоваться конкретными фактами, если они нам будут предъявлены. Мы всегда говорим нашим партнерам, американцам, европейцам: если у вас возникает любая озабоченность по поводу чего бы то ни было, особенно в сфере кибербезопасности, что сейчас особенно часто является предметом обвинений и упреков в наш адрес, давайте садиться и рассматривать те факты, которые у вас есть. Мы готовы к этому. К сожалению, наши партнеры – и США, и Евросоюз последовательно уходят от прямого разговора на основе профессионального анализа имеющихся фактов. Мы к этому по-прежнему готовы, приглашаем наших коллег. Все-таки перестать жить теми воспоминаниями, которые относятся к колониальной эпохе, перестать считать себя умнее и выше всех других и начать работать на основе того, под чем они подписались в 1945 г., а именно на основе принципов Устава ООН – равноправия, баланса интересов, коллективной и честной работы. Мы к этому готовы.
К новому облику армии
При модернизации вооружённых сил в Лондоне делают ставку на кибер- и космические средства, дроны и искусственный интеллект.
Европейские СМИ сообщают, что официальный Лондон обсуждает со своими партнёрами по Североатлантическому союзу возможность изменения роли британской армии в коллективных усилиях альянса. В частности, речь якобы идёт о том, что взамен тяжёлой бронетехники Соединённое Королевство готово взять на себя ту часть задач, которые связаны с использованием в операциях НАТО штурмовой авиации и вертолётов.
Великобритания, испытывающая серьёзные экономические трудности в связи с нынешней пандемией нового коронавируса, намерена вкладывать немалые средства и в развитие сил и средств, призванных оперировать в космическом и киберпространстве.
Решение о создании кибервойск было принято несколько лет назад, и сегодня существуют уже три таких подразделения. Одно из них – 6-й дивизион – разместилось на заброшенной авиационной базе в Апэйвоне (графство Уилтшир на юго-западе страны). В его задачи входят психологические и информационные операции в виртуальном пространстве, в том числе в социальных сетях. Комментируя создание подразделения, бывший глава объединённого командования вооружёнными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс заявил, что наращивание киберсил имеет первостепенное значение для Соединённого Королевства. «Имея наступательные кибертехнологии в Великобритании, мы уравниваем силы на поле боя и получаем новые средства для сдерживания и наказания государств, которые хотят причинить нам вред», – утверждал он.
А в начале нынешнего года Великобритания объявила о создании космических войск. В заявлении, сделанном в этой связи, министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что стране необходимо готовиться к действиям в космосе, поскольку «в будущем войны будут вестись над Землёй с применением оружия, работающего в условиях нулевой гравитации».
Главой космического командования стал вице-маршал авиации Харви Смит. Ранее он был командующим Группы № 1 королевских ВВС, которая отвечает за операции, связанные с боевой авиацией, разведкой, наблюдением и т.д. Среди задач космического командования называют развёртывание спутников связи Skynet 6 и новых РЛС противоракетной обороны, а также возможное создание британской глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS).
Кроме того, в обязанности командования войдёт управление средствами наблюдения и разведки, а также системами космического запуска. Космические операции будут по-прежнему проводиться ВВС. 23-я эскадрилья ВВС преобразована для этого в космическую эскадрилью, отвечающую за повседневное «космическое командование и управление», включая полёты спутников. На финансирование нового командования и проектов под его контролем планируется выделить не менее 7 млрд фунтов стерлингов (9,1 млрд долларов) в течение 10 лет.
Обращает на себя внимание и то, что в британском министерстве обороны уделяют всё больше внимания внедрению искусственного интеллекта в военные системы. По словам того же Ричарда Бэрронса, главным движущим фактором модернизации оборонных сил Великобритании и обретения ими нового облика должно выступить как раз использование искусственного интеллекта. Как пишет газета «Дейли экспресс», искусственный интеллект уже применяется в программе британских ВМС NavyX, в рамках которой разрабатываются роботы-сапёры, роботизированная разведывательная субмарина «Манта», а также лишённые экипажа дозорные катера.
В свою очередь командование ВВС продвигает собственные инновационные проекты. Так, проект «Ланка» предполагает создание полностью автономного БПЛА для сопровождения и защиты истребителей. А проект по разработке ложных целей для ракет с радиолокационным наведением «Арма» уже успешно завершён. Созданное изделие даже пошло на экспорт. В сухопутных силах реализуется «Проект Тесей», предусматривающий создание и поставку в войска роботизированных машин снабжения, которые будут доставлять боеприпасы и снаряжение войскам на передовой линии.
В 2018 году на полигоне на Солсберийской равнине, где обычно проводят свои манёвры британские танкисты, состоялось крупнейшее учение с участием роботов. В течение четырёх недель на учении, которое получило название «Автономный воин», были протестированы 70 различных типов беспилотных летательных аппаратов и наземных систем. Одни роботы патрулировали территорию и искали цели, передавая информацию для наведения на них средств поражения. Другие решали задачи по повышению мобильности боевых подразделений и обеспечению их ресурсами во время боя. Часть роботов, созданных специально для ведения боевых действий в городских условиях, показывали свою готовность к практическим действиям.
Одним из результатов учения стало решение о существенном усилении сухопутных войск ударными беспилотными летательными аппаратами. В частности, министерство обороны страны заключило недавно с американской компанией General Atomics договор на поставку БПЛА Protector. Согласно контракту, стоимость которого составила 80 млн долларов, вооружённые силы Великобритании должны получить 3 аппарата и столько же наземных станций управления. После успешной поставки техники по дополнительному контракту будут произведены и поставлены ещё 13 БПЛА. В дальнейшем министерством обороны планируется увеличить заказ до 26 дронов этого типа. Они могут проводить в воздухе без дополнительной подзарядки около 40 часов и способны нести до 18 самонаводящихся ракет Brimstone 2 класса «воздух – земля» или управляемых авиабомб Paveway IV.
Как видим, несмотря на финансовые проблемы (размер госдолга в июле достиг 2,6 трлн долларов и превысил размер ВВП), Великобритания стремится самостоятельно и в сотрудничестве с другими странами создавать вооружения новых поколений. При этом упор делается на развитие сил и средств борьбы в космическом и кибернетическом пространстве.
Мария Томилненко, «Красная звезда»
Долг платежом страшен
Александр Киденис
В сентябре налоговики предъявят счет бизнесу и гражданам. Мало не покажется
По данным службы российского омбудсмена Бориса Титова, 40% российских предпринимателей до конца года обанкротятся, поскольку не смогут заплатить отложенные в рамках господдержки налоги. Таковы данные опроса владельцев 1035 компаний из 85 регионов, из которых 20% представляли сферу непродовольственной торговли, 10% — обрабатывающих производств, 9% — девелоперов, остальные — сферу туриндустрии и общественного питания. Беда почище коронавируса.
Почти половина опрошенных предпринимателей (46%) заявили об ухудшении финансовых показателей, а более четверти (26%) оценили свое положение как «кризис» или «катастрофу». Главной проблемой все назвали падение спроса на товары и услуги. И еще: четверо из десяти опрошенных заявили, что не будут способны выполнять обязательства по налогам и сборам.
Властям об этом известно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, согласны ли в Кремле, что существует угроза невыплаты рядом предпринимателей отложенных налогов, уклончиво заявил, что «стране предстоит напряженная работа по минимизации последствий кризиса». О других последствиях наверху пока не говорят. Хотя речь пора вести о том, что после банкротства хотя бы трети предприятий малого и среднего бизнеса безработными станут еще около 6 млн человек (плюсом к уже зарегистрированным 3,6 млн). А еще в 4-5 раз больше будет количество клиентов, которые останутся без привычного набора товаров и услуг. Естественно, кратно к нынешним вырастут и налоговые потери казны.
А как в других странах? Хотя любое сравнение хромает, выслушаем российского ресторатора Михаила Зельмана, восемь лет назад перебравшегося в Лондон и построившего международную ресторанную сеть, в которую до пандемии входило больше 20 заведений.
«В первые дни, когда это все началось, а помощь еще не пришла, я чувствовал себя в вакууме. Это был просто ужасный момент. Ты морально опустошен, готовишься к самому худшему, и тут выходит премьер-министр и говорит: „Чуваки, налоги убираем, зарплаты людям платим, бизнесу кредиты дадим, чтобы пережить. Давайте объединимся, чтобы пройти эту историю вместе“. И ты очень скоро понимаешь, что он не просто болтает, а реально эта помощь приходит. Да, нам отменили основной налог, привязанный к аренде помещения, людям, оставшимся в карантин без работы, государство выплачивало зарплаты. Причем за счет экономии на транспорте, который в Лондоне очень дорог, у многих доход стал выше, чем до локдауна. Мы, когда запускали доставку, вызывали людей в рестораны, и из команды в 12 человек согласились только пять, остальные говорили: „А зачем рисковать? Нам и так хорошо“. Так что мы каждое выступление Бориса Джонсона ждали с замиранием сердца».
Давайте честно признаем: у нас шанс умереть от голода или безденежья значительно выше, чем от коронавируса. Не потому ли в России народ в целом к пандемии относился наплевательски. Какая изоляция! Ты либо ноги протянешь от того, что денег нет на еду, либо, несмотря на коронавирус, будешь правдами и неправдами зарабатывать. В Англии так вопрос не стоял — государство реально, а не на словах поддержало бизнес и людей.
Зато теперь Минфин Великобритании объявил о разработке планов крупнейшего за десятилетия повышения налогов, чтобы компенсировать коронавирусные потери бюджета. Ибо национальный долг королевства впервые в истории достиг рекордного показателя в 2 трлн фунтов стерлингов. Вылезти из долговой ямы стране, по мнению властей, должны помочь ее состоятельные граждане. В правительстве обсуждается возможность повышения с 10 до 20% базисной налоговой ставки на продажу активов и с 18 до 20% — налога на продажу второй квартиры или дома. Для состоятельных граждан, которые и так платят налоги по повышенной ставке, размер сбора может вырасти, соответственно, с 28 и 20 до 40%.
Естественно, бизнес не аплодирует. Но предприниматели встретили эти планы с пониманием — тем более они гласно обсуждаются в обществе. К тому же, как сообщает The Sunday Times, логика заключается в том, что даже после предполагаемого повышения британские налоги на компании будут ниже, чем в таких европейских странах, как Германия, Франция, Италия и Испания.
Учтем, что изначально власть и население совместно помогали выживать бизнесу. «У нас, конечно, упал средний чек процентов на 40, — продолжает рассказ Михаил Зельман. — Наши рестораны работали на доставку. Мы снизили цены на 30% — это раз, а два — люди ожидаемо стали экономить на еде вне дома. При этом в самых топовых ресторанах у нас количество гостей просто запредельное. Во многом благодаря государственной программе, которая называется Eat Out to Help Out. По ней правительство предоставляет людям купоны на 10 фунтов, которые они с понедельника по среду могут потратить на еду в кафе и ресторанах. И люди массово пошли. Но это демонстрирует еще один важный момент: насколько здесь все готовы помогать друг другу. Люди чувствуют солидарность, считают, что должны помочь индустрии питания. Другими словами, они приходят не просто поесть на халяву — они приходят еще и потому, что хотят оставить у тебя свои деньги и помочь выжить...»
В России государство тоже помогает гражданам, но иначе: 10-тысячными пособиями на детей, минимальной зарплатой для безработных (а в Дании платили 75% от средней, в Норвегии — 80%). Но в основном — отсрочками: «Не плати сегодня — заплати послезавтра!» Результат: «отложенные» долги росли, а население стремительно беднело. Даже в благополучной Москве за первые полгода 2020-го жители снизили траты в среднем на 41 тысячу рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. На втором месте по размеру сэкономленных средств оказались жители Якутии, которые потратили на 28,7 тысячи рублей меньше, чем годом ранее. На 17 тысяч меньше израсходовали жители Ханты-Мансийского автономного округа, на 16,6 тысячи — жители Дагестана, на 16,2 тысячи — жители Ставрополья. В среднем каждый россиянин сократил потребительские расходы на 11,5 тысячи в первые шесть месяцев нынешнего года.
Налицо падение платежеспособности населения. После решения правительства об отмене пени за неуплату по ЖКХ до января 2021 года многие граждане восприняли это как возможность временно не платить за коммунальные услуги. И начали копиться долги по ЖКХ, которые тоже рано или поздно придется отдавать. Самые «опасные» коммунальные долги растут в средних и малых городах, где доходы и без того низки.
В то же время повышение зарплаты с 1 октября объявлено лишь для государственных и муниципальных чиновников, военных и силовиков, а также дипломатических работников. Рост небольшой, всего-то на 3%, но учтем, что в настоящее время средний оклад федерального чиновника составляет 126 тысяч рублей.
И, кстати, о налогах: по данным последнего совместного доклада PwC и Всемирного банка Paying Taxes, суммарная доля налогов в валовой выручке усредненной компании в России составляет 46,2% — против среднемировой доли в 40,5%.
Еще в начале апреля мировые СМИ сообщили: в сравнении с Германией, которая выделила на борьбу с коронавирусом сумму, превышающую треть своего ВВП, и США, у которых на эти цели пойдет 12,4% ВВП, антикризисный пакет правительства России пока выглядит более чем скромно — всего 1,2% ВВП. Потом, правда, деньги добавлялись небольшими суммами на различные антикоронавирусные нужды.
2 июня премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту общенациональный план по восстановлению российской экономики в 2020-2021 годах, сообщив, в частности, что стоимость нацплана (антикризисный пакет) составит около 5 трлн рублей (примерно 5% ВВП). Но ровно через месяц замминистра финансов РФ Владимир Колычев уточнил, что общая стоимость мер (антикризисный пакет), направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в России и смягчение экономических последствий от введенных ограничений, оценивается в сумму порядка 4 трлн. Еще через месяц, по данным аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza, Россия потеряла свыше 1 млн микро-, малых и средних предприятий (МСП), или почти каждый пятый бизнес в этом секторе, тогда как за последние 12 месяцев в России появились лишь 848,5 тысячи новых МСП. То есть за год общее количество МСП сократилось более чем на 240 тысяч.
Для потерявших работу на этих предприятиях государство увеличило максимальный размер пособия с 8 тысяч до 12 130 рублей, а минимальные выплаты - с 1,5 до 4,5 тысячи рублей. Но такой размер господдержки был установлен лишь на период с мая по август включительно, а на дворе уже сентябрь. Вопрос из разряда риторических: почему богатая российская казна оказалась так скупа на помощь гражданам, оказавшимся в беде?
P.S. Вчера бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился в правительство РФ с призывом продлить до конца 2021 года такие меры, как отсрочка по налогам для малых и средних предприятий, а также кредитные каникулы и мораторий на банкротство. По данным ФНС, сумма задолженности из-за отсрочки по налогам для бизнеса уже достигла 300 млрд рублей. Правительство думает...

Андрей Никитин: мы ночами модернизировали больницы в пандемию
Система здравоохранения Новгородской области достойно справилась с натиском коронавируса, но обнажились ее слабые стороны, над которыми нужно работать, заявил губернатор региона Андрей Никитин. По его словам, потери бюджета региона пока не оценить, но уже ясно, что на сегодняшний день компенсации далеко не в полной мере их покрывают. В интервью РИА Новости Никитин рассказал о том, готова ли Новгородская область к вакцинации от коронавирусной инфекции, как власти намерены реанимировать экономику, о развитии туризма и о том, на чем пришлось сэкономить на фоне пандемии.
— Андрей Сергеевич, на прошлой неделе вы посетили Международный военно-технический форум "Армия-2020", который проходил в подмосковной Кубинке. Расскажите, пожалуйста, какие предприятия региона вы представляли?
— Новгородская область – один из центров российской радиоэлектроники, в том числе связанной с оборонной промышленностью, поэтому на форуме с серьезной программой были представлены наши предприятия в области радиоэлектроники, авиаремонта. В рамках форума у меня было две задачи. Во-первых, подписание соглашения с госкорпорацией "Ростех" о создании в регионе инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника – Валдай". По сути, это соглашение должно оформить те партнерские отношения, которые у нас уже сложились с предприятиями группы корпорации. Во-вторых, это работа в рамках форума под руководством вице-премьера РФ Юрия Борисова, связанная с конверсией ОПК, с ролью региональных властей в поддержке предприятий оборонной промышленности.
— Вы можете подробнее рассказать о соглашении с Ростехом?
— Да, конечно. Создание в регионе инновационного научно-технологического центра было инициативой Новгородского государственного университета. Она была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным и получила благословение Юрия Ивановича Борисова. На сегодняшний день у нас есть план-график, согласованный с Минэкономразвития, которое отвечает за этот проект. В рамках этого графика мы готовим необходимые документы, оформляем землю, формируем концепцию, прорабатываем форматы взаимодействия с предприятиями. Сейчас идет очень серьезная предварительная экспертная проработка, каждый документ согласовывается с Минэком. В октябре мы намерены направить документы в правительство РФ для принятия решения о создании такой долины. Надеюсь, что до конца этого года соответствующее решение будет принято.
— Давайте поговорим об эпидемиологической ситуации в Новгородской области. Оцените, пожалуйста, как регион пережил пандемию коронавирусной инфекции? Какие введенные ограничения оказались наиболее эффективными?
— Наши врачи справились достойно. Я очень благодарен социальным работникам, которые взяли на себя тяжелейшую работу. И, конечно, благодарю педагогов, которые проводили уроки удаленно. Я считаю, что все граждане Новгородской области, в том числе предприниматели, которые помогали в трудные моменты, сделали все, чтобы регион достойно прошел пандемию.
Система здравоохранения, безусловно, справилась, этому свидетельствует сегодняшняя обстановка в регионе, но в любом случае коронавирус выявил слабые места. Конечно, мы не были готовы к такому масштабу лабораторных исследований, нам приходилось оперативно наращивать мощность. Мы буквально ночами модернизировали наши больницы, чтобы создать там "красные" зоны, при этом обезопасив остальных пациентов. Самое главное, теперь мы видим слабые места системы здравоохранения и будем над ними работать.
— Регион готов к возможной второй волне COVID-19?
— Сейчас сложно оценить масштаб второй волны, но если она будет сопоставима первой, мы готовы.
— Какие ограничения, введенные в Новгородской области, оказались наиболее эффективными?
— Мы ежедневно совместно с главным санитарным врачом анализируем ситуацию. С одной стороны, моей задачей было принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить распространения инфекции, а с другой стороны, нужно было сохранить экономику, рабочие места. Нужно было найти баланс, поэтому каждую неделю, месяц мы ослабляли напор введенных ограничений. Но самой важной мерой я считаю режим дежурства в наших социальных учреждениях для престарелых, где персонал работал 14-дневными сменами. Это позволило избежать массового заражения в группе риска, как было в ряде других субъектов. Конечно, эта мера была не единственной, но наиболее важной с точки зрения сохранения жизни пожилых людей. Тут нужно отдать должное и соцработникам, которые по две недели не видели своих родных и близких.
— Кстати, что касается пожилых людей, в Новгородской области таких около четверти населения. Это как-то отразилось на эпидемиологической обстановке в регионе в целом?
— О социальных учреждениях для престарелых я уже сказал, а в целом пенсионеры вели себя очень ответственно, все ограничения соблюдали. У нас очень быстро развернулась и волонтерская помощь, буквально за один день. Я благодарен молодежным движениям волонтеров, которые доставляли пенсионерам продукты, лекарства и все необходимое.
— А сколько медработников в регионе заразились COVID-19 c начала пандемии? Как обстоят дела с дополнительными выплатами медикам?
— На сегодняшний день 268 случаев. Это меньше 1% от всей численности медицинских работников. Есть один летальный случай. К сожалению, от коронавируса скончалась одна из медсестер, она решила продолжать работать, хотя попадала в группу риска. У нее остались дети, мы будем следить за их судьбой и помогать. Ее старший сын сейчас в техникум поступает, мы ему поможем получить образование.
— Готова ли Новгородская область к пилотному тестированию вакцины от COVID-19? Известен ли уже формат тестирования и его сроки?
— Мы готовы. У нас есть возможность, есть необходимые средства хранения вакцины. Более того, я написал письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой, чтобы Новгородская область была в первых рядах тестирования этой вакцины. Мы и препараты для лечения коронавирусной инфекции, например, "Авифавир" получили в числе первой пятерки регионов. Безусловно, вакцинация будет добровольной. Самое главное, чтобы медработники и другие группы риска имели доступ к этой вакцине.
— Много ли желающих сделать прививку от коронавируса среди жителей региона? Вы проводили соответствующие соцопросы?
— Согласно данным соцопросов, примерно 50 на 50. Если брать разделение по социальным группам, то медиков, конечно, больше, поскольку они лучше понимают необходимость вакцинации. Но это все условная статистика, потому что как только начнется процесс вакцинирования, люди будут видеть, что ничего плохого не происходит с друзьями и знакомыми, которые вакцину получили. Поэтому количество желающих будет расти.
— Вы сами будете вакцинироваться от коронавируса, когда такая возможность появится?
— Я готов, да. Но нужно понимать, что вакцина прежде всего предназначена для медработников, поэтому я думаю, что на первом этапе ее будет меньше, чем желающих вакцинироваться. Если мне предложат поучаствовать в испытаниях, в каких-то лабораторных исследованиях, которые проведут, я не буду отказываться.
— В регионе возобновилось оказание плановой медицинской помощи?
— Конечно. Уже больше месяца назад. Если не заниматься плановой помощью, можно получить рост смертности по другим заболеваниям, поэтому как только стало возможным, мы возобновили такую помощь. Кроме того, у нас ни на день не закрывалась самая оснащенная областная больница. Мы делали все возможное, чтобы в самый пик эпидемии обойтись без этой больницы, не задействовать ее в лечении больных коронавирусом. Экстренная помощь у нас оказывалась без перерыва, как и помощь онкологическим больным и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Все больные коронавирусом проходили лечение только в Новгороде, в двух отделениях – в инфекционной больнице и в центральной городской больнице. Мы не допускали такой "веер", когда в каждом медучреждении отводился этаж для ковида. При этом нам было очень важно, чтобы не заболели врачи и пациенты в онконцентре и в областной больнице, где оказывалась помощь, например, инсультникам, сердечникам и так далее.
— Как пандемия коронавируса повлияла на реализацию нацпроектов? Можно уже оценить потери бюджета и какая их часть будет компенсирована за счет федеральной поддержки?
— Строительная отрасль у нас не останавливалась ни на день, кроме первой недели, которую президент объявил выходной. Закупка оборудования также не останавливалась ни на один день. Но есть и качественные показатели нацпроекта, связанные с плановой инвентаризацией и так далее, что нельзя было делать уже в режиме ковида. Конечно, у нас будет какая-то корректировка в показателях нацпроектов, но пока потери рассчитать невозможно. Сейчас у нас все работает, и мы стремимся максимально наверстать упущенное.
Если говорить о потерях бюджета региона на фоне коронавируса, на сегодня выпадающих доходов у нас 2,3 миллиарда рублей, дополнительные расходы регионального бюджета – еще 1,5 миллиарда рублей. Федеральный центр пока компенсировал нам только 1,1 миллиарда рублей. Будет еще один транш, об этом говорил президент, и, конечно, мы активно разговариваем с правительством, с коллегами из Государственной думы, с бюджетным комитетом о правилах распределения этих денег. На сегодняшний день компенсации далеко не в полной мере покрывают потери бюджета области.
— Какие отрасли, на ваш взгляд, пострадали от пандемии в наибольшей степени?
— В первую очередь это туризм, конечно. Также пострадали сферы общественного питания, спорта, культуры. Еще хочу отметить такую маленькую отрасль, как развлечения для детей, у нас есть ограничения до сих пор по игровым залам в торговых центрах. Промышленность, если и пострадала, то незначительно.
— Как вы намерены реанимировать экономику?
— У нас разработана серьезная программа региональной поддержки экономики. Мы, помимо тех мер, которые были приняты на федеральном уровне, сделали пакет своих мер. Например, выдавали кредиты под один процент из регионального фонда любому предприятию, где выручка упала более чем на 30%. Даже если предприниматель напутал что-то в ОКВЭДе и не мог получить федеральную поддержку, он мог получить региональную. Также мы достаточно серьезно снизили налоги для пострадавших отраслей, предоставили им отсрочки по платежам по аренде, и, в принципе, у нас практически никто не закрылся, никто не ушел с рынка. Что касается туризма, мы надеемся по итогам года получить около 70% от того объема турпотока, на который рассчитывали ранее. Это неприятно, это болезненно, это, конечно, скажется на инвестпрограммах нашей туристической отрасли, но не смертельно.
— В конце прошлого года вы сообщали о планах организовать два туристических центра на новгородском участке скоростной платной автотрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург. Удалось ли осуществить задуманное или коронавирус помешал реализации проекта?
— Да, мы хотели сделать два, но пока сделаем один, приходится экономить. Туристический центр сейчас на финальном этапе строительства. Думаю, до нового года мы откроем его. Нас поддерживают коллеги из "Автодора", поэтому все будет сделано.
— Вы рассчитываете увеличить поток туристов за счет этого центра?
— Еще до пандемии у нас наблюдался ежегодный рост турпотока. Но есть другая проблема — туристы приезжают только на один день и только в Новгород, не задерживаются у нас. А турист, который приезжает на один день, не выгоден для экономики. Мы сейчас разрабатываем маршруты, создаем новые средства размещения. У нас есть муниципальный туристический стандарт, районные власти облагораживают места показа, проводят Wi-Fi, создают необходимую инфраструктуру.
— Ранее вы сообщали, что инвестиции резидентов двух территорий опережающего социально-экономического развития в Боровичах и в поселке Угловка к 2028 году превысят четыре миллиарда рублей. Как сейчас обстоят дела с привлечением инвестиций, пришлось ли резидентам скорректировать планы из-за COVID-19?
— Все идет по плану. Все, кто планировал стать резидентами, зашли. Прогнозируемые четыре миллиарда рублей будут достигнуты гораздо раньше, чем к 2028 году. Я думаю, что уже в ближайшие два года. Например, если взять ТОСЭР "Угловка", в 2021 году планируется дополнительно привлечь еще трех резидентов.
— Около года назад Новгородская область и Ненецкий автономный округ подписали соглашение о предоставлении жилья жителям Крайнего Севера. Как продвигается реализация этой программы?
— Да, мы совместно с НАО работаем над этим. Новгородская область вполне подходит по климату для переселения из северных районов. К нам вообще приезжает большой поток людей с Севера, и мы этому рады. Последние три года мы фиксируем положительную миграцию — в регион больше людей приезжает, чем уезжает.
— А как обстоят дела с привлечением молодых специалистов?
— У нас была такая проблема, и она еще до конца не решена. Но сегодня у нас на 30% вырос поток абитуриентов в высшие учебные заведения. К нам приезжают поступать из разных регионов, соответственно, часть выпускников останется работать в Новгородской области.
— Какой отдачи для региона вы ожидаете от программы кэшбэка за покупку туров по России?
— Сегодня в области больше самостоятельных туристов, а организованные туры только начинают возвращаться. Это связано и с тем же коронавирусом, люди не хотят путешествовать большими группами и так далее.
Получение компенсации за турпоездки от пяти дней даст возможность увеличить длительность пребывания туристов у нас. Мы знаем, что предложения по Новгородской области были представлены у более 40 туроператоров. В программе участвуют 13 мест размещения области, включая санаторно-курортные организации. Конкретные цифры пока рано называть, эффект от программы можно будет оценить только к концу года.
— В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 российским городам, в том числе городу Боровичи в Новгородской области. Расскажите, когда в городе появится стела с изображением городского герба?
— Мы рассчитываем, что крайняя дата – 2023 год. Сейчас составляется концепция. Это ведь не просто формальное действие, это очень важно для людей, важно сохранить память. В Боровичах, наверное, нет семьи, где старшее поколение не работало бы в госпитале в годы войны. При размещении стелы очень важно провести общественное обсуждение. На это мы потратим несколько месяцев. Мы предложим все возможные варианты размещения, и уже народ выберет место.
— Агентство стратегических инициатив и рабочая группа Госсовета по направлению "Социальная политика", которую вы возглавляете, должны проанализировать основные барьеры, возникающие в социальной сфере, и к концу 2020 году представить соответствующий доклад руководству страны. Как продвигается работа в этом направлении? Можно ли уже говорить об основных социальных барьерах?
— Работа активно идет. Я бы не стал сейчас детализировать какие-то вещи, но в основном это все касается сферы социальных услуг – долгие очереди, медицинские обследования и так далее. Мы планируем презентовать эти барьеры на форуме в Сочи в начале октября.
— Андрей Сергеевич, по вашей инициативе 12 августа в Великом Новгороде стартовал конкурс на лучшую концепцию реконструкции театра имени Ф.М. Достоевского. Расскажите, пожалуйста, подробнее о самом здании и конкурсе. Кто может принять участие, какие задачи стоят перед архитекторами? Как новый облик театра повлияет на его привлекательность для туристов?
— Идея конкурса в том, чтобы сделать театр современным и при этом сохранить внешний облик этого уникального здания. В театре проходит очень популярный Международный театральный фестиваль Достоевского, приезжают труппы из 40 стран мира. А само здание, знаете, по концепции это действительно мировой шедевр, многие архитекторы относят его к числу мировых достопримечательностей и даже сравнивают с оперным театром в Сиднее. Но по оформлению это сельский дом культуры.
Работу конкурсантов будет курировать британский архитектор Роджер Уоттс, имеющий большой опыт проектирования и реконструкции аналогичных объектов, занимавшийся, к примеру, реконструкцией Королевского национального театра в Лондоне. Участвовать в конкурсе будут молодые архитекторы со всей России. Причем это не только конкурс, но и обучение молодых специалистов. Для человека, который пробует себя в архитектуре, это феноменальный шанс поучаствовать в работе над созданием шедевра.
Для нас особенно важно выбрать профессиональную команду, которая, с одной стороны, бережно отнесется к архитектурным решениям автора проекта, а с другой — сделает театр современным и комфортным пространством, где будут проводить время горожане и туристы, поток которых, я уверен, увеличится вскоре после реконструкции.
Проектирование и строительство будет финансироваться из регионального бюджета.
Сергей Зилитинкевич назван лауреатом премии ММО 2020 года
Сергей Зилитинкевич назван лауреатом престижной премии Международной метеорологической организации (МMO) за свой выдающийся вклад в метеорологию, климатологию и научные исследования.
Сергей Зилитинкевич отмечен наградой за свои «новаторские изобретения в области физики турбулентности и атмосферных пограничных слоев, которые привели к существенному развитию наших знаний о системе Земли, дали ход прогрессу в области прогнозирования погоды и качества воздуха и создали основу для зарождения новых видов климатического обслуживания».
Премия ММО представляет собой наиболее значимую награду в области метеорологии. Она вручается лицам за их выдающиеся вклады в области метеорологии, гидрологии, климатологии или в смежных областях. Эта награда, учрежденная в 1955 году, названа в честь предшественницы Всемирной метеорологической организации, Международной метеорологической организации (ММО).
https://public.wmo.int/ru/media/новости/сергей-зилитинкевич-назван-лауреатом-премии-ммо-2020-года
С.С. Зилитинкевич: научная биография
В 1959 г., окончив Ленинградский университет по специальности «физика», Сергей Сергеевич Зилитинкевич (СЗ) поступил в Главную геофизическую обсерваторию им. Воейкова (ГГО). В 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию в Ленинградском гидрометеорологическом институте и в 1964 г. возглавил Лабораторию загрязнения воздуха ГГО. В 1966 г. организовал и возглавил Ленинградский филиал Института океанологии им. П.П. Ширшова АН СССР (ИОАН) с основной тематикой – физика планетарных пограничных слоев (ППС), взаимодействие атмосферы и океана, общая циркуляции атмосферы и океана. В 1968 г. защитил в ИОАН докторскую диссертацию на тему «турбулентность и планетарные пограничные слои». В 1972 г. Президиум Академии наук СССР присвоил ему ученое звание профессора геофизики. В 70-е годы руководил работами по физике планетных атмосфер в Советской космической программе ВЕНЕРА и возглавлял Комиссию по взаимодействию атмосферы и океана КАПГ.
В 90-ые годы работал как приглашенный профессор: в 1990 г. в Лаборатории RISØ в Дании; в 1991-1997 г. в Институте метеорологии им. Макса Планка, Университете Гамбурга и Институте полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера в Германии.
С 1998 по 2003 г. работал в должности заведующего Кафедрой метеорологии в Университете Упсалы в Швеции (старейшая в мире кафедра метеорологии).
С 2004 г. работает в должности научного директора в Институте атмосферных и земных систем Университета Хельсинки и профессора в Финском метеорологическом институте, руководя серией проектов, поддержанных высшими Европейскими грантами: ERC-advanced, Marie Curie Chair, 4 гранта программ TEMPUS и Erasmus+ и т. д.
С 2011 г. работает в России как руководитель российских и российско-европейских проектов, начиная с мегагранта в Нижегородском университете (ННГУ), где руководит созданной им Лабораторией планетарных пограничных слоев, Ин-те прикладной физики РАН, Московском и Тюменском университетах и Институте географии РАН.
С 2012 г. является со-руководителем европейско-российско-китайской программы «Пан-евразийский эксперимент» вместе с ее инициатором, профессором Markku Kulmala. Программа представляет собой платформу для выработки научно обоснованного ответа на глобальные вызовы, порожденные загрязнением окружающей среды и изменением климата северной Евразии в контексте современного экономического и социального развития (www.atm.helsinki.fi/peex).
Интересы СЗ включают теорию и методы расчета турбулентности и планетарных пограничных слоев как связующих звеньев в системах климат-биосфера/техносфера/ гидросфера. Как эксперт в этой области СЗ участвовал в создании модели оперативного прогноза погоды HIRLAM/ALADIN и Ветрового атласа Финляндии (www.windatlas.fi).
Его работы по теории турбулентности и ППС входят в учебники (например, Z Sorbjan Structure of Atmospheric Boundary Layer, 1989, второе издание 2010; J Garratt Atmospheric Boundary Layer, 1992; E Kraus & J Businger Atmosphere-Ocean Interaction, 1994; L Kantha & C Clayson Small Scale Processes in Geophysical Flows, 2000) и составляют существенную часть университетского курса метеорологии пограничного слоя.
СЗ руководил подготовкой 22 кандидатских и PhD диссертаций; консультировал 3 докторских диссертации; опубликовал более 200 статей в научных журналах и 9 книг. Согласно Google Scholar (https://scholar.google.com/citations?user=y1CJd4MAAAAJ&hl=en), цитируемость его работ превышает 7000, h-индекс =44. В подавляющем большинстве этих работ он – первый или единственный автор. Его главные результаты за последние 20 лет:
Пересмотр традиционной парадигмы стратифицированной турбулентности, лежащей в основе ее современной теории и методов расчета; демонстрация их тупика и создание дорожной карты для развития новой теории
Концепция долгоживущих планетарных пограничных слоев, преобладающих над полярными областями, мегаполисами и акваториями при вторжениях холодного или теплого воздуха, но упущенными в теоретической метеорологии и океанологии
Концепция планетарного пограничного слоя как объекта, обрамляющего и регулирующего главные взаимодействия в системах климат-биосфера/техносфера/ гидросфера, а также загрязнение воздуха и экстремумы погоды
Награды:
Медаль Вильгельма Бьёркнеса Европейского геофизического общества (2000)
Медаль Альфреда Вегенера (Европейского геофизического союза (2015)
64-ая премия Международной метеорологической организации (IMO Prize) (2019)
Членство в академиях и научных обществах:
Европейской академии (науки о Земле и космосе, 2002)
Финской академии наук и литературы (науки о Земле, 2009)
Финского общества наук и литературы (математические и физические науки, 2012)
Королевского метеорологического общества Великобритании (2004)
(почетный член) Европейского геофизического союза (2015)
Global Property Guide назвал страны мира с самым значительным ростом цен на жильё
Во втором квартале 2020 года, несмотря на пандемию, стоимость жилой недвижимости поднялась в 33 из 49 исследованных стран.
Что случилось? По данным Global Property Guide, во втором квартале 2020 года глобальные рынки жилья отличились уверенным ростом, несмотря на пандемию коронавируса. Особенно это было характерно для Европы, Канады и США. Цены с учётом инфляции увеличились в 33 из 49 исследованных стран. Аналитики объясняют это низкими процентными ставками, которыми многие центральные банки пытались компенсировать ослабление экономики.
Самые быстрорастущие. Во втором квартале 2020 года больше всего в годовом исчислении выросли цены на жильё в Турции (+11,59%), на Филиппинах (Макати, +11,52%), в Германии (+10,85%), Словакии (+9,13%) и Эстонии (+8,28%).
Аутсайдеры. Самый значительный спад за соответствующий период отмечен в Египте (-17%), Пакистане (-4,62%), Пуэрто-Рико (-4,44%), на Мальте (-3,51%) и в ОАЭ (Дубай, -3,27%).
А что у нас? В России цена на жильё за указанный период выросли на 4,82%. А вот в украинском Киеве они фактически остались неизменными (+0,02%).
Изменение цен на жильё в популярных у русскоязычных покупателей странах (второй квартал 2019 – второй квартал 2020)*:
-Турция +11,59%
-Германия +10,85%
-Таиланд +8,16%
-Эстония +8,28%
-Финляндия -0,78%
-Португалия +8,12%
-Нидерланды +6,12%
-США +5,02%
-Австрия (Вена) +3,03%
-Великобритания +1,11%
-Латвия (Рига) +0,85%
-Швейцария +0,61%
-Израиль -2,16%
-ОАЭ (Дубай) -3,27%
-Мальта -3,51%
-Канада +5,19%
* Аналитики указывали цифры с поправкой на инфляцию
Автор: Ольга Петегирич
Компании Sanofi и GSK запустили клинические исследования I/II фазы вакцины от COVID-19. Ожидается, что III фаза КИ будет инициирована в декабре. В случае получения убедительных результатов компании подадут заявление на регистрацию вакцины, пишет Reuters.
В клинических исследованиях примут участие 440 здоровых добровольцев, набранных в 11 медучреждениях на территории США. В основе вакцины лежит технология рекомбинантных белков, также в ее состав входит адъювант для усиления эффекта.
Уже в 2021 году компании будут готовы произвести до 1 млрд доз вакцины. Ранее стало известно, что США заплатят Sanofi и GSK 2,1 млрд долларов за гарантированную поставку 100 млн доз вакцины. Аналогичное соглашение было заключено с Великобританией, также ведутся переговоры с властями Евросоюза о поставке до 300 млн доз. Кроме того, поставки данной вакцины ожидаются в рамках программы COVAX, проводимой под эгидой ВОЗ.
В научном журнале The Lancet вышла статья по результатам фазы I–II клинических исследований российской вакцины от коронавируса Спутник V. Об этом сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи.
Стороны рассказали, что это только первая статья в цикле публикаций о вакцине Спутник V. В сентябре для публикации будет представлено полное исследование вакцины на животных – на приматах, сирийских хомяках, трансгенных мышах, – в которых вакцина показала 100% защитную эффективность (результаты на приматах и сирийских хомяках получены до проведения клинических исследований). Первые результаты по уже начатому пострегистрационному клиническому исследованию с участием 40 тысяч добровольцев будут опубликованы в октябре-ноябре.
«Научная публикация в The Lancet доказывает высокую безопасность и эффективность российской вакцины, а также приводит подробные данные о результатах клинических исследований», - сообщили в РФПИ. В статье приведены как ключевые качественные, так и количественные характеристики вакцины Спутник V.
PGNiG вместе с Toyota построят пилотную водородную заправку в Варшаве
Соглашение с Toyota Motor Poland о продвижении водородных технологий подписала польская нефтегазовая компания (PGNiG). В соответствии с документом стороны построят пилотную водородную заправку в районе Воля в Варшаве. «Пуск пилотной водородной заправки станет первым шагом PGNiG в реализации водородной программы группы», — отметил президент PGNiG Ежи Квечиньски.
Программа исследований водорода PGNiG, обнародованная в мае, предусматривает производство водорода, включая экологически чистый («зеленый») водород с использованием возобновляемых источников энергии, хранение и распределение водорода, а также различные применения в промышленности. Строительство водородной заправочной станции в Варшаве является частью программы.
PGNiG, уточняет Offshore Energy, уже подписала контракт с консорциумом компаний из Польши и Великобритании на проектирование и строительство станции.
«Эксплуатация пилотной станции поможет PGNiG приобрести водородные компетенции, необходимые для таких проектов. Мы стремимся расширить ассортимент нашей продукции, включив водород в качестве моторного топлива, который дополнит наше предложение СПГ и СНГ и будет способствовать распространению газового топлива с низким и нулевым уровнем выбросов в Польше», — считает вице-президент компании Аркадиуш Сексьинский.
Лондон берут измором
Шотландия вновь хочет на свободу
Текст: Ариадна Рокоссовская
Если бы референдум о независимости Шотландии прошел в августе, 53 процента жителей высказались бы за выход из Соединенного Королевства. Неудивительно, что шотландское правительство уже готовит план проведения повторного голосования. У Шотландской национальной партии и ее лидера Николы Стерджен есть основания полагать, что на этот раз в отличие от референдума 2014 года жители проголосуют за выход.
Брекзит и кризис, вызванный COVID-19, только укрепили уверенность шотландцев, что они в состоянии самостоятельно противостоять всем вызовам. По последним данным центра YouGov, больше половины местных жителей считают, что Шотландия сможет существовать в качестве самостоятельного государства. Год назад такой точки зрения придерживались лишь 32 процента шотландцев. На волне таких настроений Стерджен объявила, что референдум будет проведен, даже если власти Британии не дадут на это согласия.
В начале следующего года шотландское правительство представит местному парламенту проект закона, определяющего правовую базу для нового референдума о независимости. Ожидается, что местные депутаты одобрят закон до мая, на который в Шотландии запланированы очередные парламентские выборы.
Трудное у родителей детство
Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)
У каждого ребенка - своя "цена". В Москве - до 20 млн руб., если состоятельная семья решила пустить ребенка полностью по частному кругу - от рождения, медицины, детского сада и школы до платного бакалавриата. От 0 до 20 с лишним лет. Столько стоит полностью "частный" ребенок исходя из средних цен? Это цена неплохой 2-комнатной квартиры в "цековском" кирпичном доме в Москве. До 10% этих затрат - детский сад, 45-50% - школа, если она частная, 6-8% - первоклассный вуз, если не удалось поступить на бюджетной основе.
А что если вы своего, единственного и неповторимого, решили выучить иностранным языкам? Скажем, двум, как полагается в глобальном мире? Обычная бюджетная школа этого не вытянет. Только за пять лет вы вынете из кошелька больше 700-800 тыс. руб.
Пора возмущаться: а кто может это себе позволить? Назовите эти семьи! Или вспоминать: а мы все сделали сами, за счет бюджета. Да, это предельные затраты, потолок. Не так много семей даже в столице, готовых платить за свое дитя 80-100 тысяч рублей в месяц. Хотя есть случаи "запредела" или даже беспредела, когда такие расходы в 2-3 раза выше. А если брать по минимуму? Если стараться в детстве пользоваться только бюджетным, государственным? В какую сумму выльются инвестиции в ребенка? Ответ - как ни крути, если мы желаем получить образованное и спортивное дитя, за 20 лет выйдет на круг, со всеми частными учителями, секциями и доплатами, не меньше 20-25 тыс. руб. в месяц. А если детей двое или трое?
Москва - город тучный, дорогой. А сколько это стоит в других регионах, хотя бы в городах-миллионниках? Вузы - цены до двух раз ниже, чем в Москве, частные школы - в 3-4 раза ниже, детские сады - на 30-40% ниже. Но и зарплаты кратно ниже. В Новосибирске и Нижнем Новгороде зарплаты примерно в два раза меньше, чем в Москве. Для большинства семей дорого - платить 15 тыс. руб. в месяц только за частный детский сад, не считая платных кружков и секций, врачей и еще множества мелочей, связанных с детьми.
А может быть, образовывать дитя только за бюджет, сведя частный сектор только к особым случаям? По всем расчетам на круг меньше 10-15 тыс. руб. на одного ребенка в месяц все равно не выйдет. При официальных зарплатах во многих регионах в 31-40 тыс. руб. (Росстат) это тоже трудно.
Так что в итоге? Для многих семей иметь даже одного, а тем более второго ребенка - слишком дорого. Для них рожать или не рожать - это не только природное, эмоциональное, но еще и экономическое решение. "У нас нет денег", "зачем плодить нищих" - одна из причин, почему у нас становится меньше детей, особенно в среднем классе, набравшем ипотеку, старающемся жить сытнее и лучше в крупных и средних городах.
По демографическому прогнозу Росстата детское население России в 2021 году составит 27,3-27,5 млн чел. (0 - 15 лет). В 2030 году - от 21,9 до 25 млн чел., в 2036 году - от 17,7 до 22,9 млн чел. Эти дети еще не родились, а их уже намного меньше.
А где они будут жить в России? Вот статистика выпускного класса-2020 одной краснодарской школы. Из 26 человек 14 поступили в московские вузы, 2 - в петербургские, 4 - в военные академии. В Краснодаре остались 6 человек, у большинства из них меньше 200 баллов по ЕГЭ. Если 10-15 лет детское население будет сокращаться и стягиваться в столицы, кто останется в остальных регионах?
Что-то не так с нашим будущим! Когда дети - это дорого, дети вроде бы ни к чему, на них нет средств! Когда нет под боком бабушек и дедушек, живущих за тридевять земель! Семья из трех поколений распадается, дешевле жить в одиночку, жить в норах по 15-20 метров. В 1990 году на каждые 100 браков приходились 42 развода, в 2019 году - 65. Время вступления в первый брак перевалило за 25 лет, на 5 лет выше, чем в начале 1990-х. Доля гражданских, незарегистрированных браков в первые три года совместной жизни - выше 40% (Росстат). Какие уж здесь дети! В 1990 году число детей на одну женщину - 1,89, в 2019 году - 1,5, а нужно, чтобы численность населения не убывала - 2,1.
Так при чем здесь "цена ребенка"? Какое значение имеет - дорого его содержать или дешево? Разве мы не в тренде с развитыми странами? Везде рождаемость падает. На это ответ простой. Есть развитые страны, в которых население намного состоятельнее, чем в России, но рождаемость выше, чем у нас. Во Франции число детей на одну женщину - 1,9, в Швеции, Ирландии - 1,8, в Великобритании, Чехии, Дании, Австралии, Эстонии - 1,7. В Израиле, пусть это особый случай, - 3,1 (Всемирный банк).
Конечно, на рождаемость влияет масса факторов, не только "цена ребенка". Но там, где к каждому ребенку относятся как к чуду (Чехия, Швеция, Израиль, Ирландия) и где государство делает максимум, чтобы возместить семье высокую цену ребенка, не теряя в качестве, гораздо легче решать, появится ли у старших детей еще один брат или сестра.
Что же делать? Для семей - думать заранее, как выучить. Считать свои бюджеты, управлять доходами - многие из нас не умеют этого делать. Стремиться дальше, больше и быстрее. Состоятельные могут позволить себе 3-5 детей. А для властей и бизнеса? Поставить в основу мышления и политики в России не человека зарплатного, торгующегося за подачки, не "тварь дрожащую", не человека как расходуемый ресурс, а состоятельную, экономически независимую семью, строящую свое имущество из поколения в поколение. Это политика высокой оцененности каждого из нас, высоких доходов, ребенка как чуда. Или, что то же самое, политика социальной рыночной экономики, в которой каждый из нас - король.
Небо красное
На "Спасской башне" выступит тысяча музыкантов
6 сентября в показательном представлении XIII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" примут участие около тысячи музыкантов, танцоров, певцов и артистов. Готовят роскошное пиротехническое шоу - фейерверк в красках Победы.
Задействована кавалерия и авиация. В наземной экспозиции покажут истребитель Ла-5 - на таких летали летчики, ставшие прообразом пилотов "летающей эскадрильи" из фильма "В бой идут одни "старики". Услышим и композицию из него.
"Спасская башня" обычно проходит на Красной площади: много дней выступлений плюс концерты на московских вокзалах и в парках. Но этот год особый, будет всего одно уникальное представление: в парке "Патриот", с 20.00 до 22.00. Специально зрителей на шоу не приглашают (напомню: фестиваль на Красной площади не стали проводить, исходя из эпидемиологической безопасности), но посетители "Патриота" увидят и услышат все и всех: военные оркестры, танцевальные номера московских кадетов, суворовцев и ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц минобороны. Под песни Московского казачьего хора выступят всадники Кремлевской школы верховой езды.
Мультимедийные возможности "Российской газеты" позволяют не только рассказать, но и показать представление, взять интервью у музыкантов, пройти за кулисы фестиваля, поговорить с теми, кто готовит это шоу. В 20.00 начнется прямой эфир телеканала "Звезда". В Россию летят видеоприветствия: из Парижа от Мирей Матье, а еще от музыкантов из Китая, Японии, Великобритании, Таиланда, Швейцарии и т.д. - практически из всех уголков планеты.
"В финале выступит Тамара Михайловна Гвердцители, - рассказал музыкальный руководитель фестиваля генерал-майор Тимофей Маякин. - Она исполнит песню, которую пока мы держим в секрете".
Текст: Игорь Елков
NaaS подрастет в пандемию
В ближайшие пару лет спрос на сетевые решения NaaS в России вырастет на 17%. Об этом сообщает компания Aruba. В связи с пандемией 32% ИТ-руководителей из стран Европы, Ближнего Востока и Африки планируют увеличить инвестиции в облачные сети, а 30% - в сети с использованием искусственного интеллекта.
Анастасия Самсонова
По данным Aruba, поддержка сотрудников на удаленке и появление гибридной бизнес-среды, которая подразумевает работу как в офисе, так и дистанционно, способствует модернизации сетевой инфраструктуры компаний и инвестициям в облачные решения NaaS - сети как сервиса.
Согласно результатам исследования, в ближайшие два года средняя доля ИТ-услуг по подписке увеличится с 29% до 41% к 2022 г., а доля организаций, потребляющих более половины своих ИТ-решений как услугу, возрастет за это время примерно на 74%.
"Появление гибридной рабочей среды стимулирует ИТ-руководителей к поиску баланса между гибкостью, безопасностью и доступностью граничных устройств, - говорит вице-президент Aruba, Hewlett Packard Enterprise в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Мортен Иллум. - Для поддержки новых условий труда, таких как социальное дистанцирование и бесконтактное общение, в офисах необходимо использовать сетевые технологии, которые способны обеспечить связь, безопасность и поддержку корпоративного уровня. Все это необходимо реализовать в условиях дефицита финансов, что также стимулирует ИТ-руководителей идти по пути снижения рисков и расходов, что как раз и обеспечивает модель подписки".
По данным исследования, в России 27% организаций оценили воздействие пандемии коронавируса на своих сотрудников как "значительное" (сокращение штата и зарплат), 49% респондентов считают его "умеренным" (временное сокращение части обязанностей), а 20% опрошенных - "низким".
66% респондентов в России отметили, что с началом пандемии инвестиции в их сетевые проекты отложили или приостановили, а 33% респондентов - что их проекты закрыли. При этом 17% российских ИТ-руководителей планируют увеличить инвестиции в облачные сети.
"49% опрошенных в России заявили, что в связи с пандемией рассмотрят новые модели подписки на аппаратное и/или программное обеспечение, 40% пользовались услугами аппаратного/программного обеспечения под ключ, а 21% - финансовым лизингом. Такие цифры отражают возросшую потребность в финансово гибких моделях использования сетевого оборудования в нынешних непростых условиях", - говорится в сообщении Aruba.
По словам замдиректора департамента телекоммуникаций по сервису интегратора "Крок" Светланы Врублевской, только в этом году российский рынок созрел для NaaS-решений. Основной заказчик NaaS в стране – территориально распределенные компании, у которых доступность офисов и филиалов напрямую влияет на финансовые показатели бизнеса.
"Это ретейл, FMSG, транспортные и страховые компании. В ИТ-службе всегда стоит задача по оптимизации расходов, а современные облачные технологии позволяют этого достичь путем переноса сервисов на мощности партнера, а также за счет использования экспертизы для сопровождения", - уточнила представитель "Крок".
Она считает, что драйвером роста рынка NaaS может стать экономическая ситуация в стране, которая приведет к оптимизации бюджетов - в том числе и затрат на ИТ.
"Модель потребления NaaS удобна заказчикам c точки зрения аутсорса сетевых задач и, что немаловажно, сетевых проблем, - сказал замдиректора центра компетенций по сетевым технологиям "Техносерва" Денис Мишин. - Это особенно актуально для компаний, чей бизнес не связан с высокими технологиями. Обычно они имеют ряд вполне конкретных задач, решить которые можно, либо наняв штат специалистов, либо купив услугу с вполне конкретным SLA. Что во многих случаях является экономически более выгодным решением".
В ПАО "Ростелеком" уверены, что время пандемии спрос на сервисную модель возрос, но основные предпосылки перехода на нее - другие. В первую очередь это возможность переложить на партнера задачи развития и поддержки основной ИТ-инфраструктуры и тем самым высвободить свои кадры. "Второй драйвер - скорость адаптации к новым условиям. И третье - прогнозируемость затрат на сервис под ключ", - перечислил представитель "Ростелекома".
По словам руководителя направления сетевых сервисов облачного бизнеса ПАО "МТС" Екатерины Канунниковой, рынок облаков в России ежегодно растет на 25-30%. Рост спроса на NaaS-решения среди российских компаний прямо пропорционален росту популярности облачных сервисов. "Для заказчиков, которые размещают критичные для бизнеса ИТ-ресурсы в облаке провайдера, важно обеспечить надежную связанность распределенной инфраструктуры с облаком. Популярностью пользуются сервисы, которые позволяют организовать быстрое подключение onprem-офисов к облаку", - отмечает специалист МТС.
Количественное исследование для компании Aruba летом этого года провели аналитики Vanson Bourne. Они опросили 2,4 тыс. ИТ-руководителей из США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Италии, Швеции, России, ОАЭ, Турции, Индии, Сингапура, Японии, Китая, Южной Кореи, Гонконга, Австралии, Бразилии и Мексики. Респонденты представляли организации с численностью персонала более 500 человек из сферы образования, финансовых услуг, госуправления, здравоохранения, гостиничного бизнеса, промышленности, информационных технологий и розничной торговли.

ПОДЪЁМ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОРРУПЦИИ
ФИЛИП ЗЕЛИКОВ
Профессор истории и госуправления Центра Миллера в Университете Вирджинии. Американский дипломат, исполнительный директор комиссии по терактам 11 сентября. Работал в пяти администрациях Белого дома.
ЭРИК ЭДЕЛЬМАН
Советник Центра стратегических и бюджетных оценок, старший советник Фонда защиты демократий. Заместитель министра обороны США по политическим вопросам с 2005 по 2009 год.
КРИСТОФЕР ХАРРИСОН
Консультант по финансовым и политическим рискам. Советник Министерства обороны и Госдепартамента в период президентства Джорджа Буша – младшего.
СЕЛЕСТА УОРД ГВЕНТЕР
Заместитель помощника министра обороны в администрации Джорджа Буша – младшего. С осени 2020 года сотрудник Центра внешнеполитических стратегий Техасского университета A&M.
КАК ГОСУДАРСТВА ПРЕВРАТИЛИ ВЗЯТКИ В ОРУЖИЕ
Весьма симптоматичная статья, которая хорошо вписывается в картину мира, формируемую американским политическим истеблишментом в отношении государств-противников. Факты и интерпретации оставляем на совести авторов, некоторые нелепости видны невооружённым взглядом, но наиболее интересно, что крайне именитые авторы статьи видят коррупцию исключительно в контексте Трампа и роящихся вокруг него автократов. Никакие другие американские администрации и политики, вероятно, ни о чём таком и помыслить не могли.
Взяточничество – не новость, возможно, это вторая древнейшая профессия. Влиятельные люди и их окружение всегда использовали откаты, «деньги в обмен на услуги» и другие коррупционные схемы, чтобы обогатиться и получить нечестное преимущество. Коррупция всегда представляла угрозу для верховенства закона и препятствовала защите гражданских и экономических прав.
Новое – трансформация коррупции в инструмент государственной стратегии. В последние годы ряд стран – прежде всего Китай и Россия – нашли способ превратить коррупцию, которая раньше была характерной чертой их политических систем, в оружие на глобальной арене. Страны делали это раньше, но в таком масштабе – впервые.
Результатом стал незаметный, но существенный сдвиг в международной политике. Соперничество между государствами обычно было связано с идеологией, сферами влияния и национальными интересами, побочные выплаты того или иного рода были одной из возможных тактик. Однако теперь они стали ключевым инструментом государственной стратегии, способом добиться определённого политического результата и воздействовать на ситуацию в конкретных странах. Эта форма коррупции базируется на асимметрии. Любое правительство может нанять скрытых агентов или подкупить чиновников в другой стране, но относительная открытость и свобода демократических обществ делает их особенно уязвимыми для подобного враждебного воздействия, а их недемократические конкуренты просчитали, как использовать эту слабость.
Борьба с коррупцией всегда оставалась в стороне общественных и академических дискуссий о внешней политике. Считается, что это проблема правоохранительной системы и эффективного государственного управления, то есть она сдерживает политическое и экономическое развитие, но не выходит на уровень государственной стратегии. Однако сегодня коррупция превратилась в политическое оружие. Способы борьбы с ней должны войти в мейнстрим международной политики всех уязвимых государств, включая США.
Коррупционный прорыв
Стратегическая коррупция отличается от традиционных форм, которые принято называть бюрократической и большой коррупцией. Бюрократическая коррупция – широко распространенное явление на госслужбе, когда требуется «плата за услугу»: например, во многих странах, чтобы получить водительские права или разрешение строительной инспекции, нужно дать взятку. Этот вид взяточничества препятствует экономическому развитию, поскольку люди со связями получают прибыль от инвестиций в ущерб реальному росту.
Большая коррупция происходит, когда представители бизнеса или криминала (или олигархи) напрямую платят высокопоставленным чиновникам в обмен на преференции или контроль над ключевыми секторами экономики, где можно получить большую прибыль, – чаще всего это банки, телекоммуникации и природные ресурсы, такие как нефть и газ. Обе формы традиционной коррупции подрывают слабые государства, ведут к их распаду и гражданскому конфликту – этот процесс сейчас можно наблюдать в Алжире, Боливии, Иране, Ираке, Ливане и Венесуэле.
При бюрократической и большой коррупции тот, кто даёт взятку, и тот, кто берёт, просто пытаются обогатиться. При стратегической коррупции жадность по-прежнему присутствует, по крайней мере у некоторых игроков, но коррупционные действия в конкретной стране предпринимают иностранцы в соответствии с национальной стратегией своей страны. Иногда эти схема подразумевают нарушение закона, в том числе гражданами страны-объекта. В других случаях действия технически являются законными, но предполагают «искажение или нарушение целостности исполнения государственных обязанностей», как сказано в определении коррупции в Оксфордском словаре. Поэтому одни акты коррупции наказываются по закону, другие остаются на усмотрение граждан, если о них становится известно.
Первые усилия по борьбе со стратегической коррупцией в США были направлены именно на это. Акт о регистрации иностранных агентов (FARA) вступил в силу в 1938 году и стал результатом расследования Конгрессом фактов коммунистической и нацистской пропаганды в США. По закону представители иностранных спонсоров должны были регистрироваться, чтобы их деятельность была «безжалостно публичной».
В 1960-х после новых расследований Конгресса в FARA был внесён ряд поправок, которые в основном касались спонсирования политического лоббизма, а не пропаганды. Следующие несколько десятилетий иностранное влияние в корыстных целях оставалось малозаметным явлением, чаще всего это были попытки диктаторов приобрести влияние в Вашингтоне и других западных столицах.
Ситуация начала меняться в 1990-е годы. Неожиданно появилось много новых покупателей. С крахом коммунизма возникло более двадцати новых правительств. Все они хотели завести друзей в Вашингтоне, столице единственной мировой супердержавы. И находили консультантов и юристов, готовых дать совет за большие деньги. Особенно прибыльным новым бизнесом стало содействие американским и глобальным инвестициям в новые страны. Пока Соединённые Штаты склонялись к экономическим санкциям в качестве политического инструмента, иностранцы всё больше нуждались в регуляторных механизмах.
Разрегулированность глобальной финансовой системы в 1970-1980-е гг. позволяла с лёгкостью перемещать и инвестировать деньги во всех направлениях, а потом выводить их обратно. Открытые процветающие страны – Канада, Великобритания и США – привлекли миллиарды долларов, которые ежегодно отмывались через анонимные компании, инвестиции в недвижимость и другие схемы. В 2001 г. Организация экономического сотрудничества и развития назвала анонимные компании главным средством сокрытия нелегальных транзакций по всему миру. Соединённые Штаты, где не было законодательства, требующего прозрачности «конечных владельцев-бенефициаров» корпоративных структур, постепенно превратились в безопасную финансовую гавань для отмывания денег, финансирования терроризма, клептократов и контрабандистов. Поэтому резкий рост транснационального криминала после окончания холодной войны способствовал не только традиционной, но и стратегической коррупции. В конце концов, как сказал журналист Оливер Буллоу, «плохие деньги всегда соединяются с шальными деньгами».
Кумулятивным результатом всех этих изменений стал экспоненциальный рост коммерции с участием иностранных групп интересов. Американцы со связями (реальными или только заявленными) в политических кругах получили возможности для любых форм коррупционного поведения. Политические консультанты и бывшие чиновники, занявшиеся очень прибыльной и практически нерегулируемой торговлей, постоянно проходили проверку на этичность и патриотизм. Одни относились к этим вызовам осторожно, прислушиваясь к чувству долга, другим было всё равно.
Идеальная авантюра Руди и Дмитро
Возможно, самый известный случай стратегической коррупции последних лет – это украинский скандал, который привёл к процедуре импичмента президента Дональда Трампа в 2019 году. Многие американцы считают это внутренним политическим скандалом, но важно понимать его иностранные корни.
Процедура импичмента началась из-за попыток Трампа летом 2019 г. увязать дальнейшие отношения с Украиной с готовностью Киева помочь ему раскопать компромат на Джо Байдена, обвинить прежнее украинское правительство (а не Кремль) в хакерских атаках на Национальный демократический комитет в ходе президентской кампании 2016 г. и подорвать обоснованность обвинений против одного из менеджеров своего предвыборного штаба Пола Манафорта. На самом деле история началась задолго до всех этих усилий Трампа, а её авторы – не американцы.
В 2018 г. некая группа решила опорочить американского посла на Украине Мари Йованович и добиться её отзыва. В группу входили два натурализованных американских гражданина с украинскими корнями – Лев Парнас и Игорь Фруман, их американский юрист и партнёр Руди Джулиани (он же личный юрист Трампа) и два бывших сотрудника правоохранительных органов Украины – Юрий Луценко и Виктор Шокин. Парнас, Луценко и Шокин передали компрометирующую информацию о Йованович и Байдене – часть позже оказалась ложной – Джулиани и Питу Сешнсу, конгрессмену-республиканцу от Техаса. Джулиани обеспечил освещение в СМИ, которое позже активизировалось при поддержке Трампа и его сына Дональда Трампа – младшего.
Но за этой группой стояли более крупные игроки, определявшие повестку кампании. По данным прокуратуры Нью-Йорка, предъявившей прошлой осенью Парнасу и Фруману обвинения в заговоре и нарушении правил финансирования избирательных кампаний, эти двое, хотя у них было мало собственных средств, жертвовали сотни тысяч долларов комитетам в поддержку кандидатов через подставную фирму при содействии иностранных фондов. У них были и другие планы. По данным Associated Press, в марте 2019 г. Парнас и Фруман предложили Андрею Фаворову, одному из руководителей «Нафтогаза», сделку – импортировать американский сжиженный природный газ. По итогам сделки Фаворов должен был заменить главу компании Андрея Коболева. Парнас и Фруман говорили Фаворову, что Йованович будет сопротивляться сделке, но убеждали, что скоро её отправят домой.
Вряд ли этих двоих можно назвать фрилансерами. Как пишет журналист Кэтрин Белтон в книге «Люди Путина» (Putin’s People), Парнас и Фруман работали на Дмитрия Фирташа, украинского олигарха, который при поддержке Кремля получил контроль над торговлей газом между Туркменией, Россией и Украиной. (Прокуратура Нью-Йорка заявила, что Фирташ выделил Парнасу не менее миллиона долларов). Согласно данным The Washington Post, по предложению Парнаса и Фрумана «Нафтогаз» должен был списать сотни миллионов долларов, которые Фирташ задолжал компании.
Политические цели интриги и вероятное участие Фирташа превращают эту историю из обычной грязной сделки в пример стратегической коррупции. Фирташ – известная фигура на Украине. Многие годы он контролировал торговлю с Украиной для «Газпрома», который, по мнению экономиста и эксперта по России Андерса Ослунда, «стал главным геополитическим инструментом России на постсоветском пространстве и в Восточной Европе». Для России эффективный контроль торговли и транзита газа через Украину – важнейшая национальная цель. Фирташ был человеком «Газпрома» в Киеве. Как отмечает Ослунд, «Фирташ скорее был агентом влияния Кремля, а не бизнесменом».
Фирташ был арестован в Вене в 2014 г., после того как американские федеральные прокуроры обвинили его в попытке подкупа чиновников в Индии. Российский бизнесмен из окружения президента Владимира Путина дал Фирташу 125 млн евро для выхода под залог. С тех пор Фирташ пытается избежать экстрадиции из Австрии с помощью многочисленных американских адвокатов, включая представителей обеих партий. Среди них Джозеф Ди Дженова и Виктория Тонсинг, юристы, тесно связанные с Джулиани. Фирташ говорил, что заплатил за их услуги более миллиона. Адвокаты отрицали, что Фирташ был замешан в дела Парнаса и Фрумана. The Washington Post утверждает, что им удалось договориться о необычной встрече с генпрокурором США Уильямом Барром по поводу экстрадиции Фирташа. (Деньги – не единственное, что получили американские партнёры Фирташа; как утверждает The New York Times, его юристы в Австрии передали Джулиани документы, изобличающие действия Байдена.)
Ди Дженова и Тонсинг появились на Fox News не для того, чтобы объяснить позицию Фирташа, они предупредили миллионы американцев о злом банкире Джордже Соросе, который пытается контролировать политику США на Украине. Сорос, говорили они, манипулирует американскими дипломатами. Адвокаты Фирташа упоминали о фондах, которые финансирует Сорос, чтобы продвигать свои представления об «открытом обществе». Что бы кто ни думал о преференциях Сороса в американской политике, его фонды проделали огромную работу для поддержания прозрачности и верховенства закона в Восточной Европе. Кремль и его друзья старались разрушить результаты этой работы и выбрали Сороса как объект жёсткой, часто антисемитской пропаганды.
Украинский скандал, пишет Белтон, «продемонстрировал одновременно хрупкость американской политической системы и то, как она подрывается изнутри. “Кажется, вся американская политика предлагается на продажу, – говорил бывший российский банкир со связями в органах безопасности. – Как оказалось, всё зависит от денег, а эти [западные] ценности просто лицемерие”».
Создаётся впечатление, что тратя миллионы долларов и предлагая информацию как приманку для Трампа, команда Фирташа пыталась не допустить его экстрадиции, передать контроль над энергетическим сектором Украины более податливому человеку и избавиться от американских чиновников, которые этому мешали. Кроме того, она распространяла теории заговора, которые давно стали основой российской пропаганды. Цели Фирташа были практически идентичны целям Кремля, и это не совпадение. Это повестка, появившаяся отнюдь не в США.
Коррупция с китайскими особенностями
Не только режим Путина использует коррупцию как инструмент для продвижения своих национальных интересов. Пекин ведёт аналогичную игру. Вспомните историю с китайской энергетической компанией CEFC China Energy. Реальный характер деятельности компании и её руководителя Е Цзяньмина остаётся загадкой. Е Цзяньмин занимался инвестициями и налаживал контакты с властями по всему миру, в том числе в Чехии. В 2018 г. эксперт из Праги, следивший за деятельностью Е Цзяньмина, сказал The New York Times: «Уже ясно, что это не просто китайская коммерческая компания, у них есть связи в спецслужбах». Как отмечала CNN, «компания настолько тесно связана с китайским правительством, что иногда их трудно отделить друг от друга».
Ситуация стала ещё загадочнее в 2017 г., когда власти США арестовали высокопоставленного сотрудника CEFC Патрика Хо по обвинению во взяточничестве и отмывании денег. Хо, бывший министр правительства Гонконга, активно пропагандировал инициативу «Пояс и путь», амбициозный инфраструктурный проект, который должен связать Китай с Африкой и Европой сетью автомобильных и железных дорог, а также морских путей, что будет способствовать торговле и экономическому развитию.
Хо полагался не только на ораторское искусство. В 2014 г. он вручил президенту Чада Идрису Деби 2 млн долларов в подарочных коробках. Спустя два года он дал взятку в 500 тысяч долларов президенту Уганды Йовери Мусевени. Взятки должны были открыть китайскому бизнесу путь на нефтяной и газовый рынки этих стран. Хо продвигал не только «Пояс и путь». По данным американских прокуроров, он также занимался незаконной продажей оружия в Ливии и Катаре и предлагал помощь Ирану в выводе из Китая средств, подпавших под санкции.
Через несколько месяцев после ареста Патрика Хо глава CEFC China Energy Е Цзяньмин исчез. По слухам, он задержан в Китае, а компания перешла под контроль государства.
Ещё со времён конфликта с Британской империей китайские лидеры знают, как действовали британцы в XIX веке: мощь империи базировалась не столько на солдатах и оружии, сколько на контроле над портами, каналами, железными дорогами, рудниками, судоходными маршрутами, телеграфными линиями, коммерческими стандартами и биржами. Студенты, изучающие историю Британской империи, лишь покачали головой, услышав что-то знакомое в заявлении министра иностранных дел Джибути Махмуда Али Юсуфа в прошлом году: «Да, наш долг Китаю составляет 71% нашего ВВП, но нам нужна эта инфраструктура». Китай сегодня строит глобальную систему сухопутных и морских маршрутов в соответствии со своими нормами и стандартами сотрудничества, финансируют её китайские банки, а способствуют этому взятки и подкупы, достигшие эпического масштаба.
Эксперты расходятся во мнении о том, представляет ли «Пояс и путь» угрозу для американских интересов. В любом случае нужно понимать, что коррупция лежит в основе этого проекта, который характеризуется отсутствием прозрачности и огромными деньгами, а в результате высокопоставленные чиновники по всему миру оказываются на крючке у Компартии Китая. Инфраструктура трёх континентов связана с авторитарным правительством в Пекине, которое, как известно, занимается сбором персональных данных и подавлением несогласных. Не все местные чиновники воспринимают ситуацию так же беззаботно, как глава МИД Джибути, на некоторых нужно воздействовать по-другому.
Возможно, именно поэтому Китай использует более системный подход к стратегической коррупции в Австралии. В последние годы тема попыток КНР изменить местный политический ландшафт доминирует в австралийских СМИ. Богатые жертвователи со связями в Пекине спонсируют австралийские политические организации и предвыборные кампании, воздействуют на общественное мнение и дают деньги политикам, которые восхваляют Китай. В 2018 г., когда СМИ обнаружили подобные скрытые пожертвования у австралийского сенатора, – который, кстати, консультировал своего китайского спонсора по борьбе со слежкой, – политику пришлось уйти в отставку.
В 2005 г. китайский дипломат Чень Йонлинь, получивший политическое убежище в Австралии, написал, что Китай «предпринимает системные усилия по проникновению в Австралию на структурной основе». Австралийские власти согласны. В прошлом году, уходя с поста генерального директора австралийской разведки, Дункан Льюис публично предупредил о коварных планах Китая. «Не только в политике, но и в общественной жизни, и в бизнесе чувствуется иностранное проникновение, ниточки ведут за океан», – заявил Льюис. Можно сказать, что Австралия столкнулась с той версией стратегической коррупции, которая обеспокоила американцев в 1930-е гг. и вынудила принять FARA. В 2018 г. в Австралии был одобрен закон о прозрачности схем иностранного влияния, который базируется на FARA, но с некоторыми усовершенствованиями.
«Небольшой конфликт интересов»
Не только противники США используют коррупцию как оружие. Турция – пример номинального союзника, который прибегает к аналогичным методам. В прошлом году прокуратура США обвинила второй по величине госбанк Турции Halkbank в организации масштабной схемы для обхода режима международных санкций против Ирана – в исламскую республику ввозилось золото в обмен на нефть и газ. Турецкая сторона утверждала, что у американского суда нет юрисдикции. В итоге Halkbank отказался признать свою вину и ожидает рассмотрения дела в Нью-Йорке. Турция не просто хотела подорвать усилия по изоляции и ослаблению иранского режима, что является одной из целей внешней политики Вашингтона. Анкара стремилась добиться определённого политического результата.
В 2016 г. турецко-иранский бизнесмен Реза Зарраб, замешанный в заговоре, был арестован в США. Существовала вероятность, что он признает вину и расскажет об участии турецких чиновников в своей схеме. Но Джулиани и его давний друг Майкл Мукасей, генпрокурор в администрации Джорджа Буша – младшего, согласились защищать Зарраба и приложили все силы, чтобы его освободить.
Прежде чем разрешить двум юристам представлять интересы Зарраба, судья провёл несколько слушаний, чтобы выявить потенциальный конфликт интересов. Юридическая фирма Джулиани была зарегистрирована как агент Турции, и судья отметил, что он может не получить одобрения, так как дело «возможно, противоречит интересам Турции». В феврале 2017 г. Джулиани и Мукасей отправились в Турцию, чтобы обсудить дело Зарраба с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. По данным The Washington Post, осенью того же года состоялась встреча двух юристов с Трампом, на которой они лоббировали освобождение Зарраба. Предлагалось обменять его на Эндрю Брансона, американского пастора, арестованного турками по ложным обвинениям.
По данным The Washington Post, Трамп согласился, и в Овальный кабинет пригласили госсекретаря Рекса Тиллерсона. Он был удивлён присутствием Джулиани и Мукасея и отказался идти на сделку. Не пошло бы на это и Министерство юстиции. Глава аппарата Белого дома Джон Келли, по слухам, тоже был обеспокоен попытками Джулиани, Мукасея и Трампа вмешаться ход расследования. Обмен не состоялся (Брансон был освобожден в 2018 г.), Зарраб в итоге признал свою вину и дал важные показания, позволившие предъявить обвинения Halkbank.
С тех пор Halkbank и турецкие чиновники пытаются спасти финансовую организацию от многомиллиардного штрафа, который по аналогичному делу был наложен на французский BNP Paribas. Уход Тиллерсона, Келли и других потенциальных противников сделки упростил задачу, помимо Джулиани появились и другие посредники. Зять и советник Трампа Джаред Кушнер стал активно взаимодействовать с родственниками турецких лидеров, в том числе с зятьями Эрдогана. В прошлом году сенатору-республиканцу от Южной Каролины Линдси Грэму позвонил пранкер, представившийся министром обороны Турции. В разговоре Грэм отметил, что Трамп «понимает» озабоченность Турции ситуацией с Halkbank и «хочет помочь».
Неизвестно, что Турция предлагала Трампу по неофициальным каналам. Но в ноябре 2019 г. бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в частной беседе выразил уверенность, что «существуют личные или деловые отношения, определяющие позицию Трампа по Турции». Есть и другие факты в пользу этой точки зрения: Трамп уважительно и мягко относится к Эрдогану, что явно контрастирует с его манерой общения с другими лидерами союзников США – например, с бывшим британским премьером Терезой Мэй или канцлером Германии Ангелой Меркель. В 2012 г. после открытия Trump Towers Istanbul дочь Трампа Иванка в твиттере поблагодарила Эрдогана за участие в церемонии. Как пишет The Washington Examiner, сам Трамп как-то сказал по поводу Турции: «У меня есть небольшой конфликт интересов, потому что у меня большое здание в Стамбуле».
Удивительно, что государственный банк номинального союзника США ослушался Вашингтон и стал помогать Ирану обходить санкции. Но ещё неприятнее тот факт, что когда об этой деятельности стало известно, её участники стали искать и нашли американских посредников, готовых защитить их от наказания со стороны правительства Соединённых Штатов. Речь идёт не просто о плате за услугу. Это плата за политику, это стратегическая коррупция. И пока она приносит успех: Halkbank не заплатил крупных штрафов за нарушение санкций против Ирана.
Предостерегающий пример Лондона
Для США и их союзников стратегическая коррупция представляет три угрозы. Во-первых, это прямая и очевидная угроза неблагоприятных политических исходов. Во-вторых, существует риск, что противники будут использовать коррупцию для наращивания своего глобального влияния, как это делает Китай, развивая «Пояс и путь». Эти действия ведут к постепенному сворачиванию усилий Вашингтона и союзников после окончания холодной войны способствовать процветанию развивающегося мира путём прозрачности, политических реформ и экономической либерализации. В прошлом, следуя этим рекомендациям, страны могли повысить свой статус в западных институтах и присоединиться к сообществу наций. Теперь построенная Пекином система создала глобальную сеть из олигархов, которые обязаны своим положением и благополучием китайским патронам. С ростом влияния китайской системы и расширением её географического охвата происходит разрушение не только перспектив развития затронутых стран, но открытых торговых отношений и сотрудничества в сфере безопасности с другими государствами.
Третья угроза исходит от таких стран, как Китай и Россия, которые используют государственные компании и нелегальные финансовые потоки для прямого проникновения в западные правительства и институты. Канадские банки, британские риелторские фирмы, американские лоббисты и PR-компании сегодня служат интересам авторитарных режимов – осознанно или неосознанно. В США из-за постоянных разоблачений, связанных с иностранным влиянием, граждане стали считать свою политическую систему коррумпированной – американская политика продаётся тому, кто предложит большую цену, даже если это противник.
Конечно, это делается умышленно. Как отмечается в исследовании Центра стратегических и международных исследований 2016 г., «российское влияние сосредоточено на ослаблении внутреннего единства обществ и укреплении представлений о дисфункции западной демократической и экономической системы. Это происходит путём воздействия на институты демократического управления и их подрыва изнутри». Поэтому, как предупреждает эксперт Ларри Даймонд, «масштабная эндемическая коррупция представляет главную внутреннюю угрозу демократии и делает её всё более уязвимой для разрушения внешними силами».
Чтобы помнить о том, что происходит, когда стратегическая коррупция становится бесконтрольной, американцам достаточно взглянуть на Великобританию. Путин считает, что полностью приручил ближайшего стратегического партнёра Вашингтона и может беспрепятственно привозить туда экзотическое оружие для совершения политических убийств. Чтобы максимально расширить себе свободу манёвра, Путин и его окружение используют слабости британской системы. Анонимная регистрация собственности в Соединённом Королевстве позволила российским олигархам скупить Лондон и его финансовый сектор, где они держат свои грязные деньги. Британские законы о клевете отдают предпочтение истцам гораздо чаще, чем это возможно по американским нормам, и российские олигархи безжалостно используют это преимущество, чтобы цензурировать информацию о своих схемах. Так, в 2014 г. издательство Cambridge University Press отказалось от планов опубликовать книгу американского политолога Карен Давиши «Клептократия Путина» (Putin’s Kleptocracy), опасаясь града судебных исков со стороны упомянутых в книге россиян, – которые естественно будут поданы влиятельными британскими юристами.
Как вычистить дом
Растущая угроза стратегической коррупции остаётся незамеченной или недооценённой в Министерстве обороны и Госдепартаменте. Нельзя отдать эту проблему исключительно федеральным прокурорам и надеяться на лучшее, ответ должен сместиться в центр внешней политики и политики национальной безопасности. Для этого потребуется общественная кампания по мониторингу коррупции, усилия законодателей по устранению уязвимостей в правовой и политической системах Соединённых Штатов и отказ от приоритета экономических санкций, которые будут становиться всё менее эффективными, если американские противники могут предложить альтернативные средства поддержки.
Политические шаги, на которые придётся пойти Вашингтону, чтобы не повторить судьбу Лондона, не будут выглядеть эффектно: для них не требуется новейшее точечное оружие или спецназ. Но они жизненно необходимы. Для начала нужно пересмотреть традиционную повестку продвижения прозрачности. Первым шагом федерального правительства и штатов должно стать ужесточение норм для компаний с ограниченной ответственностью: анонимность позволяет им скрывать средства сомнительного происхождения и владение роскошной недвижимостью. В прошлом году Палата представителей приняла закон о корпоративной прозрачности, который, помимо прочего, предусматривает обнародование сведений о бенефициарах зарегистрированных фирм и корпораций. Это шаг в правильном направлении. Конгресс также должен провести новые слушания по FARA и внести необходимые поправки.
США также нужны правовые нормы, затрудняющие подачу безосновательных исков о клевете с целью препятствовать критике. 29 штатов уже приняли подобные законы, но этого недостаточно. Требуется федеральное законодательство.
Борьба со стратегической коррупцией иногда размывает традиционные границы между контрразведкой, правоохранительной системой и дипломатией. Поэтому проблемы могут возникнуть, даже если федеральное правительство находится в руках нормальной президентской администрации и функционирует хорошо. Коррупционные расследования способны перейти пределы и стать политизированными. Но американские спецслужбы и Госдепартамент должны осознавать опасность стратегической коррупции. Защитой от этой угрозы не может заниматься исключительно генпрокурор и Министерство финансов.
Нормальная президентская администрация уже начала бы расследование кампании против Йованович, детально изучив Фирташа и его партнёров и задействовав дополнительные ресурсы помимо ФБР. Но даже не имея инсайда в Белом доме, нетрудно себе представить, как дорого обойдётся подобное расследование тем, кто за него возьмётся. С делом Halkbank возникнут аналогичные проблемы. Могут быть похожие случаи, о которых мы пока не знаем.
Но средства для борьбы с коррупцией существуют, и будущая администрация, возможно, решится применять их честно. Ответственная исполнительная власть может воспользоваться функциями Совета по надзору за конфиденциальностью и гражданскими свободами, который был создан в 2004 г. для защиты от рисков чрезмерно усердных и политизированных расследований. Есть и другие, старые средства, например институт главных инспекторов (которые попали под удар при нынешнем президенте) и расследования Конгресса (если ему удастся вернуть доверие общества, практически утраченное за последние десятилетия).
Опасность стратегической коррупции не должна быть вопросом партийной повестки. Борьба с коррупцией может объединить левых и правых, выступающих за экономическую прозрачность – для защиты потребителей, инвесторов и граждан в целом – и желающих искоренить клановый капитализм. Эти общие ценности объясняют, почему борьба с коррупцией является объединяющей темой для групп гражданского общества всего политического спектра – от Transparency International до инициативы против клептократии Гудзоновского института.
Хотя импичмент Трампа не увенчался успехом, украинский скандал сохраняет определённый потенциал. Вместо поляризации общества и дисфункции органов власти этот скандал, как и другие, может способствовать перезапуску политической повестки. Украинский скандал – не просто тревожный сигнал для нынешнего президента. Это предупреждение о том, насколько уязвимы правительства перед новым политическим оружием – стратегией извлечения преимуществ из свобод для их дискредитации.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs № 4 за 2020 год. © Council on foreign relations, Inc.
В российско-швейцарском исследовании качества национальных элит победил Сингапур
Исследователи оценивали как позитивное, так и негативное влияние элит на развитие и благосостояние стран мира.
Что случилось? Исследователи из швейцарского Университета Санкт-Галлена и Московской школы управления «Сколково» разработали методику измерения качества элит и их влияния на свои страны, сообщается в пресс-релизе «Сколково».
Что это даёт? Новый индикатор – индекс качества элит (ИКЭ) — показывает, как действия элит и их подходы к формированию благосостояния ускоряют или замедляют развитие стран.
ТОП-10:
1.Сингапур
2.Швейцария
3.Германия
4.Великобритания
5.США
6.Австралия
7.Канада
8.Япония
9.Корея
10.Швеция
Как считают исследователи, в Сингапуре, занявшем первую строчку, бизнес-элиты – это ведущие создатели ценности на планете. На втором месте расположилась Швейцария, далее идут Германия, Великобритания и США. Страны БРИКС, за исключением Китая, находятся в третьем десятке списка.
Россия заняла 23-е место из 32 – выше Индии, Бразилии и ЮАР, но на одном уровне с Ботсваной. Для страны характерен значительный разброс показателей: по ряду критериев она попала в первую десятку, по другой части – во вторую. В частности, у неё самые высокие оценки по макроэкономической политике: по уровню инфляции она заняла 1-е место, а по отношению государственного долга к ВВП – 2-е. Высоко оценена налоговая политика, конкурентоспособность банковской системы.
Как считали? По мнению исследователей, представленный индекс отражает степень влияния элит на общество через показатели благосостояния и власти. Для их оценки были разработаны 72 уникальных совокупных индикатора, отражающих не только создание, но и перераспределение и изъятие ценностей. Были выделены 4 ключевых параметра:
-экономическая власть,
-экономическая ценность,
-политическая власть,
-политическая ценность.
Перспективы. Это первое исследование такого рода, в него вошли только 32 страны. Следующий рейтинг планируется опубликовать в январе 2021 года, он охватит уже более 100 стран.
Автор: Ксения Ватник
Цены на жильё в Великобритании поставили новый рекорд
Но эксперты опасаются всплеска безработицы.
Ситуация. По данным Nationwide, цены подскочили в августе на 2,0% по сравнению с июлем, что является самым большим месячным ростом с 2004 года и намного превосходит средний экспертный прогноз в 0,5%, сообщает Reuters. Nationwide сообщила, что цены выросли на 3,7% за год.
Между тем, в Лондоне цены на элитную недвижимость падают.
Причины. По словам главного экономиста Nationwide Роберта Гарднера, изоляция в связи с COVID-19 побудила людей переосмыслить требования к дому, в котором они хотят жить, а также создала сдерживаемый спрос. Покупателей также стимулировал министр финансов Риши Сунак, снизивший налог на покупку дома в июле, поскольку стремился расшевелить экономику, которая сократилась на рекордные 20,4% в период с апреля по июнь.
Подробности:
-Данные, опубликованные Банком Англии, показали, что количество разрешений на ипотечное кредитование неожиданно подскочило в июле.
-По данным Nationwide, средняя цена жилья в августе составила $299 876 по сравнению с чуть менее $226 135 десять лет назад.
Прогнозы. «Большинство прогнозистов ожидают, что в ближайшие кварталы условия на рынке труда значительно ухудшатся в результате последствий пандемии и сворачивания схем государственной поддержки», – сказал Гарднер. – «Если это произойдет, то, вероятно, жилищная активность в ближайшие кварталы снова упадёт».
Кстати, Великобритания оказалась самой популярной страной мира для покупки недвижимости после карантина.
Автор: Виктория Закирова
В США стартовали клинические исследования III фазы экспериментальной вакцины AZD1222, разрабатываемой компанией AstraZeneca для профилактики коронавирусной инфекции. В исследовании примут участие до 30 тысяч человек в возрасте от 18 лет и старше, целью работы является оценка безопасности, эффективности и иммуногенности вакцины.
В исследовании примут участие представители различных расовых, этнических и географических групп, здоровые добровольцы и пациенты с сопутствующей патологией в стадии стабилизации, включая лиц с ВИЧ, и представители групп, подвергающихся повышенному риску заражения SARS-CoV-2. Кроме того, исследование будет проводиться в других центрах за пределами США на основе прогнозируемой скорости передачи вируса, в том числе, в ближайшее время начнется набор добровольцев в Перу и в Чили.
Участники исследования случайным образом получают либо две дозы вакцины AZD1222 с интервалом в четыре недели, либо, в контрольной группе, – 0,9% изотонический раствор, при этом численность группы, которая получит потенциальную вакцину, численно вдвое больше группы контроля. Исследование направлено на оценку эффективности и безопасности вакцины у всех участников, в то время как местные и системные реакции и иммунные ответы будут оцениваться у 3 000 участников.
Клиническая разработка вакцины AZD1222 продолжается по всему миру, клинические исследования поздней стадии в настоящее время проводятся в Великобритании, Бразилии и Южной Африке, а также должны скоро начаться в Японии и России. Эти исследования вместе с клиническими исследованиями III фазы в США будут включать до 50 000 участников по всему миру. Результаты клинических исследований поздней стадии ожидаются к концу этого года, в зависимости от уровня инфицирования в тех регионах, где проводятся исследования.
В июле 2020 года в журнале The Lancet были опубликованы промежуточные результаты продолжающегося исследования I/II фазы COV001, которые показали переносимость вакцины AZD1222, а также развитие стойкого иммунного ответа против вируса SARS-CoV-2 у всех участников исследования.
Чего ждать от рынка нефти?
Рынку нефти угрожают замедление экономического роста, усиление торговой напряженности, глобальные политические риски и рост конкуренции со стороны ВИЭ
Мировой нефтегазовый рынок значительно пострадал от пандемии: начались карантины — производства останавливались, а экономики закрывались. Рынок нефти рухнул и восстанавливался по мере того, как в странах снимались карантинные ограничения и сокращалась добыча нефти от ОПЕК+.
Однако возникла другая проблема: в условиях самоизоляции люди стали меньше ездить и путешествовать — это ограничило спрос на топливо и, соответственно, на нефть.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2020 году инвестиции в активы нефтегазовой индустрии снизились на 30% — до $328,4 млрд. МЭА заявило: сокращение спроса на фоне пандемии оказалось колоссальным. Учитывая, что многие страны еще сохраняют ограничения, спрос на нефть падает. Нефтяные компании сокращают свои инвестиции, чтобы поддержать балансы на фоне падения выручки в текущих обстоятельствах.
Также сокращаются инвестиции в технологический процесс и разведку — из-за этого снижается уровень добычи сырья и качества работы с ним в будущем.
Отсюда обозначается перспектива к естественному снижению предложения углеводородов в будущем.
Например, компании нефтегазового сектора США сталкиваются с крупными проблемами и стремятся погасить свой долг:
Chesapeake Energy Corp пытается добиться защиты от банкротства. Компания заключает соглашение с кредиторами по основной возобновляемой кредитной линии.
Whiting Petroleum Corp со своими кредиторами договаривается о сокращении долга на $2,2 млрд через обмен своих нот на 97% нового капитала.
Denbury Resources Inc прибегает к услугам финансового консультанта Evercore Inc для управления ее долгом на сумму $2,3 млрд.
Новрежская Equinor использует нефтеперерабатывающие заводы для переработки сырой нефти и газа в товары повседневного спроса — бензин, дизельное топливо. После падения цен на нефть Equinor сокращает рабочие места в США, Канаде и Великобритании. Группа планирует сократить количество сотрудников в этих странах примерно на 20% и количество подрядчиков — примерно наполовину, чтобы обеспечить прибыльность при более низких ценах на нефть. Офис Equinor в США — второй по величине после Норвегии.
Что происходит в отрасли на данный момент?
После сокращения тысяч рабочих мест нефтяная промышленность ускоряет внедрение удаленного бурения и гидроразрыва пласта — эти изменения сильно повлияют на штат.
Такие компании, как Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes (три крупнейших в мире поставщика услуг по нефтедобыче), переводят задачи со специалистов-бурильщиков на инженеров, работающих удаленно.
За последние 10 лет рынок стал свидетелем бычьего оптимизма (надежды трейдеров и инвесторов на быстрый рост рынка и акций). Безграничные вложения в годы мировой экономики в $100 за баррель (с 2011 по середину 2014 года), минимум падения цен и продолжительный спад цен на нефть (2014–2017 гг. г.) пророчили небывалый успех. Но неопределенность по-прежнему остается проблемой для производительности и инвестиций.
Динамика цен на нефть марки Brent
На графике стоимости нефти сорта Brent отчетливо видно, что цена на 27 августа находится на уровне минимумов конца 2008 — начала 2009, на линии нижней поддержки. Минимум тогда доходил до $36. Восстановление от диапазона в $40-45 до диапазона в $70-80 в тот период шло около 9 месяцев.
Следующий минимум зафиксировали в начале 2016 года на уровне в $27, тогда линия нижней поддержки сформировалась на $36 (минимуме предыдущего падения — сильное психологическое значение). Через 4 месяца цена дошла до диапазона в $45-55, после был краткосрочный подъем до новых локальных максимумов в $80-85, а затем консолидация в диапазоне $60-70, из которого бумаги выпали в начале 2020 года и достигли нового исторического минимума — $16.
В текущей ситуации цене удалось взять первый уровень сопротивления в $36 и подняться уже до следующего — $44,5-45,5. Сейчас для цены нефти Brent маячит следующий важный уровень — $50.
Чтобы добыча нефти была рентабельна, цены должны вырасти до уровня в $60. Относительно последнего минимума необходим рост до 275%.
После кризиса 2015 года ушло около 2 лет, чтобы цена поднялась до $60. В период после кризиса 2008 года $60 были достигнуты в течение полугода. В обоих случаях — 2008 и 2015 годов роста — цена не смогла вырасти от минимума на 275%, хотя такого сильного падения и тогда не было.
Сейчас нефтяные цены начали расти благодаря снижению запасов нефти в США, сокращению предложения со стороны ОПЕК+ и восстановлению спроса на топливо (по мере того, как страны выходят с карантинов).
Сокращение добычи смягчили с 9,6 млн б/с до 7,7 млн б/с, этому способствовала стабилизация цен на рынке нефти из-за восстановления спроса ОПЕК+.
Динамика запасов нефти в США
Цены на сырую нефть отражают волатильность и ликвидность рынка и показывают, что нефть — эталон глобальной экономической активности.
Рост цен могут поддержать напряженные отношения Ирана и США, особенно накануне выборов президента 3 ноября 2020 года: снова планируется введение санкций против Ирана. Давление со стороны США на Иран и Венесуэлу, как и деградация инвестиций и инфраструктуры в нефтяном секторе последней, сокращают потенциальное предложения нефти на рынке.
Альтернативой их предложению становятся Штаты и Бразилия, которые обеспечивают рост поставок баррелей из сланцевых и глубоководных месторождений и канадских нефтеносных песков.
Препятствия на пути нефтегазовой отрасли
Помешать развитию рынка могут ослабление экономического роста не только в США, но и в Европе, Китае; усиление торговой напряженности, которая может создать неопределенность, замедлить рост и изменить давно установленные цепочки поставок. Повлиять также могут глобальные политические риски, включая избирательный цикл в США, и напряженность на Ближнем Востоке.
Сланец в США продолжает оставаться крупнейшим источником роста добычи — во многих других регионах прекращаются инвестиции. ВВП США снижается: экономика США сократилась на 31,7% в годовом исчислении во втором квартале 2020 года. Экономика Китая, в свою очередь, выросла на 11,5% с учетом сезонных колебаний в квартальном исчислении за три месяца до июня 2020 года. А спрос на нефтепродукты следует за мировой экономикой.
Рост любой ценой, однобокие отношения между операторами и поставщиками, смещение приоритетов в балансировании капитала и денежных потоков (заемные средства, инвестиции и распределение) подорвали доверие инвесторов и привлекательность отрасли.
Фактически осмотрительная стратегия финансового управления, основанная на лидерстве в области эксплуатации и технологий, может стать ключом к сохранению или возврату доверия инвесторов.
И хотя многие компании добились здесь отличных успехов, финансовые рынки все еще сдерживаются, чтобы посмотреть, удастся ли сохранить разумные финансовые показатели.
Альтернативные виды энергии
Одновременно со сложностями нефтегазовой отрасли растет конкуренция в сфере альтернативных видов энергетики.
Впервые в апреле 2019 года возобновляемые источники энергии в США опередили уголь, обеспечив 23% выработки электроэнергии в США по сравнению с 20% угля. В первой половине 2019 года на ветряную и солнечную энергию вместе приходилось примерно 50% от общего объема производства электроэнергии из возобновляемых источников в США. Таким образом, ВИЭ потеснили гидроэнергетику.
В целом стабильный рост нагрузки на электроэнергию в США, быстро снижающиеся затраты на возобновляемые источники энергии и развитие накопителей энергии обостряют конкуренцию между традиционными и возобновляемыми источниками энергии.
В последние годы все больше заинтересованных сторон призывают к повышению роли возобновляемых источников в сегменте производства электроэнергии. Города, штаты, корпорации, частные потребители и сами коммунальные предприятия поставили перед собой цели потреблять, закупать и производить больше возобновляемой энергии.
Следующий год обещает дальнейший рост в секторе альтернативных источников.
Вероятно, это произойдет на фоне роста инноваций и сотрудничества между множеством заинтересованных сторон. Возобновляемые источники энергии будут занимать все более значимое место на рынках электроэнергии.
Обилие ископаемого топлива в сочетании с достижениями в области использования энергии ветра и солнца уже привело к падению цен на энергию во всем мире. Trading Economics прогнозируют снижение цены на нефть до $35.
Иван Щербина, совладелец SharesPro, инвестор
Пятую СПГ-АЗС открыл Shell в Германии
Сеть заправок СПГ расширяет Shell в Германии — новая станция открыта в Кирххайм-унтер-Тек, которая стала пятой станцией СПГ Shell в ФРГ и первой в Баден-Вюртемберге. АЗС расположена на важном междугороднем маршруте из Мюнхена через Штутгарт и Карлсруэ во Францию. Станция, которая может заправлять до 150 грузовиков в сутки, открыта в рамках инициативы Shell по поддержке декарбонизации тяжелого транспорта. Программа Shell по расширению немецкой сети станций СПГ подразумевает открытие до 40 СПГ АЗС к концу 2022 года, уточняет Offshore Energy.
Shell стремится построить полную цепочку поставок CO2-нейтрального СПГ на основе сжиженного биометана. Компания планирует построить завод по сжижению газа мощностью 100 тыс. тонн на нефтеперерабатывающем заводе в Рейнланде.
Следующие станции СПГ в программе строительства Shell находятся в Вайнсберге, Касселе и Штур недалеко от Бремена. Они должны быть запущены осенью.
Нефти предрекли будущее: Россию ждет большой риск и большие доходы
Александр Собко
Прогнозы цен на нефть на ближайшее время сильно разнятся, среди факторов неопределенности — и вторая волна коронавируса. Напротив, для среднесрочных ценовых перспектив (два-четыре года) участники и наблюдатели нефтяного рынка демонстрируют единодушие. К примеру, недавно мы обсуждали прогноз Goldman Sachs, который предполагал, что вследствие текущего недоинвестирования мы в 2020-х еще увидим дефицит на рынке нефти.
Вскоре примерно те же выводы озвучила и компания Total, ожидающая постепенного восстановления цен — от 40 долларов за баррель в 2021 году до 60 долларов в 2023-м. От себя отметим, что, если отталкиваться от текущих котировок, даже такой прогноз выглядит достаточно консервативно.
Казалось бы, что неожиданного и интересного в этих прогнозах? Нефтяной сектор цикличен, падение спроса и цен выражается в снижении инвестиций, что в будущем отразится на предложении и приведет к удорожанию нефти. Однако указанные предположения о будущих ценах интересны потому, что текущий кризис все же отличается от предыдущих.
Во-первых, до сих пор у ряда наблюдателей сохраняется очень дискуссионное мнение, что мы вообще больше не увидим "доковидного" объема потребления нефти — из-за очень долгого восстановления спроса на фоне увеличения доли электромобилей, которые будут отъедать часть рынка. Мнение это, повторимся, достаточно спорное и радикальное, но возврат к норме действительно не будет быстрым, плюс к тому за весну были накоплены значительные запасы нефти и существуют самоограничения ОПЕК+. И если на таком фоне прогнозируется рост цен на нефть, это определяется и тем, что добыча без поддерживающих инвестиций будет падать еще стремительнее.
Второе и главное. Общим местом упомянутых выше (и массы других) прогнозов является тот факт, что этот ценовой всплеск, условно говоря, середины — второй половины 2020-х будет последним. А дальше, после 2030 года, — прохождение "пика нефти" и постепенное затухание цен вследствие снижения спроса.
Но представим, что по этим причинам все компании вдруг отказались от новых инвестиций в нефть. Добыча очень быстро (лет за десять или быстрее) упадет кратно, и что тогда?
Поэтому вопрос не только в том, что спрос на нефть будет стагнировать или снижаться, но также и в том, кто будет обеспечивать этот пусть даже падающий спрос, который в любом случае останется значительным и сопоставимым с текущими объемами. И здесь мы подходим с самому интересному. Некоторые западные (в первую очередь — европейские) нефтегазовые ТНК начинают заметно снижать инвестиции в нефть.
Наверное, наиболее ярким примером здесь стала компания BP. Ее новая стратегия, представленная в августе, предполагает резкое наращивание мощностей ВИЭ — в 20 (!) раз уже к 2030 году, с текущих 2,5 до 50 гигаватт. И главное — снижение добычи нефти и газа к 2040 году на 40 процентов. Не все компании имеют столь же агрессивную стратегию (а компании из США — так вообще пока ориентированы на нефтегаз), но доля инвестиций в ВИЭ у них будет быстро возрастать, а значит, снизятся вложения в традиционную энергетику. Ведь лишних денег при текущих ценах на нефть нет.
Причин такого поведения две. Во-первых, компании опасаются новых масштабных проектов со сроками окупаемости до 20 лет: вдруг к тому времени (а это уже 2040-е годы) эта нефть окажется не нужна. Во-вторых, есть политические причины, связанные с эмиссией углекислого газа и переходом на зеленую энергетику. Европейские компании находятся под повышенным давлением политиков, регуляторов, общественного мнения, инвестиционного и банковского сообщества. По сумме этих причин им все сложнее инвестировать в ископаемые топлива, поэтому мы видим резкий переход в "зелень".
Но если часть добычных компаний сворачивается повышенными темпами, это означает, что образуется дополнительная ниша. При условии, что в отказе от инвестиций есть не только экономическая, но и "избыточная" политическая составляющая. Кем она будет занята? И что в других странах?
Мы видим, что нефтегазовые гиганты из США не спешат переходить к зеленой энергетике. Но последнее время все больше обсуждаются планы демократов (в случае прихода их к власти на президентских выборах) о запрете гидроразрыва пласта (важный этап сланцевой добычи), что приведет к резкому снижению добычи нефти в США. Пока этот сценарий выглядит слишком невероятным — ведь в таком случае добыча сланцевой нефти упадет еще на четыре миллиона баррелей за три года (что при прочих равных условиях приведет и к глобальному подорожанию нефти). Тем не менее сценарии запрета на гидроразрыв рассчитываются уже на уровне самых профессиональных нефтегазовых аналитических агентств.
Но главный интерес — Азия. Здесь, конечно, по принципу "пусть цветут сто цветов", развиваются все виды энергоносителей, но особой озабоченности климатической повесткой не наблюдается.
Российские компании также в минимальной степени снижают обороты. "Роснефть" запускает масштабный проект "Восток Ойл", а "Газпром нефть" по итогам первого полугодия даже нарастила капитальные затраты (но, правда, рассчитывает за счет второго полугодия получить запланированные итоговые цифры сокращения новых вложений на 20 процентов, все же реакция объемов инвестиций на падение нефтяных цен быть должна).
Какой подход окажется более верным? Прогнозы уважаемых организаций разнятся — от постепенного роста спроса после окончания истории с вирусом на традиционном уровне "один процент (или один миллион баррелей в день) ежегодно в ближайшие десять лет" до стагнирования на "доковидном" уровне. Понятно, что одновременно с постепенным отказом от нефтедобычи западные страны синхронно будут и политическими, и экономическими способами внедрять и ускоренную электромобилизацию всего ЕС. С другой стороны, следует помнить, что вообще без инвестиций добыча нефти снижается в среднем на восемь процентов в год.
Подытожим. Возможны два пути. Либо спрос на добываемую нефть будет достаточным (в том числе из-за снижения нефтяной инвестиционной активности некоторых западных ТНК), и тогда российские компании получат преимущество — и за счет цен, и за счет сохранившихся или даже увеличившихся объемов добычи. Либо же он действительно в какой-то момент, скажем, после 2030 года, начнет схлопываться слишком быстрыми темпами. Конечно, у российских компаний существует определенный запас прочности за счет достаточно высокого налогового бремени, который в случае развития в будущем самого негативного сценария может быть снижен. Но для новых проектов, где себестоимость добычи становится все выше, и уровень налоговой нагрузки снижается.
Таким образом, наши компании, конечно, отчасти рискуют, продолжая сохранять высокий уровень инвестиций. Но наградой за этот риск будут вероятные дополнительные доходы на более длительном промежутке времени — и для бюджета, и для самих компаний. В таком случае компании, по сути, отберут эти прибыли у западных коллег, побоявшихся (неважно, рисков или общественного мнения) вкладываться в нефтедобычу.
Одновременно нужно понимать, что в любом случае с каждым последующим годом риски инвестиций в новые добычные нефтяные проекты с длительными сроками окупаемости будут только возрастать, а оттого как минимум требовать все более тщательного анализа.
57 рублей с носа
Платить за проезд в столичной подземке можно будет по FacePay
Текст: Сергей Бабкин
Кошелек и "Тройку" можно забыть, а голову - нет. Это принцип системы FacePay, которую уже несколько месяцев тестируют в московском метро. В пресс-службе департамента транспорта сообщили: система видеоаналитики, необходимая для оплаты проезда "лицом", готова.
Как уже писала "РГ", FacePay основан на базе системы распознавания лиц по камерам. Именно она заработала абсолютно на всех станциях метро с 1 сентября. Сами камеры работали давно, а здесь запущена тотальная аналитическая система, отметили в пресс-службе подземки. То есть камеры способны вычислить в толпе пассажиров человека, фото и данные которого есть в системе. Таким способом в метро ловят преступников, находящихся в федеральном розыске. Теперь же настало время применить его и для пассажирских сервисов.
Собственно сама биометрия и распознавание в сфере услуг для Москвы - не такое уж и ноу-хау. Не так давно "РГ" писала о внедрении такой системы в phygital-офисе "Альфа-Банка" в роборесторане KFC на Бутырской. Там системы видеонаблюдения узнают в лицо клиентов, давших согласие на использование их личных портретов. Но такого, чтобы "платить лицом" - такого, пожалуй, еще не было.
В московской подземке отмечают, что тестируют FacePay пока без участия пассажиров. В тестах задействованы сами камеры и инфраструктура банков-партнеров. Детали, как именно будет происходить процесс, в метро не разглашают: тесты закрытые. Однако суть FacePay уже сейчас можно объяснить на примере аналогичного тестирования, которое в прошлом году проводили на двух автобусных маршрутах в Нур-Султане. Участники испытаний зарегистрировались в Telegram-боте и "привязали" свое фото к счету банковской карты. Далее на входе в автобус лица испытуемых снимали камеры, а потом с карточек списывались деньги за проезд. Соответственно если бы денег на карте не хватало, проезд бы пришлось оплачивать традиционными способами. Впоследствии эту технологию планируется опробовать в Шымкенте и Алматы.
Что касается Москвы, то здесь один из важных этапов тестирования FacePay должен завершиться к 1 октября, подчеркнули в городском дептрансе. Тогда обещают более детально рассказать о тестах системы в метро и их итогах. К слову, современные камеры способны узнать человека, даже если он идет в кепке, медицинской маске и очках. Корреспонденты "РГ" проводили такой эксперимент в phygital-офисе на Маросейке. Биометрия безошибочно опознавала посетителя и информацию о сервисах, которыми он пользуется. А камеры московского метро уже несколько раз вычисляли преступников, находящихся в федеральном розыске, даже в плотном потоке людей в часы пик.
Кстати
Система видеонаблюдения и аналитики способна не только на ловлю преступников и "оплату лицом". Она также умеет отслеживать загрузку поездов и передавать свои данные в городские приложения. В будущем пассажиры смогут с помощью смартфона выбрать вагон, где меньше всего людей или даже есть сидячие места. В других мегаполисах мира видеонаблюдение в метро умеет еще больше. Например, в Великобритании камеры способны определять подозрительные бесхозные предметы. А на одной из линий пекинской подземки самописцы даже вычисляют людей, которые нуждаются в медицинской помощи. Камеры видят пространство над проемами вагонов и безошибочно сигнализируют о людях, упавших в обморок. Этому же планируется "обучить" камеры и в нашем метро.

Лучше меньше, но для всех
Британия нацеливается на короткую неделю
Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
СOVID-19 ударил по экономикам всех стран, безработица увела с рынка труда миллионы рабочих и служащих. Вернулись на службу после длительного карантина отнюдь не все. Исследования британского аналитического Центра Autonomy показывают, что четырехдневная рабочая неделя создаст для трудящихся госсектора до полумиллиона новых рабочих мест и поможет ограничить ожидаемый уже в ближайшие месяцы рост безработицы.
После того как казначейство Соединенного Королевства (министерство финансов. - "РГ") свернет программу финансовой помощи, которую оно доселе оказывало всем трудящимся, ушедшим из-за эпидемии коронавируса на карантин, число незанятых резко подскочит. Исследования Аutonomy выглядят первой попыткой оценить влияние четырехдневной недели на рабочие места. Причем аналитики утверждают: рабочие и служащие госсектора могли бы перейти на 32-часовую рабочую неделю без потери в зарплате. Программа по сокращению рабочей недели может обойтись властям от 5,4 млрд до 9 млрд фунтов стерлингов в год. Для тех, кто занят в частном секторе, схема четырехдневной недели не предусматривается.
Ввести укороченную неделю на Альбионе будет не так-то просто: ожидаемый дефицит бюджета - более 300 миллиардов фунтов стерлингов. Прогнозы гласят, что безработица увеличится за предстоящую зиму. Банк Англии предвидит ее рост от нынешних менее 4 процентов до 7,5 процента к концу года. Исследования сходятся на том, что госсектор экономики должен протестировать идею рабочей 4-дневки, так как такой график может улучшить баланс между работой и личной жизнью: более двух третей рабочих и служащих Британии испытывают постоянный стресс. Кстати, американский президент Теодор Рузвельт в свое время сократил рабочую неделю до сорока часов. Правительство Маргарет Тэтчер сделало то же самое во время рецессии (1979-1982 годы).
Между тем
Многие компании уже провели эксперименты по сокращению рабочей недели. Так, мексиканский миллиардер Карлос Слим на своих предприятиях ввел трехдневную рабочую неделю, правда, при 11-часовом рабочем дне. По его мнению, это позволяет добиться лучшего баланса между работой и отдыхом, существенно улучшить качество жизни и производительность труда. В прошлом году сотрудники японского подразделения компании Microsoft стали участниками эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Новый график понравился всем. Начальство отметило, что производительность выросла на 40 процентов. Кроме того, компания сократила потребление электроэнергии и расход бумаги. Кстати, самая короткая рабочая неделя в мире - в Нидерландах, там трудятся в среднем всего 29 часов, и многие берут себе третий выходной.
Подготовил Юрий Когалов

Бархатный резон
Какие страны готовы принимать россиян и на каких условиях
Текст: Алексей Дуэль, Ирина Невинная
Греция стала еще одной страной, объявившей о готовности принимать туристов из России. Правда, пока только в течение двух недель с 7 по 21 сентября и не более 500 человек в неделю.
Греция готова, но перелеты в страну пока не открыты. "Российских туристов готовы принять уже многие страны, но перевозка по-прежнему доступна в Турцию и Великобританию", - отметила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Правительство Греции уведомило, что для прибытия в страну можно воспользоваться только аэропортами Афин, Салоников и Ираклиона. При себе надо иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19 на английском языке, содержать в себе паспортные данные туриста, а сам тест должен быть сделан не ранее, чем за трое суток до прибытия в Грецию.
"Такую же справку от туристов из России требуют Болгария, Румыния, ОАЭ, Мальта, Швеция, Бельгия, Испания, Албания и Северная Македония, с которыми тоже нет прямого авиасообщения", - рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Говорить о возобновлении турпотока в Грецию пока рано. "Как только Росавиация объявит о такой возможности, мы сможем спланировать перевозку, варианты размещения и начать продавать туры", - говорит генеральный директор туроператора "Пегас Туристик" Анна Подгорная. Росавиация не комментирует вопросы международного воздушного сообщения.
Сейчас есть международные рейсы в европейские столицы, но они для простых туристов бесполезны. "Ими может воспользоваться ограниченное число путешественников, у которых цель поездки лечение, обучение, воссоединение с семьей, похороны близкого родственника... С пересадками наши много куда добираются. На Мальдивах, которые тоже принимают туристов, в том числе наших, в июле отдохнули почти полторы сотни наших сограждан, - указывает Ирина Тюрина. - Но это все очень долго и дорого. Если кто-то очень хочет, поехать на свой страх и риск, конечно, можно. Но это явно не для массового туризма".
Секрет попадания туристов в страны, готовые принять россиян, но с которыми нет прямого воздушного сообщения, прост - в большинстве случаев путь лежит через Стамбул. Билет из Москвы в Стамбул и обратно сейчас можно купить за 28-29 тысяч рублей.
Куда-то оттуда можно улететь напрямую, а куда-то - только с пересадкой. В Нью-Йорк надо будет добираться через Франкфурт (еще 50 тысяч рублей за билет туда-обратно), а на Мальдивы - через Доху (Катар), билет обойдется в 72 тысячи рублей. В каждом случае надо продумывать не только возможность добраться до пункта назначения, но и визовые ограничения: многие страны перестали выдавать визы, но их наличие для въезда по-прежнему требуют.
Однако надо еще и вернуться домой. Туристы должны до регистрации на рейс заполнить форму на портале госуслуг, а на борту самолета - анкету. Вернувшись домой, в течение трех календарных (не рабочих!) дней пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР. Информацию о результатах анализов надо разместить в форме на портале госуслуг , пояснили "РГ" в Роспотребнадзоре. При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия в России необходимо незамедлительно вызвать врача на дом.За нарушения правил грозит штраф 15-40 тысяч рублей.
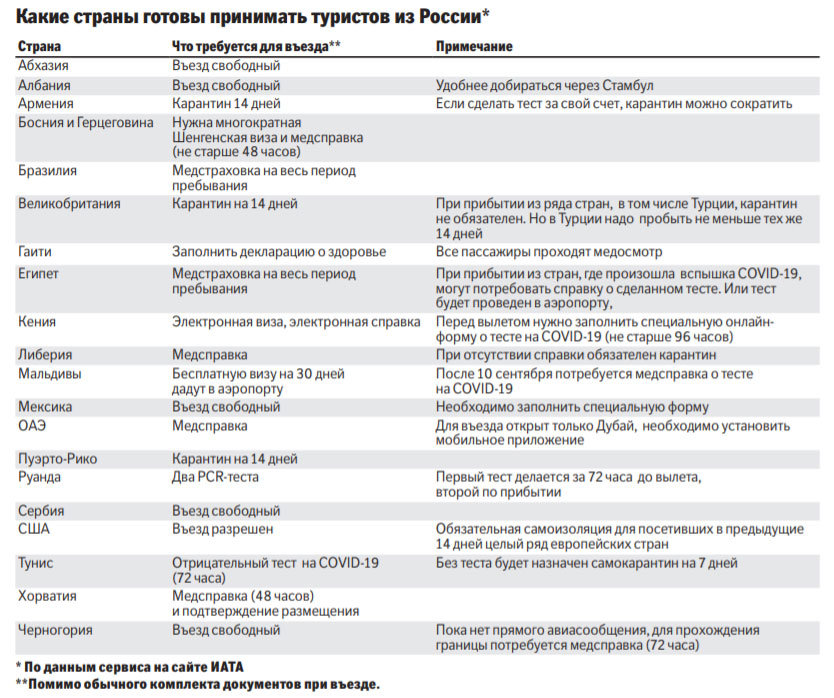

Генерал Деревянко: Капитуляцию принял
75 лет назад завершилась Вторая мировая война
Текст: Александр Емельяненков (Санкт-Петербург - Москва)
Семьдесят пять лет назад, на исходе суток 2 сентября 1945 года, специальный представитель Советского Верховного главнокомандования при ставке командующего союзными войсками на Тихом океане генерал-лейтенант Кузьма Деревянко доложил в Москву: капитуляцию Японии принял.
О том, где и как был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии, в тот же день рассказали спецкоры ТАСС Иван Бочарников и Николай Богданов. Их репортаж с борта американского линкора "Миссури" в канун очередной даты окончания Второй мировой войны воспроизвела "Российская газета" в специальном выпуске "Дыхание Китая".
А накануне российский историк Алексей Исаев по просьбе ТАСС напомнил и уточнил некоторые детали той символической церемонии на борту "Миссури". Он, в частности, рассказывает, что вслед за представителями побежденной стороны, которых принудили выдержать пятиминутный молчаливый взгляд военачальников союзных сил, документ подписал главнокомандующий союзными войсками генерал армии Дуглас Макартур, а затем представители военного командования США, Китая, Великобритании, СССР, Австралии. Когда свои подписи поставили еще четверо военных - от Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии, - обнаружилась неувязка: не на своих строчках расписались.
"Недолго думая, Макартур приказал перечеркнуть названия государств и написать их заново напротив соответствующих подписей", - утверждает историк Алексей Исаев. И между делом замечает, что представитель советского командования такого казуса допустить не мог - генерал-лейтенант Деревянко знал и английский язык, и японский. По словам историка, "он был в большей степени разведчиком и дипломатом, нежели военачальником".
С этим утверждением можно согласиться лишь отчасти. Да, Кузьма Николаевич Деревянко (родился в 1904-м) уже в сорок с небольшим был человеком многоопытным - знал и разведку, и языки, а в первые послевоенные годы много полезного сделал для нашей страны и ее обороны в качестве дипломата и переговорщика. Но в основе всего - его личный боевой опыт как командира и военачальника.
Выходец из бедной семьи на Украине, он в 20 лет окончил школу Красных командиров, командовал взводом, ротой, был командиром штаба стрелкового полка. В 1933-1936 годах учился на Восточном факультете Военной академии РККА, изучал японский и английский языки. С октября 1936-го служил в Разведуправлении РКАА. И еще до начала войны с Германией успел понюхать пороху в Испании. А кроме того, в звании капитана Кузьма Деревянко выполнял секретную операцию по снабжению оружием китайских войск, воевавших с японцами, за что в марте 1938-го получил орден Ленина, который ему вручил в Кремле лично Михаил Калинин.
В годы Великой Отечественной Деревянко был последовательно начальником штаба 53-й и 57-й армий, а с июня 1944-го и до конца боевых действий в Европе - начальник штаба 4-й гвардейской армии. Участвовал в Курской битве, в битве за Днепр. Внес значительный вклад в успешное завершение Корсунь-Шевченковской операции и в разгром противника в Ясско-Кишиневской операции. Участвовал во взятии Будапешта и Вены...
Свою войну Кузьма Деревянко не закончит в Вене. Уже в июне 1945-го его освободят от обязанностей представителя СССР в Союзном совете по Австрии и направят на Дальний Восток - начштаба 35-й армии. Но еще до вступления СССР в войну с Японией опытного боевого генерала с разведывательным прошлым и знанием японского языка назначат представителем Главного командования советских войск на Дальнем Востоке при штабе Верховного командующего союзными войсками на Тихом океане генерала Макартура.
События в этой части мира развивались тогда стремительно. 25 августа из Владивостока генерал-лейтенант Деревянко вылетел на Филиппины - штаб американских вооруженных сил на Тихом океане дислоцировался в Маниле. И уже там 27 августа Деревянко получил из Москвы главный в своей жизни приказ - о подчинении напрямую Ставке Верховного Главнокомандования и полномочиях на подписание от имени Советского Союза Акта о безоговорочной капитуляции Японии.
Тридцатого августа вместе с Макартуром и представителями стран-союзниц Деревянко прибыл в Японию, а 2 сентября 1945 года принял участие в церемонии на борту линкора "Миссури".
Вскоре после этого по поручению руководства страны генерал несколько раз посещал с риском для здоровья города Хиросима и Нагасаки, подвергнутые атомной бомбардировке. Свой детальный отчет вместе с альбомом фотографий он представил сначала в Генштаб, а затем лично Сталину при докладе 5 октября 1945 года.
По словам самого Деревянко, Сталин поинтересовался последствиями взрывов атомных бомб: "К ответу я был готов, поскольку успел посетить пострадавшие города и видел все своими глазами. Передал я Сталину и альбом своих фотографий, на которых были запечатлены разрушения".
Как можно догадаться, фотографиями и общими впечатлениями доклад боевого генерала с большим разведывательным опытом не ограничился. По признанию историков советского Атомного проекта, материалы, полученные той осенью из Японии, сыграли важную роль в ускорении работ над атомной бомбой в Советском Союзе. В 1947 году, еще до первого ядерного испытания в Семипалатинске, генерал-лейтенант Деревянко был награжден вторым орденом Ленина.
До 1950 года он оставался представителем СССР в Союзном совете для Японии с местопребыванием в Токио. Активно отстаивал точку зрения нашей страны в том, что касалось реализации решений Ялтинской конференции о возвращения Советскому Союзу Южного Сахалина и передачи Курильских островов. После перевода в Москву Деревянко стал начальником кафедры вооруженных сил иностранных государств в Военной академии. В последующем служил начальником управления информации в Главном разведуправлении Генштаба. Но служил, увы, недолго: 30 декабря 1954 года, в возрасте 50 лет, генерал-лейтенант Кузьма Деревянко скончался. Как были убеждены его друзья и сослуживцы - от последствий облучения, полученного при работе на местах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Похоронен К.Н. Деревянко на Новодевичьем кладбище в Москве.
В канун 75-летия окончания Второй мировой войны члены Совета ветеранов 4-й гвардейской армии обратились с ходатайством к президенту России и министру обороны РФ о присвоении генерал-лейтенанту К.Н. Деревянко звания Герой России (посмертно).
Только в "РГ"
Второе рождение уникальной книги и судьбы ее героев
Неизвестные подробности о боевом пути советского военачальника, подписавшего от имени СССР Акт о капитуляции Японии, открыли инициаторы уникального издания "От Сталинграда до Вены", воссозданного через 75 лет в Санкт-Петербурге. То, что сделали в петербургском издательстве "ЛЮДОВИК" при участии Петровской академии наук и искусств, воскрешает неожиданное для своего времени произведение полиграфического искусства, увидевшее свет в конце победного 1945-го в освобожденной от нацизма Вене. Историческая и человеческая значимость такого издания определяются, конечно, не размерами и весом печатного фолианта - они внушительные, а тем, что заключено внутри, на его 536 страницах.
- Работа над книгой "От Сталинграда до Вены" началась уже в ходе боев, поэтому все события представлены в ней очень зримо - и в описании конкретных операций, эпизодов, и в рассказах о командирах и рядовых всех родов войск, - рассказывает гендиректор издательства "ЛЮДОВИК" Виктор Радзиевский. - Опубликовано более 600 фотографий, рисунков, схем боевых операций и десять вклеенных плакатов, которые разворачиваются чуть не на метр в длину. И сегодня не проходит удивление, как удалось в 1945-м, задолго до официального разрешения на подведение итогов войны, осуществить столь фундаментальный и неординарный труд.
Подсказкой, по словам Радзиевского, служит имя человека, скромно обозначившего себя вторым в списке редколлегии: Д.Т. Шепилов.
- Да, тот самый, который потом войдет во все учебники истории как "примкнувший к антипартийной группе". Это был яркий и талантливый человек, сугубо гражданский, который начал войну в московском ополчении, хотя имел профессорскую бронь, а закончил генерал-майором, членом Военного Совета 4-й гвардейском армии.
Как человек умный и дипломатичный Шепилов подстраховался, скрыв на титуле номер гвардейской армии и сделав в преамбуле множество оговорок: издание "ни в какой мере не претендует на роль сколько-нибудь целостного и глубокого исследования по истории армии".
- Наше репринтное издание, - заключает Виктор Радзиевский, - не могло бы состояться без человека, о котором следует сказать особо. Это Валерий Александрович Брунцев. По профессии он инженер-строитель, лауреат Государственной премии СССР, но хорошо известен в Петербурге своими гуманитарными инициативами. Брунцев входит в Совет ветеранов 4-й гвардейской армии, где служил его отец гвардии майор А.И. Брунцев. Он погиб в бою у венгерского поселка Бичке. Так что для Валерия Александровича воссоздание такой книги - дело во многом личное. Его страстная убежденность в том, что книгу эту следует повторить, чтобы она через 75 лет получила ту судьбу, которую заслуживает, создала вокруг него круг единомышленников.
Валерий Брунцев, член Совета ветеранов 4-й гвардейской армии:
- Мне хотелось как можно скорее прикоснуться к книге "От Сталинграда до Вены", о которой говорил воевавший вместе с отцом Илья Иванович Маркин. Он, оказывается, был одним из ее авторов: изготовил прекрасные цветные карты-схемы боевых действий 4-й гвардейской армии. Мое первое впечатление от этого издания не поддается описанию. Я увидел могучий фолиант! Маркин рассказал, что книгу "От Сталинграда до Вены" вручили командному составу и многим награжденным воинам армии.
Когда руководитель этого проекта генерал Шепилов доставил первые двадцать экземпляров книги в Москву, руководству Генштаба и Министерства обороны, один из руководителей упрекнул его в нескромности: "Ваша армия не брала Берлин, как же вы позволили себе выпустить такую роскошную книгу?" Ответ был коротким и мудрым: "Те, что брали Берлин, должны сделать книгу еще лучше".

Цифровой датчик для сцепки
Технология представлена немецкой железнодорожной компанией Deutsche Bahn (DB)
Австрия, Франция, Италия, Германия и Швейцария 1 сентября начали проведение тестовых испытаний технологии цифровой сцепки вагонов. В течение трёх месяцев поезд, оборудованный новым механизмом, будет курсировать по всем странам, принимающим участие в эксперименте. Цель теста – проверить прочность и технологичность механизма для дальнейшего внедрения его по всей Европе.
«Множество стран изъявили интерес к разработке технологии. Для того чтобы успешно использовать механизм сцепки для перевозок по всей Европе, странам нужно прийти к единому решению при выборе системы и её производителя, именно поэтому представителями пяти европейских стран принято решение о проведении интернациональных испытаний. Во время апробации каждая из стран-участниц сможет проверить технологию не только на работу механизма, но и на прочность на манёвренных магистралях сети», – рассказал руководитель DB Cargo (дочернее подразделение компании DB, отвечающее за грузовые перевозки) Сигрид Никутта.
По словам руководителя отдела цифровизации компании DB Сабины Йешке, механизм управления новой технологией сцепки очень прост: машинисту поезда достаточно нажать кнопку на панели управления, после чего система будет активирована и начнётся сцепление вагонов; для того чтобы произвести отцепку, нужно повторно нажать на ту же клавишу.
«Технология фиксируется двойным креплением, что позволяет ей иметь преимущество не только во времени и дополнительных физических затратах, но и в прочности фиксации», – добавила Никутта.
«Детали для сборки тестовых устройств представили четыре компании. Из этих деталей специалисты предприятия DB Systemtechnik (дочерняя компания Deutsche Bahn. – Ред.) изготовили механизмы для цифровой сцепки вагонов. Технология интегрирована в 12 пар вагонов. Поезд с новейшей технологией сцепки в течение трёх месяцев будет курсировать по всей Европе. В каждой стране представитель железных дорог сможет лично опробовать нашу технологию и направить нам свои отзывы. Во время такого путешествия мы хотим не только выбрать поставщика деталей для всех стран, но и ознакомиться со всеми пожеланиями участников эксперимента, ведь речь идёт о технологии европейского уровня», – пояснил руководитель DB Cargo.
О компаниях, поставивших детали для сборки, в DB не сообщают, ссылаясь на коммерческую тайну.
Исследовательский проект по внедрению системы цифровой сцепки запланирован до 2022 года (в это время механизм будет дорабатываться с учётом пожеланий стран-участниц). Финансирование для реализации технологии и её испытаний в размере 13 млн евро предоставляет Министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии и Европейский союз.
Справка «Гудка»
DB Systemtechnik – немецкая инжиниринговая компания, специализируется на разработке, изготовлении и тестировании железнодорожных технологий. Для проведения испытаний организация располагает собственными транспортными единицами и полигонами. Представительства компании расположены во Франции и Великобритании.
Анастасия Баранец
Преступление против цивилизации
подоплека атомных бомбардировок Японии
Фёдор Шиманский
Ровно 75 лет назад в акватории Токийского залива на борту американского линкора "Миссури" был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японской империи. Это событие традиционно считается окончанием Второй мировой войны, хотя окончательное послевоенное устройство мира было де-факто установлено по итогам гражданской войны в Китае (провозглашение Китайской Народной Республики 1 октября 1949 года), Корейской войны 1950-1953 гг., а де-юре — только 25 октября 1971 года, когда право представительства в ООН, включая место постоянного члена Совета Безопасности, перешло от Республики Китай к Китайской Народной Республике.
Тем не менее, последняя из стран "Оси", которая находилась в состоянии войны с Объединёнными Нациями, сложила оружие 2 сентября 1945 года. И если ведущую роль Советского Союза и его Красной Армии в разгроме нацистской Германии отрицать невозможно, то в капитуляции Японской империи признание аналогичной заслуги закрепилось за США, причём особую роль в этом приписывают применению ядерного оружия: 6 августа бомбардировке подвергся город Хиросима, а 9 августа — Нагасаки. 8 августа войну Японии объявил СССР, и на следующий день началось наступление в Маньчжурии, которое завершилось разгромом почти миллионной Квантунской армии и захватом важнейшего стратегического района, без которого сопротивление Страны восходящего солнца становилось уже абсолютно безнадёжным.
Собственно, для решения этой задачи американские союзники и были заинтересованы в советской помощи против Японии, не поддержав планы Черчилля начать войну против "сталинского режима" ещё весной-летом 1945 года. Поэтому вопрос о том, насколько оправданны, с точки зрения военной целесообразности, были бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а насколько они были предприняты с целью политического давления на Советский Союз и являются сознательным массовым убийством гражданского населения, остаётся открытым. Но в любом случае ответственность Японской империи за развязывание Второй мировой войны и за совершённые в её ходе военные преступления: будь то "Нанкинская резня" или деятельность "Отряда 731", — никакому сомнению не подлежит.
Однако всё это не подразумевает коллективной ответственности японского народа за действия правившей им милитаристской клики. Как говорил И.В.Сталин о Германии, "гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остаётся". То же самое справедливо и в отношении японского народа, создавшего самобытную культуру мирового уровня, а также сумевшего войти в число самых развитых и передовых стран современного мира. Наша страна, несмотря на длительную череду военных конфликтов с Японией в первой половине ХХ века, всегда выражала готовность к развитию равноправных и взаимовыгодных отношений с этой страной, но не за счёт сдачи своих национальных интересов.
Отсутствие мирного договора между Японией и Российской Федерацией как правопродолжательницей СССР, а также связанные с данным обстоятельством претензии официального Токио на Южные Курильские острова (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), которые в Стране восходящего солнца называют и считают "северными территориями", можно считать "долгим эхом" Второй мировой войны — эхом, в сохранении и усилении которого в равной степени заинтересованы как США, так и зависимые от них японские "элиты".
"Когда ты имеешь дело со зверем, ты должен относиться к нему, как к зверю".
Президент США Гарри Трумэн, 11 августа 1945 года, — в ответ на телеграмму священника, призвавшего остановить атомные бомбардировки.
17 июля 1944 года Associated Press сообщила, что японский посол в Ватикане Кэн Харада рассказал Папе Римскому о готовности Японии к заключению мира при условии признания права Японии на национальную жизнь и экономику. До первой атомной бомбардировки оставалось чуть более года.
Американцы идут воевать
8 декабря 1941 года президент США Франклин Рузвельт выступал в Конгрессе. От лица всего народа он заявил, что день налёта японской авиации на Перл-Харбор — "день, навсегда отмеченный позором". В начале речи Рузвельт попытался полностью снять ответственность за начало войны с США и обвинить во всём Японию. Он рассказал, что "нападение на Гавайские острова нанесло жестокий урон американским военно-морским и вооружённым силам", и что "было потеряно много американских жизней". В конце своей речи он назвал японские действия "подлым нападением" и потребовал объявить Японии войну.
На следующий день на американцев начали изливаться потоки военной пропаганды, которые с того момента только усиливались. Американским гражданам необходимо было объяснить, с кем и почему они теперь сражаются. Ответы оказались простыми: на США напала армия нелюдей. Японцев даже не называли японцами, а именовали "япошками" (Japs).
В первую очередь, начали эксплуатировать расистские предубеждения. Уже 22 декабря 1941 года журнал Life выпустил материал, который должен был помочь читателям "отличить япошку от китайца" и направить свой гнев в нужном направлении. В дальнейшем будут выпускаться и другие подобные инструкции.
На плакатах японцев изображали незамысловато: узкие глаза, жёлтая кожа, выступающая вперёд верхняя челюсть с огромными зубами. Обычно они также имели гигантские очки с круглыми линзами и растительность на лице. Иногда японцев также рисовали в виде животных — крыс. Множество плакатов показывало японцев в виде насильников. Изображение жёлтого монстра рядом с белой женщиной должно было ужаснуть американца.
Антияпонские настроения американцев, усиленные пропагандой, привели к тому, что около 120 тысяч американцев японского происхождения, проживавших на западном побережье США, были насильственно перемещены в концлагеря. Большинство из них были рождены в США и имели американское гражданство. Многие считали себя американцами, но для попадания в концлагерь было достаточно иметь хотя бы "1/16 часть японской крови".
Производились и пропагандистские мультфильмы. Хотя в них использовался тот же стереотипный образ японца, что и на плакатах, движущиеся картинки делали японцев не ужасающими, а смешными. Все японские персонажи говорили либо на "японском", звучащем как тарабарщина, либо на "ангрийском": актёры специально изображали тяжёлый акцент, говорили невнятно и быстро, заменяя все звуки "л" на звук "р". На войну с нарисованными японцами отправились Багз Банни и Дональд Дак.
Пропагандистские фильмы делали упор на "ужасающих зверствах" японских солдат. Так как настоящих кадров зверств было крайне мало, то режиссёры создавали "зверства" собственными руками. Постановочные кадры просто выдавались за документальные.
Окружённый пропагандой американский солдат (а он видел её больше, чем обычный американец) был просто уверен, что идёт воевать со зверями, которые носят младенцев на штыках, хотя он никогда не видел ни "зверей", ни "штыков". Как он мог относиться к японцам, когда его прямо призывали: "Убей япошек, убей япошек, а потом убей ещё больше япошек! Так говорит Адмирал Холси!". Историк Нил Фергюссон считает, что они "рассматривали японцев так же, как немцы рассматривали русских — как унтерменшей".
Над сдавшимися в плен японцами издевались, но чаще их просто убивали, сообщая потом, что пленных нет. Людей добивали, сжигали огнемётами. С мёртвых собирали трофеи: уши и зубы, отрубленные руки и головы. Конечности варили, пока с них не слезет мясо, а кости использовали в качестве сувениров. Один из подобных "трофеев" был показан в журнале Life от 22 мая 1944 года. Подпись под фото гласила: "Труженица тыла из Аризоны пишет письмо с благодарностью своему бойфренду за череп япошки, который он ей прислал".
Люди, опьянённые пропагандой, были готовы убивать "жёлтых ублюдков". Но пропаганда готовила их к большему — применению против Японии оружия массового поражения. В газетах выходили статьи с заголовками "мы должны использовать газы против Японии". Последняя такая статья вышла в августовском(!) номере журнала Popular Science Monthly за 1945 год. На обложке красовалась надпись "Должны ли мы использовать газ против япошек? ДА!" Проводились опросы общественного мнения, в которых людям задавали тот же вопрос. К концу войны всё больше людей склонялись к положительному ответу.
Американцы не ратифицировали Женевский протокол, потому что не видели в химическом оружии ничего плохого. И были готовы применить его, оправдывая это тем, что оно поможет "сохранить жизни американцев". Но на первых порах не была готова необходимая для этого инфраструктура, да и общество относилось к такой идее отрицательно. Когда же появилась возможность использовать химическое оружие, оно уже оказалось ненужным. Было создано оружие гораздо более смертоносное — атомная бомба.
Оружие невероятной разрушительной мощи
Работы над созданием атомной бомбы проводились в условиях строжайшей секретности. Даже Гарри Трумэн, занимая пост вице-президента, ничего об этом не знал. После смерти Рузвельта 12 апреля 1945 года, Трумэн стал президентом. В этот же день к Трумэну пришёл военный министр Генри Стимсон, который сообщил, что США ведут работы по созданию "оружия невероятной разрушительной мощи". Подробности Стимсон обещал рассказать потом.
На следующий день к Трумэну пришёл Джеймс Бирнс — старый друг Бернарда Баруха, бывший советником у Рузвельта. Он и рассказал Трумэну об атомной бомбе, добавив при этом, что она сможет позволить США "диктовать свои условия в конце войны". В дальнейшем Бирнс станет главным сторонником использования атомного оружия для устрашения Советского Союза.
В наследство от Рузвельта Трумэну досталась атомная бомба и решение использовать её против Японии. Но в середине апреля ещё не было чёткого понимания, как это должно произойти. 27 апреля 1945 была создана группа, известная как "Комитет по целям". Ей предстояло выработать военные рекомендации по применению атомной бомбы, в частности выбрать подходящие цели для бомбардировки.
В то время рассматривались различные варианты:
— использовать как тактическое оружие для поддержки вторжения в Японию;
— использовать в качестве демонстрации перед наблюдателями;
— использовать в качестве демонстрации против военной цели;
— использовать против военной цели;
— использовать против города с предупреждением;
— использовать против города без предупреждения.
По результатам второго заседания комитета по целям, которое проходило 10-11 мая, целями атомной бомбардировки были выбраны четыре "лучшие цели" для бомбардировки: города Киото, Хиросима, Иокагама, Кокура.
Одним из аспектов при выборе цели было то, что она ещё не была разбомблена и, скорее всего, не могла быть разбомблена до августа 1945 года. Это было очень важно, потому что практически лишённую ПВО Японию американцы постоянно бомбили. Состоявшийся в ночь с 9 на 10 марта налёт на Токио с применением зажигательных снарядов сжёг значительную часть японской столицы. Погибло более 100 тысяч человек. Налёт на Токио 24 мая был назван рекордным, на город в тот день сбросили 4500 тонн бомб.
Чтобы выбранные для атомной бомбы цели не были уничтожены раньше, чем бомба будет готова, бомбить некоторые из них было прямо запрещено. Люди, жившие в этих городах, удивлялись, почему соседние города планомерно уничтожаются налётами авиации, а их даже не атакуют. Они выдвигали различные предположения. В Нагасаки находилась крупнейшая община христиан в Японии, и многие жители думали, что по этой причине американцы-христиане их пощадят. В Хиросиме тоже жило много христиан, но города это не спасло.
Также Комитет при выборе целей считал важным психологический эффект от атомной бомбы. По его мнению, она должна была оказать "наибольший психологический эффект на Японию" и быть "достаточно впечатляющей, чтобы важность оружия была признана во всём мире". Здесь явно прослеживается желание запугать Советский Союз новым чудо-оружием.
9 мая был создан Временный комитет, который тоже занимался вопросами применения бомбы. Однако, в отличие от Комитета по целям, состоявшего из военных и учёных, Временный комитет состоял из чиновников. Стимсон стал его председателем, а Бирнс представлял президента, что делало его самым влиятельным членом комитета.
Стимсон хотел "пощадить Киото" и добивался его исключения из списка целей. Он говорил, что уничтожение красот древней столицы Японии станет актом варварства, подобным гитлеровским. Однако, у него были и другие основания быть против бомбардировки Киото. Стимсон считал, что такой неразумный поступок настроит японцев против американцев, а американцам крайне необходимо, чтобы японцы примирились с ними, нежели с русскими. В итоге Киото из списка целей убрали.
Бирнс же настоял на том, что "бомба должна быть использована против Японии как можно скорее", и применена она должна быть против "военного завода, окружённого домами рабочих, без предварительного предупреждения". Нетрудно увидеть за столь странной формулировкой самый худший из вариантов — бомбу планировались использовать против города. Именно этот вариант и был рекомендован комитетом на заседании 1 июня. А ведь бомба могла вообще не быть использована, если бы Трумэн не требовал от Японии безоговорочной капитуляции.
Япония ищет выход
Весной 1945 года положение Японии стало совсем плачевным. Японцы активизировали попытки выйти из войны, но сохранить страну.
К тому времени на Земле осталось не так много государств, которые бы сохраняли нейтралитет или были бы дружественны одновременно и Японии, и США. Японцы пытались найти посредника в переговорах в лице Ватикана, Швеции, Швейцарии и даже СССР. Ватикан тогда уже полностью переметнулся к американцам и предложить мог только капитуляцию. Поддержкой правительства Швеции японцы попытались заручиться ещё в марте, но никакого развития эта попытка не получила.
Советский же Союз ещё на Ялтинской конференции, состоявшейся в феврале 1945 года, взял на себя обязательство вступить в войну против Японии на стороне союзных держав. Японцы догадывались об этом. 5 апреля 1945 года Вячеслав Молотов, нарком иностранных дел, сообщил послу Японии Наотакэ Сато о денонсации пакта о нейтралитете, заключённого ещё в 1941 году сроком на 5 лет. Сато спросил, не означает ли денонсация, что пакт перестал действовать. Молотов ответил, что "срок пакта не окончился". Японцы интерпретировали это, как заявление о том, что пакт продолжает действовать ещё год, и в итоге решили сделать ставку на СССР.
Практически одновременно с денонсацией пакта, а, может быть, и благодаря ей, 7 апреля 1945 года премьер-министром Японии стал Кантаро Судзуки. Главной целью нового правительства было достижение мира. С 8 июня начались заседания Высшего совета по управлению войной, посвящённые вопросу прекращения войны. 20 июня император Хирохито, поддержанный премьером, министром иностранных дел и министром флота, высказался за мир. А 10 июля император снова призвал поспешить с заключением мира при посредничестве Советского Союза.
7 июля 1945 года Трумэн отправился в Потсдам. На предстоящей конференции должны были обсуждаться вопросы послевоенного устройства мира, включая судьбу Японии.
Трумэн не хотел встречаться со Сталиным раньше, чем атомная бомба будет испытана. Потсдамская конференция началась 17 июля, а за день до этого в пустыне Хорната дель Муэрто было успешно взорвано первое ядерное устройство. На конференции Сталин подтвердил решение вступить в войну с Японией, однако ему было нужно открытое заявление союзников, которое Трумэн сделать не захотел.
12 июля США перехватили и расшифровали японское дипломатическое сообщение о прекращении войны. И Трумэн, и Стимсон, и Бирнс знали о нём. Стимсон, отличавшийся реалистичным подходом к ситуации, попытался при помощи этого сообщения убедить Трумэна вписать гарантии для императора в текст предстоящего ультиматума Японии. Также предлагалось вписать в текст Потсдамской декларации упоминание о вступлении СССР в войну против Японии.
Бирнс, которого Трумэн к тому моменту сделал госсекретарём, считал, что императорская система должна быть уничтожена, а Советский Союз является врагом мира. Имевший огромное влияние на президента, он не позволил вписать в Потсдамскую декларацию предлагаемые пункты.
26 июля была опубликована Потсдамская декларация — ультиматум от имени Черчилля, Трумэна и Чан Кай-ши, требующий от японцев безоговорочной капитуляции. Советский Союз от её написания был отстранён. Никакого упоминания Советского Союза и гарантий для императора в ней не содержалось. Япония решила оставить без внимания ультиматум и продолжать переговоры с Советским Союзом. Принятые Трумэном политические решения, продиктованные всё тем же Бирнсом, затягивали войну. И они знали, что это произойдёт. Приказ о сбросе двух бомб был отдан ещё 25 июля.
6 августа на Хиросиму была сброшена урановая бомба "Малыш". Японцы всё ещё пытались договориться с СССР, но вечером 8 августа СССР объявил войну Японии (боевые действия начинались всего через несколько часов). Возможностей использовать СССР для посредничества больше не осталось. 9 августа плутониевая бомба "Толстяк" была сброшена на Нагасаки, а Трумэн, выступая с речью перед народом, объявил, что "первая атомная бомба была сброшена на Хиросиму — военную базу".
Кстати, 8 августа произошло ещё одно важное событие. Был опубликован устав Нюрнбергского процесса, в котором были определены военные преступления и преступления против человечности. Одним из деяний, объявленных преступными, стало "бессмысленное разрушение городов или деревень". Насколько лицемерным нужно быть, чтобы сначала совершить действие, через два дня осудить (американцы принимали непосредственное участие в написании Устава) подобное действие, а на следующий день совершить его вновь!..
Утром 9 августа премьер-министр Судзуки и император Хирохито решают принять условия Потсдамской декларации. Однако на заседании Военного совета в ночь с 9 на 10 августа голоса членов разделились поровну. Императору пришлось явно подтвердить своё желание принять условия Потсдамской декларации.
10 августа Япония послала телеграмму США, что она готова сдаться при условии сохранения императорской системы. В тот же день Гарри Трумэн обсуждал вопрос о применении третьей атомной бомбы против Японии, которая могла быть сброшена на Японию уже 19 августа. Но Трумэн вдруг объявил, что ему не нравится идея убить ещё 100 тысяч человек и всех "этих детишек", и отдал приказ о прекращении сброса атомных бомб. Отсюда становится ясно, что он вполне осознавал, чем является атомная бомба и против кого она была применена. Только не совсем понятно, насколько Трумэн был искренним, потому что 14 августа в беседе с британским министром Джоном Бальфуром он сказал, что "у него нет альтернативы, кроме как отдать приказ о сбросе атомной бомбы на Токио".
Продолжалась бы война ещё неделю, атомной бомбардировке подвергся бы ещё один город. Но 14 августа император потребовал у Совета принять условия Потсдамской декларации, и Совет удовлетворил его просьбу. 15 августа по радио было объявлено о капитуляции Японии. 28 августа в Японию прибыли первые силы Союзников. 2 сентября представителями Японии на борту USS Миссури был подписан акт о капитуляции. Оккупация началась.
Рождение мифа
После бомбардировки Хиросимы Токийская радиостанция передавала сообщения о том, что на самом деле произошло. Она рассказывали о городе, заваленном трупами, настолько изуродованными, что невозможно было отличить мужчин от женщин.
Но американцы отрицали эти сообщения, называя их японской пропагандой. Они высмеивали их. Карикатура, опубликованная в американских газетах, изображала стоящего посреди руин Хиросимы обезьяноподобного японца, называющего американцев нелюдями. Она была подписана: "Посмотрите, кто говорит".
10 августа через Швейцарию, оставшуюся для японцев последним окном в мир, был выражен протест Соединённым Штатам в связи с использованием бомбы нового типа. Грамотно составленный японцами документ обвинял американцев в нарушении законов и обычаев ведения войны. Японцы писали, что и проводимые до этого американцами бомбардировки стариков, женщин и детей являлись пренебрежением основными принципами международного права и человечности, однако использование атомной бомбы превзошло по жестокости всё, что было до этого, и является преступлением против цивилизации. Кончался текст призывом немедленно прекратить использование бесчеловечного оружия.
Американцы не только проигнорировали протест — само его существование скрывалось. О его существовании до сих пор мало известно широким массам, и, как вспоминал один из судей Токийского процесса Б.В.А.Рёлинг, даже им не было о нём известно.
Открыл глаза американцам на произошедшее с "военной базой" журналист Джон Херси, который отправился в Хиросиму в мае 1946 года. Сделанные им четыре репортажа, состоящие из свидетельств очевидцев, были опубликованы в августовском номере журнала The New Yorker. Его содержание повергло отрезвевших от военной пропаганды американцев в шок. В народе нарастало недовольство.
Тогда-то, в феврале 1947-го, оправдать использование атомной бомбы решился сам Стимсон. В своей статье для Harper Magazine он описал всё то, что впоследствии стало использоваться американской историографией для объяснения причин удара по Хиросиме и Нагасаки. Главный аргумент — уничтожение городов ускорило наступление мира. Но как отметил ещё один судья Токийского процесса Радхабинод Пал: логикой "убьём побольше людей, чтобы война скорее закончилась", руководствовался ещё Вильгельм II, и за это его собирались судить на (несостоявшемся) трибунале. Это военное преступление, как оно есть.
Колокола Нагасаки
Действия, проводимые оккупантами в Японии намного превосходили по масштабу пресловутую "денацификацию", которая проводилась в Германии. Более того, оккупация сама напоминала действия нацистов своими условиями.
Когда 18 сентября Итиро Хатояма, который в будущем станет премьер-министром Японии, опубликовал в газете "Асахи" статью с критикой атомной бомбардировки и назвал её военным преступлением, газету наказали запретом печатать что-либо на два дня. Со следующего дня в стране вводилась жёсткая цензура, основанная на полном контроле за СМИ. Упоминания атомной бомбардировки и критика американцев были запрещены. Многие старые книги изымались и сжигались. Даже традиционный театр Японии оказался под запретом.
Один японец — Такаси Нагаи, переживший бомбардировку Нагасаки, решил описать свой опыт в книге. Он назвал её "Колокола Нагасаки" в честь колоколов католического собора Ураками, на который пришёлся эпицентр взрыва атомной бомбы.
Когда он захотел опубликовать свою книгу, цензура оккупантов запретила ему это. Правда, потом она разрешила её издать, но только с добавлением туда глав про "зверства" японцев на Филиппинах. То, что для оправдания атомной бомбардировки был использован такой ход, говорит о том, что даже сами американцы расценивали этот акт как зверство…
Восстановление спроса на нефть и газ не снизит волатильность цен — прогноз Moody’s
Цены на нефть и газ еще долго будут оставаться в зоне волатильности из-за неясных перспектив восстановления спроса
Под воздействием коронавируса в мировом энергетическом секторе прослеживаются два тренда — замедление темпов роста и консолидация, утверждается в опубликованном на днях среднесрочном прогнозе международного рейтингового агентства Moody’s. Авторы прогноза констатируют, что цены на нефть и газ еще долго будут оставаться в зоне волатильности из-за неясных перспектив восстановления спроса, которые испытывают дополнительное давление в связи с планами крупнейших нефтегазовых компаний наращивать инвестиции в декарбонизацию.
Основные тезисы доклада
Крупномасштабное обрушение рынка в связи с пандемией нарушит долгосрочные модели энергопотребления на развитых рынках и повысит волатильность цен на нефть и газ. Неравномерное растянутое во времени восстановление будет зависеть от постепенного повышения спроса по мере наращивания экономической активности на ключевых рынках потребления энергоносителей, таких как Китай, Юго-Восточная Азия и США.
Пандемия усиливает давление на крупные интегрированные нефтяные и газовые компании: им приходится корректировать свои продуктовые матрицы и сокращать угольный след. Эти компании будут искать новые возможности для увеличения операций с пониженной углеродной интенсивностью и удвоят усилия по сокращению предельных издержек производства. Доходы национальных нефтяных компаний будут постепенно восстанавливаться в течение следующих двух-трех лет, однако масштаб и скорость восстановления будут зависеть от того, как быстро возобновится нормальная экономическая активность, а также от того, какие меры по преодолению последствий пандемии будут предпринимать правительства из стран.
Масштабное падение нефтяных цен, отчасти вызванное пандемией, будет сглаживать неравновесие между более сильными и более слабыми разведочными и добывающими компаниями (E&P). Хорошо капитализированные компании этого сегмента, а также нефтяные мейджоры будут консолидировать американские сланцевые активы, а множество закредитованных E&P-компаний будут существенно сокращать свою деятельность в условиях падающей поддержки банков и инвесторов, поскольку продолжительный спад рынка еще больше лишает стимулов долговое инвестирование в этом сегменте.
Низкие цены на горючее не будут стимулировать спрос на нефтепродукты, поскольку на рынке сохраняется избыток нефти. Восстановление спроса на горючее будет зависеть от темпов роста экономики и потенциала отдельных рынков в части потребления нефтепродуктов. Маржа нефтепереработки будет повышаться вместе со спросом в 2021 году, однако, вероятно, останется ниже уровня, характерного для середины экономического цикла.
Сокращение объемов нефти и газа создаст переломный момент для денежного потока в переработке, поскольку потребители сырья снижают капитальные затраты и обновляют или пересматривают свои контракты. Растущее пристальное внимание со стороны регуляторных органов усложнит получение общественного одобрения на строительство межгосударственных трубопроводов и реализацию других крупных проектов, замедлит инвестиции — компаниям придется все больше рассчитывать на самостоятельное финансирование, поскольку доступ к капиталу усложнится.
Обрушение спроса и ухудшение денежных потоков в первой половине текущего года означают серьезные проблемы для глобального сектора нефтесервиса и бурения (OFS). Несмотря на то, что несколько компаний этого сектора с рейтингом инвестиционного уровня способны пережить затяжной кризис в отрасли, большинство компаний с рейтингом спекулятивного уровня столкнулись с экстремальными проблемами для своей ликвидности.
Елена Надточая, вице-президент, старший сотрудник кредитного отдела Moody’s:
«Новый баланс рынка будет определяться действиями на стороне предложения, и это потребует от участников альянса ОПЕК+ сохранения дисциплины в выполнении условий соглашения по меньшей мере в течение двух лет ради сохранения более быстрого восстановления спроса в сравнении с предложением. Поскольку спрос на нефть начинает восстанавливаться, нефтяной индустрии во всем мире необходимо также разобраться с рекордными объемами запасов как сырья, так и нефтепродуктов, которые задерживают новую балансировку рынка.
Восстановление газового рынка также потребует времени, даже несмотря на то, что он пережил не такую жесткую встряску, как рынок нефти. Газовый рынок США получит преимущество благодаря медленному росту добычи нефти в 2020-21гг., однако переизбыток на мировом рынке СПГ будет сдерживать рост экспорта газа из США в среднесрочном периоде и замедлит строительство новых экспортных мощностей. Это приведет к тому, что цены на газ будут более волатильными, а масштаб их восстановления окажется ограниченным.
Мы ожидаем, что цены на нефть сохранят высокую волатильность, однако будут восстанавливаться в направлении нашего среднесрочного прогноза в диапазоне $45-65 за баррель.
Ряд производителей вне ОПЕК более склонны вернуть свою приостановленную сланцевую добычу, если цены продолжат восстановление к $50 за баррель, что внесет свою лепту в волатильность цен, если спрос будет оставаться низким. Росту волатильности также будет способствовать усиление геополитических рисков, традиционно связанных с периодами низких цен на нефть. Что касается цен на газ, то мы ожидаем их восстановления до нашего прогнозного диапазона в $2-3 за миллион британских тепловых единиц (MMBTU).
Высокая ценовая волатильность приведет к тому, что стоимость капитала для отрасли будет оставаться высокой, что замедлит любое восстановление инвестиционной активности. Мы ожидаем, что инвестиции оттолкнутся от дна 2020 года, однако останутся на невысоком уровне в связи с более высокой стоимостью капитала и неопределенности относительно масштабов и траектории роста спроса».
Мартин Фьюджерик, вице-президент — старший аналитик Moody’s:
«Интегрированные и национальные нефтяные компании будут наращивать портфель проектов, направленных на снижение рисков энергетического перехода. В сегменте добычи мейджоры перенесут акцент с увеличения объемов производства на постепенное сокращение издержек производства за счет технологической модернизации и активного управления портфелями проектов. В сегменте переработки компании также продолжат сокращение издержек и оптимизацию.
Снижение спроса на путешествия в Европе и других экономически развитых регионах станет серьезной проблемой для перерабатывающего сегмента мейджоров наряду с новыми усилиями правительств по сокращению углеродного следа в нефтепереработке. В частности, план правительства Франции по спасению компании Air France реализуем лишь в том случае, если перевозчик отменит некоторые внутренние рейсы.
Подобные трансформации приведут к дальнейшему увеличению избытка некоторых нефтепродуктов, что подтолкнет переработчиков к сокращению своих мощностей путем закрытия или переоборудования европейских НПЗ.
Еще до коронавирусного кризиса крупные интегрированные компании возглавили процесс перехода к низким эмиссиям углерода в нефтяной индустрии. Одним из признаков сохраняющейся значимости инвестиций в это направление является то, что в 2020 году компании не сокращают соответствующие бюджеты притом, что им приходится уменьшать капитальные расходы вплоть до 30%, чтобы хотя бы частично уравновесить падение операционного денежного потока. Более того, некоторые компании даже планируют увеличить объем инвестиций, связанных с энергетическим переходом, в ближайшие пять лет. И хотя большинство интегрированных компаний, вероятно, возобновят капиталовложения в традиционные нефтегазовые активы уже начиная с 2021 года, это будет происходить в условиях жесткого надзора.
В связи с увеличением рисков, связанных с будущим спросом на нефть, вложения в развитие новых нефтяных проектов будут сталкиваться с еще большими регуляторными проволочками. В то же время интегрированные компании получают преимущества от своей высокой кредитоспособности и сниженной стоимости капитала в сравнении с остальной индустрией, что поможет им в процессе энергоперехода. Низкие капитальные затраты обеспечат им повышенную гибкость в процессе приобретения различных активов в рамках продолжающейся консолидации отрасли. Однако интегрированные компании еще и платят внушительные дивиденды. По мере мобилизации ресурсов для переструктурирования своих стратегических портфелей в направлении энергетического перехода их способность сохранять высокую кредитоспособность будет зависеть от того, насколько им удастся сбалансировать потребность в капитале и стратегические инвестиции с высокими дивидендами для акционеров».
Перевод: Сергей Танакян
Посадят за парты
Британских депутатов научат терпимости
Текст: Диана Ковалева
Депутатов британской палаты общин обяжут пройти тренинг по избавлению от "бессознательной" расовой предвзятости. Кроме того, в стенах парламента заработала специальная группа по борьбе с расизмом пишет газета The Times. Причина: многочисленные жалобы со стороны небелых сотрудников на постоянные притеснения, неподобающие комментарии, запреты находиться в определенных частях здания и даже сексуальные домогательства.
Подобный тренинг в британском парламенте существует еще с 2016 года, но проводили его только для персонала. Теперь решили взяться за депутатов. Возможно, толчком к этому послужило расследование парламентской группы Parlireach, результаты которого показали: руководители зачастую неправильно произносят имена сотрудников из числа этнических меньшинств, путают их между собой. Кроме того, у таких работников гораздо чаще проверяют пропуска. А может быть, таким образом палата общин последовала примеру лейбористов, чей лидер Кейр Стармер еще в июле объявил о создании аналогичного тренинга для своих партийных сотрудников, напоминает газета Daily Mail.
Рейхстаг защищается
Почему немцев, которые "штурмовали" Рейхстаг, в СМИ назвали нацистами
Текст: Евгений Шестаков
Не каждый день штурмуют Рейхстаг. Последний такой штурм рассерженных на власть немцев обернулся жестокими действиями со стороны полиции и задержанием около 300 человек. Руководство Германии сразу же причислило протестующих к врагам демократии, экстремистам, радикалам и т.п. Причем это были еще щадящие ярлыки, которыми оперировала местная и европейская пресса.
Вот как описывает события в немецкой столице ведущая непримиримую борьбу за права человека по всему миру "Дойче велле": "Часть радикалов прорвала оцепление перед зданием рейхстага и забралась на лестницу. Полицейские оттеснили их. К этому могут быть причастны члены радикального движения "Рейхсбюргеры". А далее журналист скороговоркой подтверждает задержание около 200 человек, включая одного из организаторов митинга. Ни об избиении демонстрантов, ни о необходимости отказа от насилия в отношении мирных протестующих, ни о требовании к немецким властям вступить в национальный диалог с оппозицией в материале "Дойче велле" нет ни слова. Но, может, Меркель уже заявила о готовности к диалогу с недовольными немцами?
Канцлер прокомментировала события около Рейхстага следующим образом. Она назвала "сообразительными и умными" трех полицейских, которые первыми начали оттеснять людей от входа в Рейхстаг (в отношении протестующих власти использовали термин "толпа". - Ред.). А президент Франк Вальтер-Штайнмайер, поблагодарив полицию за работу, посчитал "презренными" действия участников берлинского марша. Он охарактеризовал их мирный протест как "антидемократическую клеветническую кампанию".
Такие оценки не прошли незамеченными, были подхвачены и "развиты" немецким мейнстримом. Газета Die Welt приводит слова депутата бундестага от фракции христианских демократов Армина Шустера. Тот заявил, что власти ФРГ "должны иметь возможность запретить демонстрацию, если собрание однозначно угрожает нарушить общественный порядок и санитарные требования". А глава МВД Хорст Зеехофер и вовсе считает, что "свободу собраний следует ограничить там, где попираются регламенты государства". Под регламентами министр, в частности, понимает безукоризненное соблюдение социальной дистанции и прочих мер карантинного характера. А вот что думает после событий в Берлине о свободе слова и собраний вице-президент бундестага, депутат от партии "зеленых" Клаудия Рот. Она полагает, что свобода мнений и право на митинги, в принципе, должны существовать, но не тогда, когда они становятся нападками, угрозой для демократии и здоровья людей. Ну а решать, что считать нападками и "попыткой экстремистов эксплуатировать право на митинги", будут, разумеется, власти.
Кстати, масштабный марш в Берлине против действий правительства должен был пройти еще 1 августа. Но тогда его не позволила провести полиция, обвинив уже собравшихся участников в несоблюдении предписанной властями дистанции в полтора метра. Да и прошедшая 29 августа демонстрация также могла не состояться - власти ФРГ наложили на ее проведение запрет, который лишь в последний момент снял Административный суд Берлина.
"У меня очень много вопросов, на которые я как гражданин Германии не могу получить ответа. А если пытаешься с кем-то пообщаться на эту тему, то тебя записывают в конспирологи", - приводит "Дойче велле" слова одного из участников берлинской демонстрации, режиссера Ины Майер. Но ведь о том же говорят протестующие в США или участники движения "желтых жилетов" во Франции. Они возмущены навешиванием на них общественных ярлыков - сегодня на Западе если выступаешь против власти, имеешь отличное от навязанного мейнстримом мнение по расовым вопросам или в отношении сексуальных меньшинств, то автоматически попадаешь в разряд экстремистов. Со всеми вытекающими для карьеры последствиями. Во вторник стало известно, что в Британии решили отправить на специальный тренинг даже депутатов. Они должны "изживать в себе бессознательный расизм".
На митинге в Берлине выступил племянник убитого президента США Роберт Ф. Кеннеди-младший. В Соединенных Штатах про него писали, что он отправился в Германию для разговора с пятью тысячами нацистов. "Я вижу полную противоположность нацистов. Я вижу людей, которые просто хотят другого правительства, которым нужны лидеры, которые не будут им врать. И которым не нужны правители, которые устанавливают правила, как им заблагорассудится", - обратился к собравшимся в немецкой столице людям Кеннеди-младший. Кстати, согласно проведенному в США соцопросу, девять из десяти американцев не доверяют своим СМИ. По мнению респондентов, они преследуют корыстные политические цели и "искажают новости".
В немецкой Саксонии премьер Михаэль Кречмер пришел на демонстрацию в Дрездене, где полтора часа общался со своими критиками. "Отстаивая решения властей, Кречмер продемонстрировал уважение к альтернативным мнениям", - написала в этой связи газета Die Welt. Однако в Берлине к демонстрантам в минувшие выходные никто из руководителей Германии не вышел и вступить в диалог им не предложил. Протестующих без лишних слов жестко разогнала полиция...
Читателем не рождаются: как побудить ребенка полюбить книги
Чтобы навыки у ребенка сформировались навыки к чтению, нужно позаботиться о его здоровье ещё на стадии его планирования, не говоря о нормальном развитии в первые годы жизни
Почему чтение превращается в мучение? Что нужно знать родителям, которые хотят вырастить своих детей успешными людьми? На эти вопросы отвечает в «Новых Известиях» кандидат философских наук, научный сотрудник Нижегородского государственного педагогического университета Андрей Бесков:
Начался новый учебный год. И хотя его начало взрослые пытаются обставить как праздник, на самом деле это всегда стресс и волнение – как сложится этот год, что он принесёт с собою? Всем – и родителям, и учителям, и, конечно, ученикам хочется, чтобы учеба приносила максимум отдачи с минимумом усилий. Но как этого добиться?
Современная педагогика утвердилась во мнении, что ключевым фактором, позволяющим добиться успехов в учёбе, является формирование развитых читательских способностей. Что это за способности и насколько успешно справляется с их формированием наша школа – в этих вопросах разбирался Андрей Бесков, проштудировавший публикации на эту тему в солидных научных журналах.
Все мы краем уха где-то слышали, что в современном мире (в России уж точно) потребность людей в чтении снижается. Читают сегодня меньше и не так охотно чем раньше – несколько десятилетий тому назад. Как правило, принято сетовать, что молодёжь книгам предпочитает гаджеты. В целом это похоже на правду, хотя это и не вся правда. Структура чтения, как и жанровые предпочтения, меняются у разных категорий населения – и это нормальный процесс, который происходил и ранее. Зато именно молодёжи – школьникам и студентам, волей-неволей приходится много читать, ведь процесс учёбы по-прежнему главным образом завязан на чтении.
Однако чтение чтению рознь. Можно читать «из-под палки», запинаясь и плохо понимая смысл прочитанного, а можно читать легко и с удовольствием, «проглатывая» книги, учебники и статьи будто это любимый десерт. Вполне очевидно, что каждый из нас предпочёл бы уметь читать именно так – легко и непринуждённо. А если уж сами мы так читать не научились, то этому умению стоит обучить наших детей, ведь выводы современных педагогов неумолимы – те дети, которые хорошо читают, лучше усваивают учебный материал. Кроме того, есть данные, что те подростки, которые любят читать и читают много, имеют более высокие показатели качества жизни, чем их не любящие читать сверстники. Но как же добиться того, чтобы дети хорошо читали и как понять, хорошо ли в целом читают современные дети? Для ответов на эти вопросы я обращусь к данным науки и статистики.
Начнём, как говорили древние римляне, от яйца («ab ovo»). Но если они имели в виду начало трапезы, которая начиналась с яиц и заканчивалась десертом – яблоками, то я имею в виду… яйцеклетку. Да-да, на то, будет ли ваш ребёнок хорошо читать, влияют разнообразные факторы, в том числе и его физиологическое развитие – даже внутриутробное. Так, например, известно, что дети-близнецы по сравнению с обычными детьми в целом несколько хуже овладевают речевыми навыками, особенно это касается тех детей, что родились вторыми. На формирование навыка чтения влияет срок нахождения ребёнка в утробе матери и его вес при рождении. Проще говоря, если новорождённый имеет высокий балл по шкале Апгар – то есть родился здоровым и соответствующим нормам развития, то он имеет все шансы стать хорошим читателем.
Но то в теории. Это лишь знаменитый Тарзан, герой книг Э. Берроуза, смог научится читать неизвестным науке способом – рассматривая книги с картинками. В жизни всё не так и описанные в научной литературе примеры детей-маугли, воспитанных животными, напрочь избавляют от всяких иллюзий о естественном взрослении и обучении. Читателем, как и человеком, не рождаются, а становятся. Это убедительно показывают исследования педагогов и психологов. С детьми нужно постоянно заниматься. В частности, установлено, что в семьях, где родители (и прежде всего матери, на которых обычно ложится основная нагрузка по воспитанию в первые годы жизни ребёнка) имеют высшее образование, дети ко времени поступления в школу приобретают более развитые читательские навыки, чем их сверстники, родители которых высшего образования не имеют.
Впрочем, если у вас нет высшего образования, не нужно падать духом – не образование родителей само по себе влияет на детей, а общая атмосфера в семье, позитивное отношение к чтению, готовность родителей читать вместе с детьми. Интересно, что дети родителей без высшего образования, посещающие детский сад длительное время (3 года и более), отличаются значимо более высоким уровнем грамотности по сравнению с детьми, не посещавшими детский сад или посещавшими его недолго. Для детей более образованных родителей такой связи не установлено. Таким образом, детские сады в нашей стране выполняют важную функцию по выравниванию уровня читательских способностей детей из разных семей. Можно спросить, как это возможно, если в детских садах подготовкой к школе начинают заниматься в последний год перед выпуском? При чём тут хождение в садик по 3 года и более, если детей в этом возрасте всё равно ещё не учат читать? Ответ довольно прост. Как известно, для того, чтобы ребёнку было легче научиться хорошо читать, он должен научиться хорошо различать и воспроизводить звуки своего родного языка и иметь достаточно большой словарный запас. Важны также такие качества, как внимательность, способность к самоконтролю. Регулярное посещение садика, которое предполагает общение детей друг с другом и развивающие занятия воспитателей с детьми, как раз и должно обеспечиватьпривитие нужных навыков.
В начальной школе все дети так или иначе приобретают навыки чтения, на что и уповают некоторые родители, считающие, что учить – в том числе и учить читать, это функция школы, а не родителей. Увы, они рискуют горько пожалеть о своей беспечности. Родителям, которые в первые годы жизни ребёнка «не парились» его развитием, приходится прикладывать интенсивные усилия в плане помощи ребёнку в начальной школе, в то время как более сознательные родители в это время могут уже чуть расслабиться, наблюдая за успехами своих детей. Для многих семей в этот период чтение превращается в настоящее мучение, повод для нервных срывов как детей, так и их родителей. Вырисовывается вполне однозначный вывод – родителям не нужно ждать, пока ребёнок пойдёт в школу, чтобы начать с ним читать. Чем позднее родители за это берутся, тем труднее устранить пробелы в развитии детей – увы, их дети продолжают отставать в уровне развития читательских навыков, а это влечёт за собой и отставание в скорости усвоения учебного материала – во всяком случае того, который им предлагается почерпнуть из учебников.
Но вот начальная школа осталась позади. Все научились читать. Что же происходит потом? Об этом мы можем узнать из материалов масштабных международных исследований, в рамках которых оцениваются читательские навыки выпускников начальных школ (PIRLS) и 15-летних подростков (PISA). Результаты российских четвероклассников в PIRLS как правило не просто хороши – они превосходны! Неоднократно наши дети превосходили своих сверстников из других стран, становясь лидерами международного рейтинга – так было в 2006 г. и в 2016 г. Приведу здесь для наглядности результаты 2016 г., с указанием интегрального балла читательской грамотности по 1000-балльной шкале.
В рейтинге нашли отражение результаты школьников из 50 стран мира. Верхние 10 строк рейтинга заняли Российская Федерация (581), Сингапур (576), Гонконг (569), Ирландия (567), Финляндия (566), Польша (565), Северная Ирландия (565), Норвегия (559), Тайвань (559), Англия (559). Нижние 10 строк рейтинга заняли ОАЭ (450), Бахрейн (446), Катар (442), Саудовская Аравия (430), Иран (428), Оман (418), Кувейт (393), Марокко (358), Египет (330), ЮАР (320).
Учитывая, что по мнению международных экспертов, уровень читательской грамотности в стране лучше предсказывает экономический рост, чем другие учебные достижения, всем нам нужно радоваться и ждать блестящего будущего, когда умненькие подросшие ученики выведут, наконец, Россию в число наиболее развитых стран мира.
Но поводы для радости неизменно заканчиваются, когда мы знакомимся с результатами исследования читательских навыков российских подростков, которые раз за разом не блещут по сравнению с учениками из других стран мира, оказываясь в итоговом рейтинге то в третьем, то в четвёртом, а то и в пятом десятке. Стоит пояснить, что измеряется не всем нам известная с собственных школьных лет техника (прежде всего, скорость) чтения, а умения, связанные с поиском информации в тексте, её обработкой и умением обобщать полученные данные, делая на их основе собственные выводы. PIRLS оценивает читательскую грамотность в конце обучения в начальной школе, на переходе от обучения процессу чтения к использованию чтения как одного из основных средств дальнейшего обучения. PISA оценивает читательскую грамотность подростков на переходе от использования чтения как средства обучения к использованию чтения как средства ориентации в реальной жизни. То есть оба теста оценивают готовность школьников к следующему периоду их жизни – в некоторой степени, это тест на «взрослость».
Чтобы понять, где происходит «затык», мешающий нашим в целом превосходно развитым четвероклассникам стать столь же замечательно развитыми юношами и девушками, группа российских учёных провела исследование, которое обнаружило странную ситуацию. Оказалось, что при переходе из начальной школы в основную развитие навыков чтения приостанавливается. В итоге шестиклассники читают ничуть не лучше, чем четвероклассники. Более того, способность извлекать информацию из текста у многих шестиклассников даже хуже, чем у четвероклассников. С чем это связано, исследователям до конца не ясно. То ли с психологией детей этого возраста (правда, в таком случае те же проблемы должны быть присущи и школьникам из других стран, что вроде бы не отмечено в научной литературе), то ли дело в учебниках, по которым занимаются наши дети.
Современные учебники – разговор отдельный. Достаточно сказать, что авторы учебника «Литературное чтение» для 2-го класса, одобренного Российской академией наук и Российской академией образования, путают слова «сень» (например, сень деревьев) и «сени» (например, в крестьянской избе), очевидно, плохо понимая смысл стихотворения Пушкина «Осень», поразмыслить над которым они предлагают нашим детям. Но ведь активный читатель читает не только учебники, но и хорошие книги, что, казалось бы, должно автоматически способствовать дальнейшему совершенствованию навыков чтения… Так может, дело не в учебниках?
Поскольку не вполне ясны причины описанной ситуации, не понятно и то, что нужно делать для её улучшения. Соответствующие исследования показывают только, что, по-видимому, корень всех бед в том, что наши школьники неплохо умеют интерпретируют информацию, почерпнутую из текста, но хуже находят эту самую информацию, сформулированную в явном виде. Говоря образно, они хорошо читают между срок, но вот на сами строки порой обращают недостаточно внимания. Вспоминая монологи Михаила Задорнова, воспевавшего русскую «соображалку», можно сказать, что «соображалка» у наших детей действительно работает хорошо, но вот внимательность и педантичность – пока не их конёк. А может, и не наш?..
Но не будем философствовать о национальном русском характере. Пока что очевидны несколько простых вещей. Хорошие навыки чтения повышают шансы вашего ребёнка превратиться с возрастом в успешного человека (хотя разумеется, и не гарантируют этого). Чтобы эти навыки могли благополучно сформироваться, желательно как следует позаботиться о здоровье ребёнка ещё на стадии его планирования, не говоря уж о том, чтобы заботиться о его нормальном развитии в первые годы жизни. Развитие навыков чтения вовсе не сводится к изучению букв и попыткам их складывать в слова. Нужно всемерно развивать речь ребёнка, обогащать его словарный запас, учить общаться. И устав от хлопот с маленькими детьми, стоит утешать себя мыслью о том, что, уделив им по максимуму внимание сейчас, вы сбережёте себе много времени и нервов потом, когда чтение должно будет стать для ребёнка основным инструментом познания.
Аббас Галлямов: «Лукашенко может и не вернуться из Москвы в Минск...»
Именно непонятная поездка к Путину могла бы объединить белорусскую власть и оппозицию с тем, чтобы найти компромисс и не впустить его назад
Из мировой истории известно, что способов потерять власть и взять ее существует множество и самых разнообразных. Политолог Аббас Галлямов рассмотрел один из возможных вариантов, который вполне может получиться в Белоруссии:
«На этой неделе Лукашенко собирается в Москву. В преддверии визита ему имело бы смысл ознакомиться с печальной историей лидера британских лейбористов Корбина, который два года назад проиграл выборы и вынужден был уйти в отставку. Концом политической карьеры тот был обязан как раз Москве, а именно - своей неудачной реакции на скандал с отравлением Скрипалей.
В общем-то, британское общественное мнение давно подозревало, что Корбин - фрик; помимо прочего тому способствовали его, мягко говоря, нетипичные внешнеполитические предпочтения - лидер лейбористов любил поддерживать иранских аятолл, Хамас, Хезболлу и прочих «борцов с мировым империализмом». До поры до времени, однако, это ему не сильно мешало - в условиях растущих антиистеблишментых настроений вся эта экзотика воспринималась в первую очередь как доказательство того, что он «не такой как все остальные политики» и плюсы от подобного восприятия перевешивали минусы.
Соломинкой, сломавшей хребет верблюду, оказалась история со Скрипалями. Верный своей стратегии всегда идти против мейнстрима, Корбин встал в позу, схожую с позицией российского МИДа: «А вы докажите!» И это при том, что в виновности России были убеждены 73 процента британских избирателей, а не соглашались с ними лишь 5 процентов. Особенно сильно прокололся Корбин, когда на прениях в парламенте заявил, что перед тем, как решать, виновата ли Россия, ей надо передать образец «Новичка» - с тем, чтобы она имела возможность провести проверку и официально заявить, является ли этот яд российским или нет. Когда он это сказал, его собственные однопартийцы подняли в зале такой крик, что спикеру пришлось их специально успокаивать. К моменту, когда дело Скрипалей встало в повестку, рейтинг лейбористов был выше рейтинга консерваторов. Сразу после скандала он пошёл вниз и вновь на поверхность уже не поднимался.
Репутация российского режима в мире сейчас такова, что сближение с ним дорого обходится политикам. Поездка Лукашенко к Путину очевидно будет проинтерпретирована в Минске как «сдача суверенитета в обмен на поддержку». Этот шаг возмутит не только оппозицию. Думаю, он не понравится и госаппарату - в первую очередь силовикам. Для тех ведь слова «патриотизм» и «суверенитет» - не пустой звук, и если раньше эти понятия играли на Лукашенко, то теперь могут развернуться против.
На месте белорусской оппозиции я сделал бы соответствующее обращение к силовикам. Дескать, вы кого поддерживаете? Человека, который торгует суверенитетом страны?!
В случае с Корбиным лейбористы сумели представить дело так, будто для того его собственные идеологические пристрастия оказались важнее безопасности граждан; в случае с Лукашенко все выглядит примерно так же, только место идеологических пристрастий занимает его неуемная жажда власти.
Вполне возможно, что именно непонятная поездка к Путину могла бы стать той темой, которая объединила бы белорусскую власть и оппозицию. Именно в момент отсутствия Лукашенко стороны могли бы найти компромисс и просто не впустили бы его назад. Зачем нам, дескать, здесь агент Москвы? Пусть в Ростов летит...»
Вирус бедности: главная болезнь, с которой должны бороться государства. Комментарий Семена Новопрудского
В последние месяцы было видно, как государства мира умеют производить бедность в промышленных масштабах. Но умеют ли они так же эффективно бороться с нищетой и голодом, которые ежегодно уносят намного больше жизней, чем самые опасные вирусы?
В московском метро снова появились нищие, преимущественно старики и инвалиды, которые просят милостыню. Как ни горько, это один из самых явных признаков возвращения докарантинной жизни.
По данным исследования Королевского колледжа Лондона и Австралийского национального университета, к концу 2020 года количество нищих из-за пандемии может достичь миллиарда человек из примерно 7,85-7,9 млрд жителей планеты. То есть бедняками будут более 12,5% населения Земли.
Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли пророчит человечеству «голод библейских масштабов», на преодоление которого только его организации до конца года срочно требуется до 5 млрд долларов. По оценкам Бизли, в Латинской Америке число голодающих людей возрастет на 269%, в Восточной и Центральной Азии — на 135%, в Южной Африке — на 90%. При этом и до пандемии количество голодающих в мире росло как минимум три года подряд (данные по 2019-му пока отсутствуют).
Но и без этих алармистских прогнозов в повседневной жизни в 2020 году было видно, что на фоне и без того скромных успехов борьбы государств с нищетой и голодом в считанные месяцы из-за войны с одной новой болезнью в мировом масштабе можно рукотворно создать глобальную гуманитарную катастрофу. Даже у самых богатых стран не хватило денег на финансовую поддержку людей, потерявших средства к существованию и работу из-за локдаунов дольше двух-трех месяцев. Большинство государств мира, вводивших и продолжающих вводить ограничения из-за коронавируса, не помогали людям вообще никак.
С начала дня на момент публикации этого текста от голода в мире умерли около 16 тысяч человек — от «короны» даже в самые «смертоносные» дни умирали почти вдвое меньше. С начала года голод унес жизни 7,92 млн человек — в восемь раз больше, чем на сей момент убил COVID-19.
Для человечества, если оно действительно становится гуманнее, как всех пытаются убедить, оправдывая противоэпидемические меры, и старается спасти каждую отдельную жизнь, наступает момент истины. Борьба с бедностью и голодом превращается в главную задачу развития, более важную, чем цифровые технологии или биохакинг.
Любые технологии — форма, а не содержание. Они не имеют ценности сами по себе. Грош цена научным и техническим достижениям, если стариков и детей не могут прокормить.
Адресные меры помощи бедным и социально незащищенным слоям населения вроде пенсий и пособий явно недостаточны. Идея базового безусловного дохода становится все более актуальной. Причем не ради возможности реализации творческих способностей людей, которые смогут сами выбирать, как и где им работать, не опасаясь голодной смерти. А именно ради того, чтобы решать самые базовые проблемы физического выживания сотен миллионов людей в мире.
В мае Европейская комиссия приняла к рассмотрению проект разработки безусловного базового дохода во всем ЕС. На днях обсудить идею «минимального гарантированного дохода» в России предложил экс-президент и экс-премьер Дмитрий Медведев.
Пока это разговоры. Но, проявляя решительность в разрушении национальных экономик в борьбе с эпидемией, государства должны быть не менее решительными в поиске и внедрении мер борьбы с глобальной бедностью и голодом.
Бедность остается позором и проклятием человечества. Пока от голода и нищеты в мире каждый год будут умирать миллионы человек, государственным чиновникам и политикам разглагольствовать о каком-то гуманизме и заботе о людях просто стыдно.
Почти 40% генерации в Великобритании обеспечивается с помощью ВИЭ
Компания SSE Renewables, лидер в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Великобритании и Ирландии, намерена построить ветропарк Viking мощностью 443 МВт на Шетландских островах в Северной Атлантике.
С этой целью на поставку оборудования заключен контракт с компанией Vestas. Поставки и ввод в эксплуатацию ветропарка запланированы на первый квартал 2023 года.
В свою очередь за счет реализации этого проекта Vestas усилит собственное присутствие на британском рынке оншорной ветроэнергетики, где уже введено в эксплуатацию свыше 2000 ветроэнергетических установок (ВЭУ) общей мощностью более 4 ГВт. Ветропарк Viking станет крупнейшим отдельно взятым заказом для Vestas в Европе, сообщает Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ)..
Возобновляемая энергетика в Великобритании бьет все рекорды: почти 40 % генерации в стране обеспечивается с помощью ВИЭ. Проект Viking – очередной шаг, который демонстрирует, что ветроэнергетика является одним из самых экономичных способов генерации в стране на сегодня, и лишний раз подчеркивает ее способность сыграть ключевую роль в снижении до 2050 года выбросов парниковых газов до нуля.
Vestas поставит для нужд SSE Renewables 103 ВЭУ модели «V117-4.2 MW» номинальной мощностью 4,3 МВт. Использование этой устанвки, известной своей способностью выдерживать экстремальные ветровые условия, является исключительно подходящим для этого региона с высокой среднегодовой скоростью ветра. Применение модели «V117-4.2 MW» позволит максимально увеличить выработку электроэнергии на объекте и при этом снизить ее нормированную стоимость (LCOE).
В рамках долгосрочного договора на обслуживание проекта Viking компания Vestas создаст на островах центр обслуживания, предоставляющий также возможность трудоустройства по программе стажировки.
«Мы рады продолжению сотрудничества с SSE Renewables, которое насчитывает уже 20 лет. Проект Viking продемонстрирует коммерческий потенциал нашего заказчика и обеспечит устойчивые возможности для экономического роста и «зеленого» оздоровления экономики не только на Шетландских островах, в Великобритании, но и за ее пределами», – комментирует Нильс де Баар, президент Vestas Northern & Central Europe.
Превосходные ветровые условия на островах будут использоваться для производства почти 2 ТВт-ч энергии в год – этого достаточно, чтобы запитать почти 500 тыс. домов и сократить выбросы углекислого газа на полмиллиона тонн в год. По завершении строительства энергопроект станет крупнейшей и самой производительной оншорной ветроэлектростанцией в Великобритании с точки зрения годового объема генерации.
Соглашение между компаниями включает в себя поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию ВЭУ, а также договор на сервисное обслуживание сроком на 30 лет (Active Output Management 5000). Проект будет оснащен автоматизированной системой управления производством «VestasOnline® Business», которая обеспечивает снижение простоя ВЭУ и оптимизацию выработки электроэнергии и мощности.

РОССИЯ В БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ: МЕСТЬ ИЛИ ПОМОЩЬ ГЕОГРАФИИ?
ВЯЧЕСЛАВ ШУПЕР
Доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии РАН.
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ
Дружинин А.Г. Евразийские приоритеты России (взгляд географа-обществоведа). – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2020. – 268 с.
Задачи, стоящие перед страной в условиях формирования Большой Евразии, всё больше выдвигаются на роль если не национальной идеи, то, во всяком случае, одного из главных векторов её развития для нескольких поколений россиян. Научное осмысление этих задач требует скоординированных усилий представителей многих наук. Новые представления о евразийской ориентации России, наиболее ярко и последовательно изложенные в шести докладах Валдайского клуба «К Великому океану», вышедших в 2012–2018 гг., задают каркас для такого междисциплинарного взаимодействия[1].
Книга Александра Дружинина, профессора ЮФУ и БФУ имени И. Канта, представляет собой попытку анализа евразийского вектора развития страны в категориях географической науки и использования её инструментария для решения задач, поставленных глубоким переосмыслением места страны в мире и её перспектив. В книге четыре главы:
Геоконцепт «Евразия»: генезис, метаморфозы, перспективы.
Современные тренды трансформации российского пространства: евразийские прио-ритеты и вызовы.
«Мореориентированность» современной России: евразийские детерминанты, векторы, форматы.
Русско-тюркский геостратегический диалог как краеугольный камень евразийского позиционирования России.
В первой главе решается многоплановая задача: проанализировать становление геоконцепта (макротопонима) «Евразия», проследить его постсоветские метаморфозы и описать пути становления Большой Евразии как новой реальности. Именно этой цели подчинены все исторические изыскания данной главы. Её «три источника – три составные части» – это географические исследования, включающие и классическую статью[2] 1915 г. Вениамина Семёнова-Тян-Шанского (1870–1942), и географические работы[3] Дмитрия Менделеева (1834–1907), идеи евразийцев и блистательного продолжателя их дела Льва Гумилёва (1912–1992), а также взгляды идеологов пантюркизма, начиная с Исмаила Гаспринского[4] (1851–1914), считавшего, что «Россия ещё не достигла своих исторических, естественных границ… которые, рано или поздно… заключат в себе все тюрко-татарские племена и в силу вещей, несмотря на временные остановки, должны дойти туда, где кончается населённость тюрко-татар в Азии».
Приверженность научному объективизму не позволяет автору, глубоко проникшемуся идеями становления Большой Евразии, смотреть в будущее с оптимизмом. Он отмечает, что «формирование “россиеориентированного” геоконцепта Евразии зримо ускорилось в начале XX столетия… в гигантской по размерам империи (в своём максимуме – почти 41% площади континента)» (с.16), причём страна показала удивительную территориальную устойчивость – потери в результате распада империи не превысили 4% (с. 17). Пик могущества – это «создание (по итогам Второй мировой войны) возглавляемой СССР военно-политической и экономической группировки (обширнейшей по площади, временами охватывавшей до 64% территории евразийского материка), и провозглашение Китайской Народной Республики (1949 г.), и относящийся к тому же периоду “лавинообразный” распад ранее доминировавших в южной и юго-восточной Азии колониальных империй с одновременным появлением множества самостоятельных (в большинстве своём “полузависимых”) государств» (с. 35). Однако прогрессировавшее отставание СССР приводило, помимо прочего, к усилению центробежных тенденций, а масштаб этого отставания столь красноречиво иллюстрирует таблица 1 (с. 20), что едва ли к этому стоит что-то добавлять.
После распада СССР отмеченные тенденции только усугубились. «Если в 1990 г. соотношение экономического веса России (РСФСР) и четвёрки ведущих европейских государств (Великобритания, Германия, Италия и Франция), по данным Всемирного банка, составляло 1:10, то к 2000 году – 1:24 (в 2018 г. – 1:8). Логично, что именно к середине нулевых годов степень хозяйственной зависимости РФ от ЕС достигла своего апогея (в 2008 г. почти 54% внешнеторгового оборота России приходилось на страны Евросоюза), в дальнейшем, однако, снижаясь. Благодаря выстроенным центро-периферийным взаимосвязям, уже с конца 1990-х годов (и особенно с 2004 г.) на пространствах значительной части Евразии приверженность “общеевропейским ценностям” стала восприниматься как некий императив, лицензия на власть и “символ веры”, а само понятие “Европа” усилило своё ценностное, статусное звучание. Весьма показательно, что даже в выступлении В.В. Путина (2011 г.), посвящённом формированию Евразийского союза, последний рассматривается “…как неотъемлемая часть Большой Европы”» (с. 26).
Однако весьма скоро пришло осознание того, о чём Лев Гумилёв предупреждал ещё в 1970-е гг.: глобальное доминирование Запада – лишь исторический эпизод (с. 42). Уже в 2015 г. политолог Дмитрий Тренин писал: «На смену путинской концепции Большой Европы от Лиссабона до Владивостока, состоящей из ЕС и возглавляемого Россией Евразийского экономического союза, приходит Большая Азия от Шанхая до Петербурга»[5]. Термин «Большая Евразия», по воспоминаниям ученого-международника Сергея Караганова, был введён ещё в 2013 г.
В современном научном дискурсе Большая Евразия воспринимается преимущественно как:
концепция, задающая интеллектуальную рамку для взаимодействия государств континента[6];
некий ареал международного сотрудничества на евразийском материке, пространство, конструируемое и организуемое трансматериковыми коммуникациями или коридорами, а также коридорами регионального характера (субконтинентальными), связывающими отдельные регионы России с прилегающими странами[7];
региональное или макрорегиональное международное сообщество, в основе которого лежат не история или цивилизационная общность и даже не количество экономических проектов и взаимозависимость, а особое качество и интенсивность политических отношений между образующими его государствами, прежде всего между Россией и Китаем[8];
структура, инициированная необходимостью объединения усилий для противостояния вызовам коллективного Запада, чей экономико-географический смысл состоит в строительстве долгосрочной и устойчивой континентальной евразийской интеграции посредством активизации международных хозяйственных связей и сооружения транспортных коридоров, что тем самым содействует преодолению транспортно-коммуникационных ограничений ультраконтинентальных стран и районов[9].
При этом автор книги далёк от оптимистичного взгляда на Россию как на «место сборки» Большой Евразии (с. 43), он крайне озабочен прогрессирующей асимметрией российско-китайского экономического взаимодействия. По его мнению, «ко второй половине XX столетия начал проявляться судьбоносный для страны геостратегический “разворот”: переход от освоения Евразии к освоению Евразией» (с. 46, выделено в источнике). Дальнейшая судьба страны в условиях неблагоприятных тенденций изменения соотношения сил будет во многом зависеть от искусства маневрирования в многомерном пространстве двусторонних и многосторонних отношений между странами континента.
Вторая глава книги посвящена анализу пространственной организации страны и закономерностей её изменения в аспекте евразийской перспективы. Ярко выраженная асимметричность в размещении населения и хозяйства находит крайнее проявление в гипертрофии Москвы, «москвоцентричности», по выражению автора. Степень этой «москвоцентричности», исторически очень изменчивая, сама по себе важный и интересный индикатор. Несмотря на крайнюю централизацию управления страной в советский период, доля Москвы в городском населении РСФСР неуклонно снижалась от переписи к переписи: 1926 г. – 11,9%; 1939 г. – 11,2%; 1959 г. – 8,1%, однако в границах 1960 г. – 9,6%; 1970 г. – 8,6%; 1979 г. – 8,2%, но с учётом расширения границ города в 1983–1984 гг. – 8,3%; 1989 г. – 8,1%. Слом плановой экономики запустил мощнейшие процессы концентрации экономической деятельности и населения в Москве: её доля в городском населении Российской Федерации составляла по переписям 2002 и 2010 гг. 9,8% и 10,9% соответственно. В 2020 г. (по данным текущего учёта) доля Москвы – 11,6%, но при введении поправок на Новую Москву и присоединение Крыма получаем 11,2%.
Объективные географические закономерности должны стать холодным душем для не в меру смелых преобразователей пространственной организации страны, ещё недавно предлагавших президенту построить железную дорогу до Берингова пролива, в сравнении с чем многие другие их идеи уже и не представляются сумасшедшими. При этом совершенно несбыточные мечты внешне могут выглядеть вполне здравыми. Классический пример – политика ограничения роста крупных городов и стимулирования малых и средних, которую проводили (точнее – пытались проводить) в советский период. Она была вдохновлена, казалось бы, вполне разумным, но при этом слишком поверхностным использованием американского и западноевропейского опыта. Между тем в 1963 г. вышла основополагающая статья основателя классической теории стадиальной урбанизации Джека Джиббса[10], излагающая стадиальную концепцию эволюции расселения. Только на последней, пятой стадии преобладают процессы деконцентрации, на четвёртой максимального проявления достигают процессы концентрации. Попытки советского руководства запустить процессы деконцентрации тогда, когда системы расселения в стране находились максимум на четвёртой стадии, а во многих случаях и на более низкой, были заведомо обречены на провал. Автор отмечает хроническое превышение установленной генпланами численности населения Москвы (с. 56). Отметим и мы, что происходило это, несмотря на очень жёсткие административные ограничения. Просто в условиях планового хозяйства развитие не было и не могло быть сосредоточено преимущественно в Москве, росли и другие крупные города.
В 1990-е гг., в условиях архаизации многих важнейших сторон общественной жизни, расселение было отброшено на более низкую стадию эволюции, что и выразилось в резком усилении процессов концентрации. Однако природа (в смысле объективных закономерностей) всё равно берёт своё: Москва со своим ближайшим окружением зримо переползает на пятую стадию, что выражается в существенном замедлении роста столицы. Население области ещё продолжает расти приличными темпами, но её экономика уже не обладает прежним динамизмом. Учёт закономерностей, обусловленных эволюционной зрелостью расселения, совершенно необходим в Сибири и на Дальнем Востоке с их разреженным населением и очень низкой, даже по нашим меркам, плотностью инфраструктуры. В условиях мощнейших концентрационных процессов выбор локусов для развития должен быть предельно точным. Этого требует крайняя ограниченность ресурсов. Проявления тенденций к деконцентрации можно ожидать только на юге Приморья, да и то не в ближайшей перспективе.
На Дальнем Востоке особенно нагляден переход от освоения Евразии к освоению Евразией, о котором шла речь в первой главе. «Доля Китая во внешней торговле Хабаровского, Приморского края, Амурской области и Еврейской автономной области – достигает 80%. Во внешней торговле Забайкальского края удельный вес Срединного государства ещё выше – порядка 90%» (с. 87). КНР практически определяет экономическое будущее этого региона. «Если современная экономическая ритмика в целом сохранится, то к рубежу 2029–2030 гг. душевой ВВП в КНР и РФ с высокой долей вероятности сравняется, что неизбежно создаст полноформатные предпосылки для многообразных социокультурных и иных трансформаций в тяготеющих к Китаю регионах Сибири и российского Дальнего Востока, самим своим соседством (а также глобальным геополитическим раскладом) практически обречённых на всё большее и большее инкорпорирование в китайскую геоэкономику» (с. 88). Подобные проблемы уже есть и на западном порубежье России, особенно в Калининградской области.
При этом на западных рубежах страны происходит существенная перегруппировка сил, обусловленная в первую очередь стремительным возвышением Польши. Благодаря главным образом экономическому росту, Польшу в последние тридцать лет практически не затронула депопуляция, в то время как численность населения в трёх сопредельных с ней государствах, ранее также входивших в историческую Rzeczpospolita, «за постсоветский период сократилось более чем на 11 млн человек, то есть на 17%, имея чёткую перспективу к последующему устойчивому снижению (характерно, что по прогнозу ООН к середине XXI века демографический потенциал Польши превысит численность населения Украины)» (с. 117). В контуре «внешней составляющей» западного российского порубежья весьма существенный интеграционный потенциал Польши, по мнению автора, будет лишь нарастать, множа «взаимопересечение» российско-польских геостратегических интересов на Украине, в Белоруссии и в странах Балтии (с. 118).
Третья глава книги рассказывает о «мореориентированности» России, «понимаемую как:
совокупность факторов, проявлений и следствий влияния Мирового океана на общество и его пространственную организацию;
использование “фактора моря” в общественной динамике (включая и пространственную организацию общества);
пространственную архитектуру (конфигурацию) общества (хозяйство, расселение, инфраструктура) в аспекте её смещённости к морю, побережьям, локализованным на них важнейшим социально-экономическим центрам (эффекты талассоаттрактивности)» (с. 127).
Рассматривая географические и геополитические последствия распада СССР, вследствие которого страна оказалась сдвинутой на север и на восток и стала значительно более континентальной, автор обращается к представлениям о континентально-океанической дихотомии, разработанным иркутским географом Леонидом Безруковым[11]. Последний внёс важный вклад также в анализ и развитие идей евразийцев: «В экономико-географической концепции евразийства содержались также ценные прогнозы будущей территориальной организации хозяйства страны на макрорегиональном уровне. П.Н. Савицкий[12] правомерно полагал, что транспортная “обездоленность” внутриматериковых областей России-Евразии побудит не рассчитывать на мировой рынок и вызовет к жизни центры производства в собственных пределах. На основе активного использования принципа “континентальных соседств” прогнозировалось приоритетное освоение природных ресурсов и хозяйственное развитие преимущественно наиболее глубинных макрорегионов – Сибири, Урала и Поволжья. Гипотеза евразийцев о неизбежности внутриконтинентальной направленности смещения хозяйства и населения страны полностью оправдалась в советский период, когда произошёл масштабный “сдвиг производительных сил на восток”» (с. 16)[13]. Эта внутриконтинентальная направленность, как подчёркивает автор, нисколько не противоречила бурному развитию приморских центров в советские годы (с. 124–125), поскольку имела целью не уход от побережий вглубь страны, а максимальное использование внутриконтинентальных ресурсов.
Историю пишут победители, соответственно хозяйственная история советского периода на протяжении двух десятилетий привлекала внимание исследователей преимущественно как объект критики. Между тем создание Урало-Кузнецкого комбината в начале 1930-х гг. было беспрецедентным достижением, сейчас незаслуженно забытым. Тогда впервые в экономической истории по железной дороге стали перемещаться такие массы грузов, которые ранее перевозились только морем. Из Кузбасса на Урал ежегодно перевозилось 5 млн т угля, а в обратном направлении – 2 млн т железной руды. Использование встречных перевозок и исключительно благоприятный рельеф Западно-Сибирской равнины позволили сделать себестоимость перевозок сопоставимой с морскими.
Сейчас нет возможности решать столь масштабную задачу с опорой на внутренние ресурсы. Преодолеть «континентальное проклятье» Сибири возможно, лишь используя Транссиб, а в перспективе – и БАМ, не только для вывоза угля к дальневосточным портам, но как мощные транзитные магистрали, обеспечивающие быструю доставку грузов из Восточной Азии в Европу по конкурентным с морским транспортом тарифам (выигрыш во времени должен оправдывать проигрыш в цене). Автор обеспокоен тем, что только 1% совокупного объёма торговли между Китаем и Европой осуществляется по железной дороге (с. 154). Решение геополитических и геоэкономических задач, позволяющих привлечь грузы не только с северо-востока Китая, но и из Японии, Южной Кореи с возможностью их доставки через территорию КНДР после снятия или смягчения санкций, наложенных на эту страну, – в прямом смысле вопрос жизни и смерти для Отечества. Без этого (наряду со строительством магистралей меридионального простирания) невозможно преодоление «континентального проклятья» Сибири, обеспечение экономической связности территории страны, в отсутствие которой Дальний Восток будет обречён на самостоятельный дрейф[14]. «Из мировых держав только одной России присуща высокая степень транспортно-географической континентальности, что резко выделяет её из общего ряда всех остальных ведущих стран планеты, отличающихся более благоприятным макроположением относительно морских и океанических путей» (с. 17)[15].
Если наша историческая и географическая судьба – преодолевать сопротивление пространства, то почему это не должно быть одной из наших национальных идей?
Новое дыхание представлениям о транспортно-географической континентальности придала пандемия короновируса, резко ускорившая проявление многих постепенно назревавших тенденций, исподволь изменявших экономический, политический и интеллектуальный облик окружающего нас мира. «В новой ситуации сухопутные государства не выигрывают и даже многое теряют, но морские государства теряют гораздо больше – писал профессор Максим Братерский[16]. – Исторически страны Евразии были связаны с морской торговлей гораздо слабее – внешняя торговля по морю стала играть заметную роль в их экономике только в последние десятилетия. Надо заметить, что и в этих условиях они старались диверсифицировать способы доставки (“Пояс и путь” – Китай, трубопроводы – Россия), частично и для того, чтобы уменьшить зависимость от морской системы мировой торговли, которая контролировалась Атлантическим сообществом. Теперь эта система ослабнет в принципе, и из огромного преимущества, источника влияния и заработков станет серьёзной обузой для атлантистов». Географам следует отнестись с предельным вниманием к происходящим изменениям в проявлении континентально-океанической дихотомии, прежде всего – в аспекте формирования Большой Евразии.
В четвёртой главе рассматривается роль тюркской составляющей в развитии страны. В России сейчас 12,6 млн представителей тюркских народов, причём все они, за исключением чувашей, хакасов и крайне малочисленных караимов, демонстрируют положительную динамику, способствуя улучшению далеко не благоприятной демографической ситуации в стране. «Почти ¾ российских мусульман приходится именно на тюркские народы… уже в ближайшей перспективе [они] станут оказывать всё возрастающее влияние на характер этнокультурного диалога во многих регионах и субрегионах России, предопределяя приоритетность в нём русско-тюркского межэтнического взаимодействия, а также соразвития конфессиональных систем православия и ислама» (с. 184). Завершение трёхвекового господства «европоцентрированной» картины мира должно привести к переоценке совместной русско-тюркской истории, в том числе с использованием потенциала евразийских идей, ко всё более явственному пониманию России как в том числе и тюркской державы (с. 185).
В этом контексте автор призывает к переосмыслению категории «государствообразующего народа», опираясь на мнение историка Николая Трубецкого о том, что само объединение почти всей территории современной России под властью одного государства было впервые осуществлено не русскими славянами, а туранцами-монголами (с. 186). В отношении же «государствообразующего народа» как материи очень тонкой и деликатной позиция автора безупречна: он предлагает считать таковым любой этнос, «чьё месторазвитие оконтурено рубежами России» (с. 186). Особая роль русского народа связана не с его историческими заслугами, а исключительно с тем, что он цементирует многонациональную и многоконфессиональную страну. «“Не сохраним русских – сами все потонем…” проще и эмоциональнее сформулировал этот крайне важный тезис… молодой крымский татарин, с которым автору довелось общаться в Севастополе весной 2014 года… Российская Федерация… должна, как видится, во всё возрастающей мере трансформировать себя в органичный симбиоз больших и малых “государствообразующих народов”, разделяющих ответственность за единство страны, её безопасность, благополучие, грядущую евразийскую судьбу» (с.187).
Значение тюркского фактора рассматривается и в широком международном контексте, причём в трёх аспектах: отношений между Россией и тюркскими постсоветскими странами, их отношений с Турцией с её политикой неоосманизма и взаимодействия с другими внешними центрами сил – Китаем, США, Евросоюзом. Отмечается, что в 2010 г. ВВП России превышал совокупный ВВП пяти постсоветских тюркских стран в девять раз, а в 2018 г. – только в пять (с. 201). Роль Китая не следует ни преуменьшать, ни преувеличивать. Существуют все необходимые предпосылки для сопряжения различных интеграционных проектов таким образом, чтобы сотрудничество преобладало над соперничеством. «Аналогичного рода системы совместных альянсов должны выстраиваться, впрочем, и между Россией и Турцией, а также Россией и Ираном» (с. 210). Однако возможности эти используются далеко не в полной мере, чему свидетельством и существенное снижение миграционной привлекательности РФ для тюркских постсоветских стран (таблица 55 на с. 211). В этой связи автором горячо приветствуется увеличение квот для студентов из указанных стран в российских вузах – «из 181,5 тыс. иностранных студентов, въехавших в нашу страну в первой половине 2019 года – 59,3 тыс. из Казахстана и 14 тыс. из Узбекистана» (с. 212).
Подробный анализ экономических отношений с Турцией (в их политическом контексте) в постсоветский период завершается выводом о том, что пределы внешнеэкономического сотрудничества наших стран на данном уровне их социально-экономического развития практически уже достигнуты. Соответственно, приобретает первостепенное значение расширение двусторонней повестки в пользу общегуманитарной, образовательной составляющих, что позволит поставить хозяйственные связи на более прочную основу, подкрепив их взаимопониманием между народами (с. 232–233). Двусторонние и многосторонние гуманитарные связи в самой широкой их трактовке становятся особенно важными на закате второй глобализации, они должны помочь нам всем с наименьшими потерями дожить до третьей, ждать которую ещё лет пятнадцать.
Взгляд географа на территориальную организацию страны в свете стоящих перед ней геополитических и геоэкономических задач также не может быть преисполнен оптимизма, причём, к сожалению, по многим причинам. Предстоящий стране грандиозный манёвр крайне затруднён наличием на наших западных рубежах зависимого от США Евросоюза, а на восточных – ещё более зависимых Японии и Южной Кореи. В этих условиях для России существует реальная опасность постепенного превращения в младшего партнёра Китая. В общественном сознании, кажется, уже укоренилось представление о том, что развитие Большой Евразии в огромной степени будет определяться отношениями между Китаем и Индией. Между тем под наши традиционно хорошие отношения с Индией до сих пор так и не удалось подвести соразмерный экономический фундамент. Этому препятствуют в том числе и неблагоприятные географические факторы.
Нужны не только новые железнодорожные выходы в Китай, необходимо также соединение железных дорог Китая и Индии с полным или частичным использованием знаменитой дороги Стилвелла (Stilwell Road – 1726 км от Лидо в Ассаме до Куньмина), которую союзники начали строить для снабжения армии Гоминдана после оккупации Японией Нижней Бирмы в 1942 году. Завершить этот грандиозный проект до окончания войны не успели, а затем в нём отпала надобность. Предлагаемая железнодорожная магистраль, электрифицированная и двухпутная, отличающаяся по ширине колеи от железнодорожной сети Мьянмы (полностью узкоколейной), могла бы дать выход энергоёмкой и водоёмкой продукции из Сибири на огромный индийский рынок, что особенно важно для товаров с ограниченным сроком хранения и транспортировки. Однако совершенствовать территориальную организацию страны, приводя её в соответствие с геополитическими и геоэкономическими задачами, которые предстоит решать, следует незамедлительно, не делая при этом ставку на гигантские инфраструктурные проекты, осуществление коих может растянуться на десятилетия или не состояться вообще.
Упор должен быть сделан на сотрудничество с Индией в области нематериального производства, а также в тех отраслях промышленности, где производится продукция с очень высокой добавленной стоимостью, допускающая транспортировку воздушным путём (фармацевтика, тонкая химия, приборостроение и другие). Мы вряд ли можем быть удовлетворены уровнем сотрудничества в области образования и науки, хотя здесь есть огромный неиспользованный потенциал. Было бы неплохо сделать Новосибирск, образно говоря, главным на индийском направлении, несмотря на то, что пока он не является главным даже на направлении казахстанском. Такой ход, безусловно, придал бы мощный импульс проекту «Академгородок 2.0». Импульс, который необходим, чтобы возродить уникальный научный центр, созданный с нуля в конце 50-х – начале 60-х гг. прошлого века и ставший в невероятно короткие по историческим меркам сроки третьей научной столицей Союза[17]. Этот проект, возможно, не менее масштабный и значимый для страны, нежели коренная реконструкция Транссиба, мог бы так же стать ярким примером использования потенциала Большой Евразии для решения фундаментальных проблем её развития.
Автор глубоко прав, вкладывая душу и сердце в преодоление недооценки тюркского мира, исключительно важного для настоящего и будущего Отечества. Мы действительно часто этим грешим. Но надо взглянуть ещё дальше и увидеть за хребтами Каракорума (тюркский топоним!) гиганта, который будет всё больше определять расстановку сил в Большой Евразии. Возможно, эта тема заинтересует автора и будет разрабатываться в последующих его книгах.
--
СНОСКИ
[1] К Великому океану: хроника поворота на Восток. Сборник докладов Валдайского клуба. Научный руководитель проекта – С.А. Караганов, научный редактор – Т.В. Бордачёв. – М.: Фонд развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», 2019. – 352 с., ил.
[2] Семёнов-Тян-Шанский В. П. О могущественном территориальном владении применительно к России. Очерк политической географии. Известия Императорского Русского географического общества, 1915. Том LI, выпуск VIII. С. 425–457.
[3] Менделеев Д. И. К познанию России. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1907. 157 с.
[4] Гаспринский И. Русское мусульманство: Мысли, заметки и наблюдения мусульманина. Симферополь: Типография Спиро, 1881. – 45 с.
[5] Тренин Д. От Большой Европы к Большой Азии? Китайско-российская Антанта //«Россия в глобальной политике» https://globalaffairs.ru/articles/ot-bolshoj-evropy-k-bolshoj-azii-kitajsko-rossijskaya-antanta/
[6] Караганов С.А. Россия – возвращение домой (вместо предисловия). Вопросы географии (148): Россия в формирующейся Большой Евразии. Под ред. Котлякова В.М., Шупера В.А. – М.: Издательский дом «Кодекс», 2019. С. 9–15. http://www.igras.ru/sites/default/files/Вопросы%20географии%20Россия%20в%20формирующейся%20большой%20Евразии.pdf
[7] Вардомский Л. Б. Между Европой и Азией: о некоторых региональных особенностях участия России в формирующейся Большой Евразии. Там же. С. 144–166.
[8] Суслов Д. В., Пятачкова А. С. Большая Евразия: концептуализация понятия и место во внешней политике России. Там же. С. 16–53.
[9] Безруков Л. А. Евразийская континентальная интеграция в экономико-географическом измерении: предпосылки, трудности, новые возможности. Там же. С. 228–262.
[10] Gibbs J.P. The Evolution of Population Concentration. Economic Geography, 1963, vol. 39, No 2. — P. 119-129.
[11] Безруков Л. А. Континентально-океаническая дихотомия в международном и региональном развитии. Новосибирск: Академическое издательство «Гео», 2008. – 369 с.
[12] Савицкий П. Н. Континент-океан (Россия и мировой рынок) // Савицкий П.Н. Континент Евразия. – М.: Издательство «Аграф», 1997.
[13] Безруков Л. А. Экономико-географическая концепция евразийства и её развитие на современном этапе // Социально-экономическая география. Вестник АРГО. 2015, №4. С. 12-24 (https://argorussia.ru/sites/default/files/2019-12/Вестник%20АРГО%202015%20.pdf)
[14] К Великому океану: хроника поворота на Восток. Сборник докладов Валдайского клуба. Научный руководитель проекта – С.А. Караганов, научный редактор – Т.В. Бордачёв. – М.: Фонд развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», 2019. – 352 с., ил.
[15] Безруков Л. А. Экономико-географическая концепция евразийства и её развитие на современном этапе // Социально-экономическая география. Вестник АРГО. 2015, №4. С. 12-24. Ссылка: https://argorussia.ru/sites/default/files/2019-12/Вестник%20АРГО%202015%20.pdf
[16] Братерский М. Далеко ли до войны? Журнал «Россия в глобальной политике», №3, 2020. Ссылка: https://globalaffairs.ru/articles/daleko-li-do-vojny/
[17] Маркова В.Д., Селиверстов В.Е. Программа «Академгородок 2.0»: проекты и образовательный потенциал // Мир экономики и управления, 2019. Т. 19, № 4. С. 66–86. Ссылка: https://journals.nsu.ru/upload/iblock/cb9/06.pdf

ДОГОВОР ШРЁДИНГЕРА: ИРАНСКАЯ ЯДЕРНАЯ СУПЕРПОЗИЦИЯ
АНДРЕЙ БАКЛИЦКИЙ
Консультант ПИР-Центра, аналитик Института международных исследований МГИМО МИД России.
В квантовой физике суперпозицией называют одновременное существование системы в двух взаимоисключающих состояниях. Электрон находится в двух местах сразу, ядро радиоактивного элемента и распалось, и не распалось, а всем известный кот Шрёдингера и жив, и мёртв в то же самое время.
Конечно, в масштабах макромира квантовые эффекты не действуют. Но если поискать аналогии в сфере международной безопасности, нельзя не заметить параллели с ситуацией вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранской ядерной программе и с ирано-американскими отношениями в целом. С одной стороны, СВПД однозначно существует. Документ подписан в 2015 г. Ираном, Россией, Китаем, Великобританией, Францией, Германией и США, а затем поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН 2231. Несмотря на выход Вашингтона в 2018 г., оставшиеся участники подчёркивают, что договорённости продолжают действовать. Собираются заседания Совместной комиссии в рамках СВПД, а стороны время от времени заявляют, что запускают предусмотренный соглашением механизм разрешения споров.
С другой стороны, санкции Соединённых Штатов заставили большую часть иностранных компаний прекратить сотрудничество с Ираном, обрушили экспорт иранской нефти и фактически ликвидировали всю экономическую составляющую соглашения. В ответ Тегеран снял практически все ограничения на развитие ядерной программы и постепенно приближается к уровням, существовавшим до договорённостей
Сопротивление оставшихся участников СВПД (в первую очередь евротройки) американскому давлению тоже проходит по классу суперпозиции. На бумаге оно выглядит вполне убедительно – ЕС обновил своё блокирующее законодательство, запрещающее европейским компаниям выполнять санкции Вашингтона и защищающее их от американских судов. Был разработан отдельный механизм для торговли с Ираном, изолированный от финансовой системы США. При этом европейские компании массово ушли с иранского рынка, проигнорировав «защитные» меры. Финансовый механизм INSTEX сосредоточился на торговле товарами, и так не попадающими под санкции, но и тут за почти два года существования дело не зашло дальше тестовых операций. Надежда на Китай тоже не оправдалась: несмотря на громкие заявления и подписания совместных документов, после возобновления американских санкций объемы торговли упали в разы.
Наконец, нет определённости и в самой опасной военной сфере. Тегеран и Вашингтон, как и Тегеран и Тель-Авив, формально не находятся в состоянии войны, полномасштабные боевые действия тоже не ведутся. В то же время американцы взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, а иранские вооружённые силы нанесли ракетный удар по американской базе в Ираке. Менее очевидные кибератаки, загадочные взрывы в Иране и использование негосударственных группировок в регионе практически не прекращаются.
В такой «международной суперпозиции» есть и минусы, и плюсы. Главный плюс – пока структура сохраняется, к ней всегда можно вернуться. Тегеран неоднократно заявлял: как только Вашингтон начнёт выполнять свои обязательства, Иран ответит взаимностью.
Необъявленную войну также легче прекратить и сделать вид, что ничего не было.
Минус заключается в том, что суперпозиция рискует «схлопнуться», реализовав один из двух вариантов. И руководство Соединённых Штатов и Израиля предпочли бы, чтобы в результате СВПД перестал существовать.
Первая попытка раскачать систему уже реализуется. Администрация США пытается предотвратить отмену оружейного эмбарго в отношении Ирана, которая, согласно резолюции 2231, запланирована на октябрь. Вашингтон хочет провести своё предложение через СБ ООН, но шансы невелики, учитывая российское и китайское вето. В этом случае довольно высока вероятность того, что США попытаются воспользоваться «механизмом самоуничтожения» резолюции 2231 и восстановить санкции ООН в отношении Тегерана. Подобный шаг привёл бы к созданию ещё ряда квантовых парадоксов. Вашингтон одновременно не был бы участником СВПД в том, что касалось обязанностей, но претендовал бы на членство в соответствии с резолюцией 2231 для того, чтобы запустить «механизм самоуничтожения». Более того, если американцы предпримут такую попытку, а другие члены СБ ООН откажутся признавать её легитимность, сама резолюция 2231 окажется в своего рода суперпозиции – для разных стран она будет либо действовать, либо не действовать, со всеми вытекающими для Совета Безопасности последствиями.
Наконец, есть свидетельства в пользу того, что определённые силы взяли курс на разогрев ситуации и в военном плане.
Непрекращающаяся кампания саботажа на территории Ирана вышла за рамки ядерного комплекса и нацелена на инфраструктуру в широком смысле. Резкий ответ Тегерана в ядерной либо в военной сфере может быть использован как предлог для наращивания давления. Открытый военный конфликт в регионе может окончательно похоронить возможности возвращения к СВПД.
Но самым важным событием, после которого суперпозиция СВПД окажется невозможной, станут ноябрьские президентские выборы в Соединённых Штатах. Кандидат от демократов Джозеф Байден заявлял, что готов вернуться к соглашению, заключённому его демократическим предшественником. Этот процесс тоже не будет простым – слишком много случилось за четыре года, изменились и Иран, и США, – но возможность остаётся. Ну а в случае переизбрания Дональда Трампа ещё четыре года неопределённости не устроят никого. Великобритании, Германии, Франции, да и КНР, придётся делать выбор – бросить вызов Вашингтону и начать широкое экономическое взаимодействие с Ираном либо признать, что СВПД завершился, и жить в мире с неограниченной ядерной программой Тегерана и пылающим Ближним Востоком.
Данный комментарий был заказан Международным дискуссионным клубом «Валдай» и впервые опубликован на сайте клуба в разделе «Аналитика» https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/.

ФЛОТ УМЕРЕННОЙ ГЛОБАЛЬНОСТИ
ИЛЬЯ КРАМНИК
Эксперт Российского совета по международным делам.
Развивающийся глобальный кризис способен серьёзно повлиять на экономические возможности ряда стран, в том числе и в части военных расходов, изменив приоритеты военного строительства и облик вооружённых сил. Пока рано говорить о том, насколько глубоким окажется спад, однако самое время попытаться спрогнозировать трансформации, которые он вызовет, в том числе и в таких инерционных системах, как военно-морское строительство.
Пандемия COVID-19 внесёт свой вклад в изменения, но её воздействие может быть различным в зависимости от того, как будут развиваться события в странах третьего мира и как быстро появится эффективная вакцина и/или человечество иным образом выработает устойчивый иммунитет к этому заболеванию.
Перенос на Восток
Прежде чем говорить об ожидаемых изменениях, стоит проанализировать предкризисную ситуацию, от которой они будут отсчитываться.
Ключевой тенденцией развития военно-морских сил в мире предшествующего периода можно назвать перенос развития мировой морской мощи на Восток, в первую очередь – в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Ещё в начале 2000-х гг. распределение мест в рейтинге ведущих морских держав примерно соответствовало ситуации по состоянию на конец холодной войны, с той разницей, что отрыв лидера (США) от второго места (Россия) заметно возрос по сравнению с 1980-ми гг., а к концу 2010-х гг. ситуация изменилась коренным образом. Если исключить стратегические ядерные силы, то топ-5 морских держав, в который в 2000 г. входили Соединённые Штаты, Россия, Великобритания, Франция и Индия, сегодня выглядит совсем иначе.
Американские ВМС сохраняют первое место, при этом ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), уступая американскому флоту по совокупным боевым возможностям, обогнали его по общей численности кораблей основных классов. На третьем месте Россия – несмотря на принимаемые меры, постсоветская деградация ВМФ РФ пока не остановлена. На четвёртом и пятом местах располагаются морские силы самообороны Японии и ВМС Индии, боевые возможности которых растут. Таким образом, впервые со времён эпохи великих географических открытий в числе ведущих военно-морских сил мира нет ни одного флота «старой Европы». Особенно заметно изменение удельного веса британского Королевского флота, некогда игравшего роль глобальной морской силы Запада, которую сегодня исполняют ВМС США. Уступая по численности боевых единиц основных классов всем флотам первой пятёрки, в Европе он отстает и от ВМС Франции, находясь примерно на одном уровне с итальянскими. Замыкают мировую десятку ещё два азиатских флота – южнокорейский и турецкий.
Распределение мест в рейтинге в целом объяснимо как ростом экономических возможностей стран АТР, так и инерцией предыдущих периодов. Подъём азиатских флотов характеризуется не просто количественным наращиванием, но и обретением принципиально иных качеств. Так, ВМС НОАК перешли от строительства флота прибрежной и ближней морской зоны к созданию флота дальней морской и океанской зоны. Ключевыми приобретениями стали вновь созданные авианосные силы, активное развитие экспедиционных сил, включая строительство десантных кораблей-доков и универсальных десантных кораблей, а также быстрый рост численности неавианесущих кораблей дальней морской и океанской зоны – эсминцев и фрегатов. Символом качественных изменений стало строительство «больших эсминцев» (фактически – ракетных крейсеров) проекта 055. В настоящее время кораблями такого класса располагают только США и Россия, но ни та, ни другая страна не строит новые уже более двадцати лет.
Качественно меняются и возможности Морских сил самообороны Японии, несмотря на прежнее «пацифистское» наименование представляющие собой полноценный сбалансированный флот с растущими возможностями проецирования мощи. Следует отметить, что Япония наращивает возможности в условиях длительной экономической стагнации, с одной стороны – благодаря американской поддержке, с другой – ввиду резкого расширения возможностей ВМС НОАК. Совершенствование возможностей японского флота, выраженное в получении собственных авианесущих кораблей, дизельных субмарин нового поколения и современных ракетных эсминцев системы «Иджис» вкупе с растущим потенциалом береговой авиации и другими мерами позволяет отвести Японии второе место после КНР среди азиатских морских держав. В сочетании с силами передового базирования ВМС США морская мощь Японии равновешивает китайский подъём. Ещё одной «гирькой» на весах в этом сравнении являются ВМС Южной Кореи, тоже опирающиеся на американскую технологическую поддержку и приобретающие новые качества – в частности благодаря строительству универсальных десантных кораблей.
ВМС Индии, занявшие место в пятёрке сильнейших ВМС мира ещё в 1980-е гг., сохраняют свою позицию и сейчас, также претерпевая качественную трансформацию. Как и КНР, Индия создаёт сбалансированный флот дальней морской/океанской зоны, но с более скромными целевыми показателями, ограниченными в первую очередь необходимостью решения задач в Индийском океане. Признаком качественного перехода в индийском случае является начало собственного строительства авианосца, современных эсминцев и атомных подводных лодок. При этом Индия имеет наиболее широкую географию военно-технического сотрудничества из всех крупных морских держав Азии, приобретая технологии и готовые системы вооружения и в России, и во многих западных странах.
Западная деградация
Оценивая европейские флоты, можно в основном говорить о стагнации – и по экономическим возможностям в сравнении с Соединёнными Штатами и крупными азиатскими державами, и в плане роли в НАТО. За исключением французского и (в меньшей степени) британского и итальянского флотов остальные сведены к небольшим группам лёгких и вспомогательных сил, способных выполнять исключительно второстепенные задачи в операциях ВМС США. Самостоятельные операции требуют сосредоточения многонациональной группировки со всеми вытекающими сложностями формирования и управления, при этом ударный и экспедиционный потенциал, за вычетом уже названных Великобритании, Франции и Италии, отсутствует у стран ЕС.
Характерна «постимперская» деградация британского Королевского флота. В начале прошлого века он безраздельно господствовал на морях, был силой, равновеликой ВМС США ещё в начале Второй мировой войны, занимал второе место в мире с 1943–1944 до конца 1960-х годов. Лебединой песней британских ВМС стала Фолклендская операция – последняя, которую они провели (и могли провести) самостоятельно. В настоящее время, несмотря на строительство авианосцев типа «Куин Элизабет», возможности Королевского флота недостаточны для самостоятельных операций и требуют либо координации усилий с флотами Европы и союзниками из других регионов, либо поддержки Соединённых Штатов. Деградация выражается в последовательной утрате ряда ключевых промышленных компетенций, включая собственную разработку и производство боевых самолётов, управляемого вооружения, энергетических установок и других важнейших систем и узлов.
Увеличились сроки строительства и испытаний новых боевых единиц, а также объёме претензий к качеству. Существенным фактором, который ограничивает боевые возможности Королевского флота, является проходящее красной нитью последние сто лет, начиная с Первой мировой войны, стремление к максимальному удешевлению кораблей новых проектов, что регулярно ведёт к снижению их характеристик – с 1930-х гг. и по сей день.
Несколько лучше дело обстоит во Франции, поддерживающей независимость собственного оборонно-промышленного комплекса, вплоть до производства межконтинентальных баллистических ракет. Вместе с тем, как и в британском случае, отмечается деградация промышленности: увеличение сроков постройки новых боевых единиц и проблемы с состоянием уже имеющихся. При этом Франция уже объявила приоритетной задачей военно-морского строительства на фоне эпидемии поддержание исправности атомного подводного флота (в первую очередь стратегических ракетоносцев) и авианосца «Шарль де Голль».
Среди европейских членов НАТО исключением можно назвать не вполне европейскую Турцию, ВМС которой в докризисный период перешли к строительству универсальных десантных кораблей, а также современных многоцелевых кораблей дальней морской зоны. Впрочем, сразу проявились сложности, вызванные в основном политическими причинами: попытка переворота 2016 г. и последующее охлаждение отношений Турции с партнёрами по НАТО существенно замедлили развитие ВМС страны.
Общей проблемой для всех европейских стран (за исключением Франции) является отсутствие внятных национальных военно-морских доктрин, что заставляет рассматривать флот скорее в качестве инструмента «гуманитарных интервенций» и вспомогательной силы в рамках объединённых сил НАТО. Экономический потенциал многих членов ЕС достаточен для того, чтобы иметь более сильный флот. Речь, прежде всего, о Германии, экономические и промышленные возможности которой позволяют при желании претендовать на место в пятёрке, если не в тройке ведущих морских держав. Но политические интересы, требующие такого военно-морского подкрепления, у Германии отсутствуют.
В стагнации, как это ни странно, находятся и крупнейшие военно-морские силы мира в лице ВМС США. План наращивания численного состава ВМС до 355 кораблей к 2030 г. не реализуем без существенного увеличения финансирования, особенно учитывая необходимость перехода к строительству кораблей и подлодок новых проектов. В частности, существенный объём финансирования потребуется для ввода в строй ПЛАРБ нового типа «Колумбия», которые должны заменить ракетоносцы типа «Огайо» 1980–1990-х гг. постройки.
Начальник военно-морских операций ВМС Майкл Гилдэй, выступая в январе на симпозиуме US Navy 2020, сообщил, что программа создания «Огайо» отвлекла на себя 20 процентов бюджета военного судостроения 1980-х годов. Доля «Колумбии» может оказаться ещё выше и составить 30 процентов, что затруднит поддержание нужной численности сил общего назначения.
«355-корабельный план» был частью обещаний Дональда Трампа в ходе его предыдущей избирательной кампании. При фиксации расходов на ВМС на уровне 34 процентов от общего военного бюджета Соединённых Штатов реализация вряд ли возможна (в 1980-е г. доля, например, составляла 38 процентов). Основная часть расходов приходится на содержание и боевую подготовку имеющихся сил. Бюджетные траты на военное судостроение в последние десять лет колеблются в диапазоне 19–22 млрд долларов в год.
В настоящее время ВМС США насчитывают 293 корабля основных классов, и поддержание этого уровня даётся непросто: для сохранения боевого состава ещё до кризиса потребовалось сократить ряд вспомогательных частей и организаций в структуре ВМС. Возможно, что план наращивания численности ВМС будет осуществлён, в частности, за счёт учёта в этой структуре безэкипажных кораблей и судов, ранее не входивших в номенклатуру основных классов.
Отдельно стоит остановиться на ситуации с ВМФ России, судьба которого отчасти напоминает участь Королевского флота после распада Британской империи.
Унаследовав от СССР крупнейший по численности флот планеты, занимавший по боевому потенциалу в океанской зоне уверенное второе место с огромным отрывом от третьего и последующих игроков, Россия так и не смогла за почти тридцать лет чётко сформулировать цели и задачи для своего флота. Де-факто его роль свелась к обеспечению функционирования морских стратегических ядерных сил, охране исключительной экономической зоны и отдельным походам в рамках боевой учёбы и «демонстрации флага». При этом, помимо внушающего уважение боевого состава и развитой (хоть и недостаточной в ряде случаев) инфраструктуры, флот унаследовал и проблемы. Среди них разнотипица, осложняющая снабжение и боевую подготовку, рассредоточенность между четырьмя театрами, обусловленная географией, и, конечно, несоответствующий боевым возможностям политический вес. Последнее ведёт к тому, что флотские программы традиционно стоят последними в очереди на финансирование и первыми – на секвестр. Не говоря уже о том, что сама разработка этих программ ведётся с куда меньшим уровнем политического внимания и научной экспертизы, чем требуется для флота такого класса.
В 2000-е гг. ситуация начала меняться. Однако в тот период денег на обновление ВМФ ещё не было, а в следующем десятилетии выработанная более или менее и начавшая воплощаться в жизнь концепция создания сбалансированного флота, способного действовать как у своих берегов, так и в дальней морской/океанской зоне, была подорвана несколькими взаимосвязанными факторами. Среди них – разрыв военно-промышленной кооперации с Украиной, западные санкции и общая экономическая рецессия. Эти факторы наложились на деградацию российской судостроительной промышленности в постсоветский период, восполнить недостаток мощностей которой в условиях санкций затруднительно.
Сама по себе необходимость поддержания боеспособного флота осознаётся, особенно после начала сирийского конфликта, что выразилось, в частности, в указе президента от 20.07.2017 № 327 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года». Основной пункт, вызвавший наиболее оживлённое обсуждение, – требование обеспечить ВМФ России второе место в мире по боевым возможностям. По сути, это означает, что российский флот может уступать только ВМС США, при этом тот же документ (статья 39, параграф V) гласит: «Российская Федерация не допустит существенного превосходства военно-морских сил других государств над Военно-морским флотом».
В настоящее время этот параметр выполняется только с учётом стратегических ядерных сил, в то время как по возможностям сил общего назначения ВМФ России уже заметно уступает ВМС НОАК, а с учётом географического фактора на каждом отдельно взятом театре военных действий и флотам наиболее сильных региональных игроков.
Кризисное будущее: крупные игроки
Особенностью развития военно-морских сил является инерционность, чрезвычайная длительность жизненного цикла основных проектов в этой сфере, сравнимая с продолжительностью человеческой жизни для боевых кораблей и превышающая её – для инфраструктуры и концепций применения. С одной стороны, это делает флоты менее уязвимыми для сиюминутных колебаний экономической конъюнктуры. С другой – серьёзно ограничивает возможности развития в кризисный период, когда горизонты планирования сокращаются и никто не готов взять на себя ответственность за запуск проектов, требующих многомиллиардных вложений и планирования на десятки лет вперёд.
Исходя из сказанного, нельзя утверждать, что кризис окажет серьёзное влияние на развитие флотов восточноазиатских государств. Вместе с тем интенсивность этого развития будет прямо зависеть от общего состояния мировой экономики, в первую очередь от того, с какой скоростью будут восстанавливаться европейские и американские рынки. Крупнейшие державы Восточной Азии – Япония и Китай – способны применить американский подход: поддержка экономики через государственные расходы, в том числе военные, была характерна для Соединённых Штатов в разгар Великой депрессии в первой половине 1930-х годов. Тогда США профинансировали строительство почти двух десятков крейсеров, четырёх авианосцев и большого количества кораблей других классов для своих военно-морских сил.
При этом, если в первой половине 1930-х гг. военно-политическая обстановка не делала эти затраты необходимыми для Вашингтона, то основные игроки АТР находятся в ситуации гонки морских вооружений, причём для Китая и Соединённых Штатов эта гонка не уступает по накалу морскому состязанию Германии и Великобритании в 1890–1910-х гг. или СССР и США двумя поколениями спустя.
Кроме того, стимулом выделить средства на финансирование военных программ, включая военно-морские, в случае Японии и Соединённых Штатов может быть стремление удешевить свои валюты, чтобы ускорить восстановление экспорта на период выхода из кризиса. В этих условиях предложения, увеличивающие инфляцию, могут рассматриваться как оправданные.
Поведение США практически наверняка будет определяться вышеупомянутой моделью периода Великой депрессии, что уже подтверждается приказом заместителя министра обороны США Эллен Лорд, отвечающей за закупку ВиВТ, от 22 марта 2020 года. Приказ касается необходимости сохранения военного производства и обозначает приоритетные направления. В их качестве определены: аэрокосмический сектор; инженерно-технический персонал; сотрудники производственных предприятий; IT-отрасль; силы безопасности; средства разведки; персонал и средства обслуживания летательных аппаратов и вооружения; поставщики лекарств и медтехники; критически важные транспортные возможности.
Наиболее существенным отличием от ситуации Великой депрессии является смена приоритетов: вместо флота ключевыми направлениями становятся ВВС и космическая группировка. Скорее всего, это повлияет на упомянутые выше планы наращивания боевого состава ВМС США до 355 кораблей, которые так и останутся на бумаге. Отказ от увеличения численности ВМС ещё более вероятен с учётом возможного досрочного списания ряда имеющихся кораблей и подлодок, чтобы получить возможность заказать новые – для поддержки промышленных мощностей, занятости и производственной кооперации. Под удар могут попасть также перспективные разработки на ранних стадиях, генерирующие в основном расходы при минимальном эффекте в виде рабочих мест и загрузки производственных мощностей.
Россия более ограничена в средствах поддержания собственного промышленного производства, чем Соединённые Штаты. Стимулирование оборонных производств и разработок за счёт дополнительной эмиссии может повлечь за собой девальвацию рубля, что невыгодно, в частности, в силу зависимости российской экономики от импорта. Тем не менее ограниченные меры такого рода возможны, как и поддержка промышленного производства за счёт средств Фонда национального благосостояния. Ограниченность поддержки в сочетании с низкой приоритетностью военно-морских программ как таковых повлечёт за собой отказ от ряда перспективных проектов. Относительно флота – это отмена (либо отсрочка) проектирования перспективного авианосца, строительства собственного «большого эсминца» (ракетного крейсера) нового поколения и, возможно, отказ от ряда объектов инфраструктуры, в том числе в Арктике.
Учитывая уже накопленный негативный опыт регулярного срыва сроков и выхода за рамки финансирования, под секвестр почти наверняка попадут планы модернизации кораблей советской постройки. Во всяком случае – их урежут раньше, чем планы строительства новых боевых единиц.
Второй эшелон: совместное выживание
Подавляющее большинство военно-морских держав второго эшелона, включая таких участников топ-5, как Япония и Индия, критически зависят от зарубежных поставок и технологической поддержки. В таком же положении и большая часть стран – членов ЕС, а также находящаяся в процессе выхода из единого экономического пространства Великобритания. Данная ситуация сложилась в 60–70-е гг. прошлого века, когда с окончательным наступлением ракетно-ядерного периода развития флотов оказалось, что полноценными цепочками разработки и производства современных боевых надводных кораблей и подлодок (как и большинства других видов ВиВТ) обладают только две страны – США и Советский Союз. С рядом оговорок к этой категории относилась Франция.
На сегодня полноценной независимостью в сфере ВПК не обладает ни одна страна. Но там, где Соединённые Штаты решают проблемы за счёт большого количества партнёров по различным формам кооперации, а Россия вынуждена в ряде случаев использовать заведомо менее эффективные решения ввиду затруднённого доступа к современным технологиям, страны второго эшелона чаще всего не имеют выбора вообще.
При необходимости обновления арсеналов они вынуждены обращаться либо к прямым зарубежным поставкам, либо к тем или иным формам совместных проектов.
Развивающийся кризис способен оказать на подобные проекты двоякое влияние. С одной стороны, потребность в них возрастёт – кооперация с совместной разработкой и постройкой позволяет снизить затраты для каждого из участников. С другой – головные разработчики будут стремиться оставить своей промышленности максимально возможную долю стоимости, снизив локализацию у младших партнёров. Неизбежное снижение военных расходов (не только в силу кризиса, но и вследствие осознанной в последние месяцы необходимости увеличить финансирование здравоохранения) может привести к массовому пересмотру военных программ странами второго эшелона.
Подобный пересмотр чреват различными последствиями. Одно из наиболее вероятных, помимо массового сдвига сроков перевооружения у стран, зависящих от зарубежных поставок ВиВТ, – переход к закупкам упрощённых образцов военной техники, включая боевые корабли. Простейшим примером таких решений является использование приёма FFBNW (fitted for but not with) – закупка техники «в минимальной комплектации» с ограниченным функционалом – например, с урезанным комплектом вооружения, неполным набором радиоэлектронного оборудования. Это позволяет, с одной стороны, получить необходимое вооружение и технику, с другой – не переплачивать за возможности, которые могут не понадобиться прямо сейчас и которые можно реализовать впоследствии, когда появятся деньги на дооснащение и модернизацию ранее полученных кораблей, самолётов и так далее.
В ряде случаев этот приём используется и головными разработчиками – как, например, ставшая уже традиционной закупка британским Королевским флотом эсминцев без противокорабельных ракет или постройка для ВМФ России фрегатов проекта 11356 с сокращённым набором противолодочного оборудования и средств ПВО, поставка первых серийных малых ракетных кораблей проекта 22800 без штатного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» и ряд других примеров.
Ещё один метод – вывод на рынок исходно упрощённых моделей. Так, из-за очень высокой стоимости современных боевых надводных кораблей большой популярностью на рынке морских вооружений пользуются так называемые патрульные корабли (OPV – Offshore Patrol Vessel), базовая комплектация которых исходно предусматривает в основном функционал береговой охраны и защиты судоходства, но не ведения боевых действий против вражеского флота. Зачастую удешевление достигается за счёт использования норм живучести, принятых в коммерческом судоходстве, – без формирования зон живучести с автономным энергообеспечением отсеков и упрощённым составом главной энергетической установки и без применения COTS-технологий (Commercial Off-The-Shelf) в бортовом радиоэлектронном оборудовании, то есть без готовых коммерческих технологий и оборудования, доступного на гражданском рынке.
Как правило, конструкция OPV позволяет при необходимости доукомплектацию и довооружение, особенно при использовании модульных конструкций, всё больше входящих в практику.
В таком удешевлённом виде исполняются боевые корабли самых разных классов. Так, массовое использование технологий коммерческого судостроения характерно для многих проектов десантных кораблей, включая УДК «авианосного» типа, в частности корабли «Мистраль», в своё время заказанные (но так и не полученные после событий 2014 г.) ВМФ России. Это обеспечивает заметную экономию – 20-тысячетонный «Мистраль», способный перевезти усиленный батальон морской пехоты с бронетехникой и артиллерией и решать ряд других задач, доступных для многоцелевого вертолётоносца с большим грузовым отсеком, стоил в начале 2010-х гг. около 450 млн евро – дешевле большинства современных фрегатов.
Стоит отметить, что появление метода упрощения и удешевления авианесущих кораблей за счёт использования в их конструкции технологий и норм гражданского судостроения (или просто строительства на основе пассажирских/грузовых судов) совпадает по времени с появлением авианосцев как класса – первый в мире авианосец классической компоновки, корабль Его Величества «Аргус», введённый в строй в сентябре 1918 г., исходно сооружался как пассажирский лайнер.
Упрощение конструкции самих кораблей и минимизация состава вооружения отчасти может быть компенсирована развитием смежных направлений – например, закупкой беспилотных аппаратов и морских патрульных самолётов, использование которых позволяет компенсировать нехватку оборудования на кораблях, предоставляя при этом более широкие возможности, в том числе и боевые.
Вероятные сценарии: что может пойти не так?
Любые решения имеют ограниченный диапазон сценариев, в рамках которых они технически применимы. Можно выделить несколько групп факторов, способных существенно повлиять на посткризисное развитие военно-морских сил стран мира.
Углубление экономического кризиса. Продолжающееся ухудшение экономической обстановки вследствие возможной новой волны (нескольких волн) распространения COVID-19, что было характерно для ряда великих пандемий прошлого, окажет существенное влияние на экономики стран первого мира. Вероятное дальнейшее ухудшение способно заставить многие государства принципиально пересмотреть структуру расходов, не говоря уже о резком сокращении доходов при регулярных карантинных мерах и политико-экономических последствиях. Вероятность данного сценария прямо зависит как от субъективных факторов – способности современной науки создать эффективную вакцину/лекарство, так и от объективных – способности человеческого организма приспособиться к новому вирусу и способности последнего к мутации.
Неблагоприятное развитие событий в этом случае способно поставить под угрозу перспективы развития флотов первого эшелона, включая ВМС США и ВМС НОАК, заставив руководство Соединённых Штатов и КНР отложить или, возможно, отменить ряд программ. В наихудшем случае развития экономического кризиса прогнозирование событий не представляется возможным.
Деградация альянсов и суверенизация обороны. Усугубление экономических проблем способно повлечь за собой политические последствия в виде переоценки рядом стран своего участия в существующих международных институтах и значения этих институтов для национальной безопасности. Первой ласточкой может оказаться Турция, претендующая на роль регионального лидера и имеющая набор неразрешённых противоречий с союзниками по НАТО. Усугубление противоречий, независимо от того, последует формальный выход Турции из НАТО или нет, подтолкнёт ряд стран к необходимости самостоятельно гарантировать безопасность или как минимум диверсифицировать риски на случай, если интересы национальной безопасности вступят в конфликт с союзническими обязательствами. В части флота и обороны в целом это может привести к ревизии ряда совместных проектов/экспортных контрактов, реализация которых окажется под угрозой в силу политических противоречий – подобно тому, что произошло с планами Турции закупить американские истребители F-35.
Часть наиболее развитых стран второго эшелона станет стремиться к повышению самостоятельности в обеспечении собственной национальной обороны. Но для многих деградация альянсов и совместных проектов будет означать либо вынужденный переход на прямой импорт зарубежной техники уже без участия в совместных разработках и производстве, либо переход на более простые, но реализуемые собственными силами решения.
Дефицит стабильности. Даже в случае победы над COVID-19 и преодоления экономического кризиса ведущими странами без катастрофических потерь и революционных преобразований под вопросом остаются последствия происходящего для стран третьего мира. Там не исключено развитие событий по неблагоприятным сценариям в силу ограниченных экономических возможностей и политической нестабильности. Последствия пандемии, наложенные на экономический кризис, чреваты коллапсом слабых государственных режимов с расширением имеющихся и появлением новых «серых» и «чёрных» зон, территорий с ограниченным либо отсутствующим государственным управлением и ограниченным, в силу невозможности гарантировать безопасность, доступом. Сокращение военных возможностей крупных держав вследствие кризиса может подарить таким зонам долговременное существование.
Примерами подобных зон с ослабленным или отсутствующим де-факто государственным управлением может стать Афганистан, ряд районов Пакистана, многие страны Ближнего Востока, Африки, в том числе северной, Латинской Америки и другие. Расширение таких зон неизбежно повлечёт за собой рост, в том числе на море, спроса на асимметричные инструменты влияния, в первую очередь – на частные военные компании и иные формы услуг наёмников, обеспечивающих интересы стран первого-второго эшелона. Подобное развитие событий в приморских регионах может привести к возрождению пиратства и нелегального морского бизнеса (наркотрафик, контрабанда, работорговля и так далее). Впрочем, ничего нового – пиратство всегда активизируется во времена глубоких кризисов и упадка контролирующих морские пути великих держав.
Выводы
В случае развития событий по умеренному сценарию наиболее вероятным представляется усугубление таких наблюдавшихся и до начала глобального кризиса явлений, как опережающий рост морской мощи стран АТР, особенно Китая, Японии, Южной Кореи, на фоне стагнации флотов Европы и США. Неблагоприятные последствия кризиса в сочетании с сокращением военных расходов могут повлечь активизацию пиратства и нелегального морского бизнеса в регионах, где государственная власть и экономика пострадают особенно сильно. Под угрозой, помимо актуальных на сегодня районов, окажутся и исторические районы активного судоходства – такие, как Средиземное море, Мексиканский залив и Карибское море, моря Юго-Восточной Азии.
Последствиями кризиса для строительства флотов и военно-технического сотрудничества в военно-морской сфере можно назвать заморозку ряда программ, существенное сокращение расходов на новые проекты в ранней стадии развития, растущий интерес к дешёвым решениям с максимальным использованием технологий коммерческого судостроения и COTS-подхода. Эти последствия будут проявляться тем сильнее, чем более существенным окажется ущерб, нанесе?нный кризисом.

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА ТОГДА И ТЕПЕРЬ: В ЧЁМ РАЗЛИЧИЯ?
ВИКТОР МУРАХОВСКИЙ
Эксперт Российского совета по международным делам.
В не столь далёком 2007 г. политологи осторожно задавались вопросом: приключится ли новая холодная война[1]? В 2014 г. уже призывали не допустить новой холодной войны[2]. Сегодня это явление считают состоявшимся и термин «холодная война 2.0» используют в фундаментальных трудах[3]. Действительно, в противостоянии Советского Союза (стран Варшавского договора) и Соединённых Штатов (стран Североатлантического договора) после Второй мировой войны и сегодняшней политикой сдерживания США «стран-ревизионистов» – Китая и России – есть некоторые общие черты[4].
По ряду формальных, внешних признаков холодная война в первой и второй версиях весьма схожи. Но между ними есть и фундаментальные различия, которые позволяют сомневаться в правомерности применения термина «холодная война» к современным отношениям соперничающих великих держав. Не являясь специалистом в международных отношениях и политологии, рискну предложить обзор различий в военных аспектах.
Ключевая характеристика текущей ситуации – появление третьего участника «большой игры», Китайской Народной Республики. Это вполне самостоятельный субъект военной стратегии, придерживающийся собственных интересов и принципов, не примыкающий по умолчанию ни к одной стороне. В данном обзоре КНР не рассматривается, поскольку страна не была активным участником холодной войны.
Многогранность и размах военного противоборства в годы холодной войны и в наши дни требуют обширного исследования, которое невозможно упаковать в одну статью, – этим объясняется «телеграфный» стиль изложения, присущий скорее военным сводкам.
Численность вооружённых сил[5]
В период холодной войны стороны активно готовились к глобальной «горячей» войне, в том числе с применением ядерного оружия и/или другого оружия массового поражения. Вооружённые силы в основном комплектовались призывным контингентом. Их численность была рассчитана на длительное ведение боевых действий высокой интенсивности с большими потерями. Например, ожидался рост санитарных потерь в 10–20 раз по сравнению со Второй мировой войной[6].
Британская армия после 1960 г. и армия США после 1973 г. стали комплектоваться по контракту, с уменьшением общей численности, в расчёте на качественное превосходство над противником. Офицерский корпус везде состоял из профессиональных военнослужащих. Унтер-офицерский и сержантский состав в ряде стран комплектовался по контракту, во многих странах, в частности в СССР и ФРГ, был смешанным (по контракту и по призыву).
К 1989 г. основные соперники в холодной войне имели следующую численность вооружённых сил.
СССР – после заявленного в декабре 1988 г. одностороннего сокращения ВС на 0,5 млн человек их общая численность составила 4,2 млн военнослужащих; с учётом внутренних, пограничных и железнодорожных войск – 5 млн 960 тыс. человек.
США – 2 млн 130 тыс. 229 военнослужащих действующих ВС, свыше 1,5 млн человек в активном резерве и Национальной гвардии, всего свыше 3,6 млн военнослужащих.
Великобритания – 311 600 военнослужащих.
Франция – 471 тыс. человек.
ФРГ – 456 тыс. военнослужащих.
По завершении холодной войны было радикальное сокращение численности вооружённых сил основных участников противостояния: более чем четырёхкратное в России, в 2–2,5 раза у ведущих европейских стран НАТО, в 1,7 раза – в Соединённых Штатах. Российская Федерация перевела вооружённые силы на смешанный принцип комплектования, их численность после 2008 г. не превышает 1 млн человек. В американских вооружённых силах состоят 2 млн 213 тыс. военнослужащих (армия, ВМС, морская пехота, ВВС, силы специальных операций, национальная гвардия). Великобритания имеет вооружённые силы численностью 144 650 человек. Во Франции с 1997 г. вооружённые силы комплектуются по контракту, их численность 268 тысяч. ФРГ отменила призыв в 2011 г., сейчас контрактные вооружённые силы страны насчитывают менее 183 тыс. человек.
В целом армии основных соперников в холодной войне сегодня сократились в несколько раз по личному составу и основным образцам вооружения. Это не позволяет им содержать развёрнутые группировки, необходимые и достаточные для ведения глобальной войны или масштабного регионального конфликта. Даже менее масштабные конфликты низкой интенсивности вынуждают их привлекать активные резервные компоненты вооружённых сил. Так, США приходится для операций в Афганистане, Ираке, Сирии использовать на постоянной основе войска Национальной гвардии[7]. Сегодня часть задач в военных операциях перекладывают на негосударственные вооружённые формирования, обычно в формате частных военных кампаний, а также местные союзные силы.
Гонка вооружений
В годы холодной войны под гонкой вооружений подразумевался качественный прогресс, наращивание номенклатуры и количественное насыщение войск современными образцами оружия, военной и специальной техники (ВВСТ). При этом количество ВВСТ, содержащегося в мирное время, рассчитывалось, исходя из обеспечения высокой интенсивности боевых действий и восполнения потерь по меньшей мере в начальный период войны, во время развёртывания мобилизационного производства. Так, по состоянию на 1989 г. войска ОВД и НАТО имели на европейском театре военных действий соответственно: танков – 59470 и 30690, орудий и миномётов – 32390 и 24200, боевых вертолётов – 2785 и 5270, боевых самолётов – 7876 и 7130.
На пике холодной войны можно отметить следующие особенности гонки вооружений.
Количество межконтинентальных носителей ядерного оружия и ядерных боевых частей позволяло накрыть зонами поражения и радиоактивных осадков практически все населённые территории противостоящих государств (вывод сделан по результатам советского стратегического командно-штабного учения «Решающий удар» 1970 г.)[8].
Высокая насыщенность ядерными боеприпасами военных формирований оперативного и тактического уровня. Ядерными боезарядами оснастили ракеты большой, средней, малой дальности и зенитные, артиллерию калибра от 152 мм и выше и даже американское 120-мм безоткатное орудие. Получили распространение ядерные бомбы, торпеды и фугасы. К середине 1980-х гг. соперники располагали огромными ядерными потенциалами (по 40–50 тыс. ядерных зарядов у каждой стороны)[9]. Договор об ограничении стратегических вооружений 1972 г. (ОСВ-I) между Москвой и Вашингтоном остановил наращивание числа МБР и носителей БРПЛ. Договор 1979 г. (ОСВ-II) установил для стратегических ядерных сил потолок в 2250 единиц с 1981 года. На момент подписания Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I, 1991 г.) США и СССР имели на стратегических носителях 10563 и 10271 ядерный заряд соответственно[10]. Суммарная мощность ядерных зарядов только на МБР составляла 1100 и 6500 мегатонн тротилового эквивалента[11].
В сфере обычных вооружений происходило накопление больших мобилизационных запасов вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ), ракет и боеприпасов, горючего, продовольствия, иных материальных средств. Все страны резервировали и поддерживали мобилизационные мощности промышленности. Отмечался очень высокий темп обновления ВВСТ, обычно характерный для военного времени. Всего за сорок с небольшим лет в вооружённых силах США, СССР, других государств НАТО и ОВД сменилось от трёх до пяти поколений обычных видов оружия и военной техники, и как следствие этого – операции и боевые действия с использованием такого оружия приобрели качественно новый характер. Особенно глубокие сдвиги произошли на рубеже 1970–1980-х гг., когда в развитии классических видов оружия наметилась тенденция, связанная с разработкой и широким внедрением высокоточного управляемого оружия, в том числе разведывательно-ударных систем. В этот период появились и опытные образцы ОНФП — оружия на новых физических принципах. К нему обычно относят лазерное, направленной энергии, электромагнитное, пучковое, гиперскоростное кинетическое.
За тридцать лет после окончания холодной войны (с 1990 по 2020 г.) темпы обновления ВВСТ резко замедлились. Количество ключевых систем вооружения существенно сократилось. Определённый качественный прогресс наблюдается в оперативно-тактической авиации (истребители пятого поколения), высокоточном ракетном оружии, робототехнике, ОНФП, цифровых технологиях. Но «гонки вооружений» в прежнем понимании не происходит. Зачастую передовые системы вооружения поступают в войска в ограниченном количестве и не повсеместно. Большинство основных систем вооружения являются модернизированными вариантами образцов, созданных в годы холодной войны.
Американские и российские стратегические ядерные вооружения ограничены договором СНВ-3 (по развёрнутым носителям – 700 единиц, по боевым частям – 1550 единиц). Фактически на 1 марта 2020 г. стороны имели 655 и 485 развёрнутых стратегических носителей соответственно, 1373 и 1326 ядерных боевых частей.
Мобилизационные запасы и мобилизационные возможности соперников радикально уменьшились, а в ряде стран они фактически ликвидированы.
Не будет преувеличением сказать, что мобилизационная готовность экономик и обществ большинства стран сейчас находятся на самом низком уровне после Второй мировой войны.
Военная стратегия
Общие концепции военной стратегии Соединённых Штатов, нацеленной на глобальную ядерную войну с Советским Союзом, постепенно менялись. С 1971 г. была принята концепция «полутора войн», допускавшая возможность ведения одной всеобщей ядерной и одной локальной войны. В 1980 г. её сменила концепция «двух с половиной войн», которая предусматривала готовность вооружённых сил к ведению двух крупномасштабных войн (ядерной и обычной) и одной локальной. С середины 1980-х гг. появилась концепция «множественности войн». США допускали возможность ведения двух крупномасштабных и нескольких локальных войн в различных регионах мира.
Военная стратегия СССР в ядерную эпоху сначала опиралась на теорию ядерной войны с неограниченным применением ракетно-ядерного оружия с самого начала и до конца боевых действий. Затем получила развитие теория поэтапной войны с последовательным переходом к использованию всё более разрушительных средств. Впоследствии сформировалась стратегия равной готовности. Имелась в виду готовность вести как ядерную, так и обычную войну с широким использованием высокоточных боевых средств и автоматизированных систем управления войсками и оружием.
Стратегия ведения войны в целом координировала действия на различных театрах войны и театрах военных действий. Она определяла цели и задачи всех вооружённых сил, а также иных средств, направленных на поражение противника, уничтожение его экономической базы, вывод из войны государств, которые могли стать противником. Связанная в основном с межконтинентальными действиями стратегических наступательных и оборонительных средств, стратегия объединяла в себе глобальные стратегические операции этих средств и сил.
Суть стратегии ведения войны на театрах военных действий (ТВД) сводилась к разгрому группировок войск и сил противника. Она охватывала и рассматривала главным образом проблемы, касающиеся подготовки и ведения операций на континентальных и океанских ТВД. Такой подход оказался целесообразным после создания главных командований на театрах военных действий. Планирование глобальных операций стало прерогативой Генерального штаба, а подготовка, планирование и ведение стратегических операций на ТВД – задачей соответствующих главных командований.
Для холодной войны характерно наличие боеготовых группировок войск сторон в Европе, находящихся в непосредственном соприкосновении. Европейский театр войны считался ключевым. На Центрально-Европейском и Северо-Европейском стратегических направлениях были сосредоточены основные группировки войск. СССР имел группы войск в ГДР, Польше, Чехословакии и Венгрии. На территории ФРГ размещался воинский контингент США, Великобритании и Франции. Предполагалось, что одновременно с действиями стратегических ядерных сил начнутся крупные наступательные операции на континентальных театрах. Их главные особенности – массированное применение ядерного оружия на всю глубину расположения противника, высокоманёвренные боевые действия и их развитие по отдельным направлениям.
Советский Союз в сентябре 1984 г. сформировал Главное командование Западного направления, объединившее войска в Германии, Польше, Чехословакии, Белорусский и Прикарпатский военные округа. Это было самое мощное стратегическое объединение в мире, включавшее 5 танковых, 6 общевойсковых и 5 воздушных армий. К 1989 г. на Западном направлении насчитывалось 50 дивизий – 26 танковых и 24 мотострелковые, из которых 35 были развёрнуты до полного штата. Для действий на Южно-Европейском направлении было сформировано Главное командование Юго-Западного направления, которому подчинялись войска в Венгрии, Киевского и Одесского военных округов: 2 общевойсковых и танковая армии, 22 дивизии[12].
Страны НАТО формально имели меньшее число дивизий и бригад сухопутных войск, но по оснащению они ненамного уступали армиям ОВД. В ФРГ дислоцировалось 24 дивизии различных типов четырёх стран[13]. Во втором стратегическом эшелоне альянса находилось ещё порядка 20 дивизий и около 30 отдельных бригад различных типов на территории Франции, Бельгии, Испании и Италии. Созданные НАТО и ОВД войсковые группировки в Европе могли начать полномасштабные боевые действия в течение 24 часов, а передовые эшелоны и дежурные средства – немедленно. Существовала возможность развёртывания наступательной конфигурации группировок в течение нескольких суток. Поддерживалась готовность войск вести широкомасштабные боевые действия с применением как обычного, так и ядерного и/или другого оружия массового поражения.
В Мировом океане оперативные флоты, эскадры, корабельные тактические группы и отдельные корабли непрерывно следили друг за другом, готовые к немедленному реагированию. В 1989 г. советский военно-морской флот насчитывал 1005 кораблей и катеров всех классов общим водоизмещением около 3,5 млн тонн. Американские ВМС имели 456 кораблей общим водоизмещение свыше 4,9 млн тонн.
Проводилось планирование и практическая отработка масштабного развёртывания войск второго стратегического эшелона и резервных компонентов. США проводили учения “REFORGER” (REturn of FORces to GERmany, 1969–1993 гг.) по усилению контингента на Европейском ТВД с переброской войск морем и по воздуху.
Советский Союз проводил учения с отмобилизованием соединений и последующим вводом их в сражение. Так, при подготовке манёвров «Запад-81» провели отмобилизование соединений 28-й общевойсковой армии Белорусского военного округа с призывом из запаса десятков тысяч человек, доведя его численность до 130 тыс. военнослужащих[14].
Стороны регулярно проводили масштабные учения с отработкой применения всех видов вооружённых сил и типов вооружений, включая ядерное, по сценарию глобальной войны. Характерным примером являются крупнейшие после Второй мировой войны манёвры «Запад-81» ВС СССР, на которых отрабатывались вопросы подготовки и проведения стратегической наступательной операции на Западном направлении. Самые крупные за послевоенный период учения НАТО прошли в 1988 году. За две недели с территории США в Западную Европу были переброшены 125 тыс. человек, что позволило создать на учениях группировку войск НАТО численностью до 300 тыс. военнослужащих. Средства усиления включали пехотную дивизию, бронекавалерийский полк, две пехотных бригады, батальон пехотного полка Национальной гвардии.
Сегодня соперничающие страны не имеют развёрнутых группировок войск в непосредственном соприкосновении. Единственный регион, где можно (при некотором допущении) заметить лёгкий намек на такое противостояние – Калининградская область и прилегающие территории Польши. Однако масштаб здесь тактический, нет и речи о создании ударных наступательных группировок хотя бы на одном операционном направлении.
После холодной войны значительно сократилось количество кораблей военно-морских сил ведущих держав (за исключением КНР, которая наращивает флот) при некотором повышении боевых возможностей каждой единицы. Уменьшилось число постоянно действующих оперативных флотов и эскадр. Особенно заметно сокращение кораблей океанского класса (дальней морской зоны). В этой категории ВМФ России насчитывает 104 корабля общим водоизмещением 0,76 млн тонн, американские ВМС имеют 221 корабль общим водоизмещением 3,5 млн тонн.
Масштаб нынешних войсковых учений в Европе в разы меньше, чем в годы холодной войны. Заметен акцент на перенос учений, особенно командно-штабных стратегического и оперативно-стратегического уровней, в виртуальное пространство компьютерного моделирования. На крупнейшее за последние 25 лет учение НАТО “DEFENDER-Europe 20” планировалось привлечь 35 тыс. военнослужащих из 18 стран. В том числе 2,5 тыс. человек из Великобритании и около 25 тыс. из США. В крупнейших в новейшей истории России манёврах на Западном стратегическом направлении «Запад-2017» с участием войск Западного военного округа и ВС Белоруссии было задействовано до 13 тыс. военнослужащих.
Военные конфликты
В данном обзоре не затронута тема прямого противостояния СССР и США/НАТО за пределами Европейского ТВД, хотя таковое случалось во время войн в Корее и во Вьетнаме. Правила и «красные линии» холодной войны вырабатывались не за столом переговоров. Пределы возможностей и границы допустимого тестировались в острых конфликтных ситуациях. Переговоры, если и случались, констатировали соотношение сил сторон, сложившееся «по факту».
Например, «красная линия» в Берлине в виде Берлинской стены формировалась в острейшей конфликтной ситуации. Самым опасным эпизодом стал инцидент у КПП «Чарли» американской зоны оккупации в западной части Берлина 26–27 октября 1961 г., когда американские и советские танки с полным боекомплектом целились друг в друга с дистанции пары сотен метров: «кто первым моргнёт».
Правило не нарушать воздушные границы, которое сегодня кажется аксиомой, прописывалось кровью в жёстком противоборстве авиации западной коалиции и советской ПВО в 1950–1960-е годы. Известно о примерно полутора десятках иностранных военных самолётов, сбитых в воздушном пространстве СССР в этот период. Самым резонансным случаем стало уничтожение американского разведывательного самолёта типа U-2 вблизи Свердловска 1 мая 1960 года.
Правила «большой игры» с нулевой суммой также формировались в ходе жёсткого противоборства. Характерны два эпизода с участием ракет средней дальности.
Инициатором первого стали США, разместившие в 1961 г. в Турции ракеты средней дальности «Юпитер» с ядерной боевой частью, в зону досягаемости которых попадала европейская часть СССР, включая Москву. В ответ СССР разместил на Кубе ядерные ракеты Р-12 и Р-14, в зону досягаемости которых попали многие американские города, включая Вашингтон. Вызванный этими действиями Карибский кризис октября 1962 г. считают переломным моментом в холодной войне. Примерно со второй половины 1960-х гг. противостояние постепенно смещалось от прямого конфликта вооружённых сил СССР и США к опосредованному противоборству.
Инициатором второго эпизода стал СССР, размещавший с 1977 г. в европейской части страны комплексы «Пионер» (РСД-10) с ядерными ракетами средней дальности (около 5,5 тыс. км), которые позволяли держать под прицелом всю Западную Европу. К 1987 г. на боевом дежурстве и в арсеналах находилось 650 ракет РСД-10.
12 декабря 1979 г. на саммите НАТО в Брюсселе было принято решение дислоцировать в Европе 572 ракеты средней дальности и предложить Советскому Союзу переговоры по двустороннему ограничению этого вида вооружений. Тем не менее эскалация продолжалась: в Европе развёртывались американские баллистические и крылатые ракеты, СССР разместил в ГДР и Чехословакии оперативно-тактические ракетные комплексы «Ока». Новое руководство, пришедшее к власти в СССР, пошло на односторонние уступки, и 8 декабря 1987 г. в Вашингтоне был подписан договор, по условиям которого стороны согласились уничтожить РСМД как класс вооружения. Это единственный случай в практике международных отношений за всю их историю.
Сегодня предпосылки конфликтных ситуаций возникают в основном в международном воздушном пространстве при идентификации и сопровождении боевых самолётов сторон. При этом интенсивность таких встреч в воздухе на порядок ниже, чем в годы холодной войны. На море интенсивность слежения кораблей друг за другом также в разы меньше, чем во время холодной войны.
Единственным регионом, где войска США и России находятся в непосредственном соприкосновении, является Сирия. При этом между ними заключено соглашение о предотвращении инцидентов, командующие группировками связаны прямой линией деконфликтации. В целом за почти пять лет операции ВС РФ в Сирии вооружённых конфликтов с американскими войсками не отмечено. Такой подход был бы невозможен в годы холодной войны.
Итоги и выводы
Сегодня вероятность развязывания глобальной войны или масштабного регионального конфликта между великими державами значительно меньше, чем во время холодной войны. Что не исключает возможности единичных военных инцидентов в районах непосредственного соприкосновения сторон.
Мобилизационная готовность государств и обществ к войне стала существенно ниже.
Оппоненты в глобальном военном противостоянии не имеют боеготовых группировок войск, способных реализовать даже максимально благоприятные для инициатора результаты внезапных ударов обычным высокоточным и/или ядерным оружием составом боеготовых сил мирного времени. Для этого требуется масштабное и относительно длительное стратегическое развёртывание вооружённых сил, что невозможно скрыть от национальных технических средств разведки.
Конфликтность из военной сферы переместилась по большей части в медийную, информационную, политико-дипломатическую, финансово-экономическую, юридически-правовую и другие, не создающие непосредственной военной угрозы.
При этом конфронтационность в иных областях не транслируется напрямую в сферу военного противостояния. Численность ВС не наращивается. Наступательные группировки войск не развёртываются. В войсках нет нестратегического ядерного оружия. Стратегическое ядерное вооружение ограничено разумными пределами. В обозримой перспективе не ожидается открытия неизвестных ранее физических принципов, на основе которых может быть создано оружие, радикально меняющее соотношение сил.
Вместе с тем попытки получить преимущество за счёт качественного превосходства некоторых систем вооружения, изменения их предназначения, форм и способов применения вооружения и группировок войск[15] не прекращаются. Потенциальную военную опасность создают разработки ОНФП следующего поколения, автономных робототехнических комплексов, стратегических средств быстрого глобального удара[16], систем ПРО передового и космического базирования, развёртывание нового поколения ракет средней дальности, оперативная подготовка театра военных действий странами НАТО вблизи российских границ и ряд других мероприятий.
Однако перечисленные опасности не формируют непосредственной военной угрозы, требующей чрезвычайных действий по укреплению обороны страны и мобилизации общества. Их можно парировать в ходе планового развития вооруже?нных сил, совершенствования вооружения, военной и специальной техники.
СНОСКИ
[1] Арбатов А.Г. Грядёт ли новая холодная война. Журнал «Россия в глобальной политике, №2, 2007. Ссылка: https://globalaffairs.ru/articles/gryadet-li-holodnaya-vojna/
[2] Караганов С.А. Европа и Россия: не допустить новой «холодной войны». Журнал «Россия в глобальной политике, №2, 2014. Ссылка: https://globalaffairs.ru/articles/evropa-i-rossiya-ne-dopustit-novoj-holodnoj-vojny/
[3] Адамишин А.Л. Конец холодной войны 30 лет спустя. Журнал «Россия в глобальной политике, №2, 2020. Ссылка: https://globalaffairs.ru/articles/vojna-30-let/
[4] National Security Strategy of The United States of America, December 2017. P. 25.
[5] Здесь и далее использованы в основном данные на 1989 и 2019 годы.
[6] История военной стратегии России. Под ред. В.А. Золотарёва. М.: Кучково поле. 2000. – 592 с. С.434.
[7] Defense Budget Overview. United State Department of Defense Fiscal Year 2020 Budget Request. 6. Overseas Contingency Operations and Emergency. P. 66-74.
[8] История военной стратегии России. Под ред. В.А. Золотарёва. М.: Кучково поле. 2000. – 592 с. С. 406.
[9] Там же. С. 446.
[10] Там же. С .418.
[11] Robert S. Norris & Hans M. Kirstensen. “Nuclear Notebook: U.S. and Soviet/Russian intercontinental ballistic missiles, 1959–2008”. Bulletin of the Atomic Scientist. January/February 2009. P. 2.
[12] Феськов В.И., Калашников К.А., Голиков В.И. Советская Армия в годы «холодной вой-ны» (1945–1991). Томск: Издательство Томского университета, 2004. – 246 с. С. 6.
[13] Там же. С. 13.
[14] Военный академический журнал. 2016. №3(11). С. 64–71.
[15] “The U.S. Army in Multi-Domain Operations is an operational-level military concept designed to achieve U.S. strategic objectives articulated in the National Defense Strategy, specifically deterring and defeating China and Russia in competition and conflict”. The U.S. Army in Multi-Domain Operations, 2028. TRADOC Pamphlet 525-3-1. 6 December 2018. P. 24.
[16] Conventional Prompt Global Strike and Long-Range Ballistic Missiles: Background and Issues. Congressional Research Service. R41464. August 14, 2019. P. 13. The Conventional Strike Missile.

ТЕОРИЯ ВСЕОБЩЕГО РАСИЗМА
АЛЕКСАНДР ЛУКИН
Руководитель департамента международных отношений, заведующий Международной лабораторией исследований мирового порядка и нового регионализма Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
НОВАЯ ВЕРСИЯ АМЕРИКАНСКОГО КУЛЬТУРНОГО ДОМИНИРОВАНИЯ
Нынешняя «антирасистская» кампания в Соединённых Штатах – пик долгой эволюции американского общества в сторону принятия и распространения определённой системы взглядов. Формировалась она уже давно, однако до недавнего времени не вызывала серьёзных опасений за рубежом. Между тем США оказывают значительное культурное влияние в глобальном масштабе, поэтому упомянутая система распространяется на весь мир, а в случае её утверждения в мировом сообществе способна превратить его в место, где существовать и действовать будет довольно сложно. По сути, на нас надвигается новая всеобъемлющая тоталитарная теория, согласно которой все общественные и исторические явления нужно будет анализировать с «расовой» точки зрения – так же, как марксисты анализировали их с точки зрения «классовой борьбы».
Начавшись с требований квот для людей с чёрным цветом кожи во всех сферах жизни, из-за чего работники подбираются не по квалификации, а на основе расы (что как раз и является отъявленным расизмом), кампания перешла к совершенно абсурдным, но уже выполняющимся требованиям запретить некоторые не имеющие никакого отношения к цвету кожи слова, типа «чёрный», «белый», «хозяин» в словосочетаниях «чёрные списки», «белые списки», «хозяйская спальня» и так далее. Появилось даже требование исправить правила шахмат, потому что там первый ход делает тот, кто играет белыми фигурами. Это было бы простым курьёзом, если бы новая идеология не распространялась настойчиво и последовательно, захватывая страны и континенты. Вероятно, ранние труды Ленина и его коллег, утверждавших вслед за «Манифестом Коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса, что вся мировая история – это война классов, также считались образованными людьми забавным казусом, представители образованного класса на первых порах заигрывали с марксистами, а политики и олигархи мейнстрима предполагали использовать их в своих интересах. Кончилось всё гражданской войной, высылкой бывших сторонников-профессоров за границу, лагерями и расстрелами несогласных, а потом и согласных.
Постепенно «борьба с расизмом», как и положено тоталитарной идеологии, захватывает всё больше сфер и отменяет целые отрасли знания. В США и Европе уже фактически запрещена антропология в части исследования рас и различий между ними. Получается абсурдная ситуация: с одной стороны, согласно идеологии, одни расы угнетают другие, с другой – изучать, в чём состоят различия между ними, нельзя, потому что это – расизм.
В январе 2020 г. Йельский университет отменил пользовавшийся много лет большим успехом базовый курс «Введение в историю искусства: от Ренессанса до настоящего времени» – за то, что был слишком европоцентричен. Согласно заявлению руководителя департамента истории искусств Тима Бэрринджера, новый курс, который планируется разработать только через несколько лет, будет учитывать взаимодействие европейского искусства с неевропейскими традициями, а также будет рассматривать искусство в его связи с «проблемами пола, класса и расы», изучать его роль в западном капитализме и, конечно же, ключевой темой станет изменение климата[1]. Вряд ли собственно истории искусства останется место в столь обширной и политически корректной программе.
Теперь, однако, обвинения в расизме распространяются не только на отдельные отрасли знания, но и на науку в целом. Согласно новой идеологии, если в вашей отрасли нет или недостаточно исследователей с чёрным цветом кожи, то вся она насквозь расистская. При этом, как и положено при тоталитаризме, виновные начинают каяться. Вот характерный отрывок редакционной статьи влиятельного американского журнала “Cell” («Клетка») о проблемах биохимии, генетики и молекулярной биологии:
«Мы – редакторы научного журнала, посвящённого публикации и распространению существующих трудов, охватывающих биологические науки. Мы – 13 учёных. Ни один из нас не является чернокожим. Недостаточная представленность чернокожих учёных характерна не только для нашей команды, но и для авторов, рецензентов и консультативного совета. И мы не одни. Переводить вину на других, указывать на то, что журнал является отражением научного истеблишмента, приводить статистические данные – просто. Но именно эта эпидемия отрицания той неотъемлемой роли, которую играют все и каждый члены нашего общества в поддержании статус-кво своим отказом от активной борьбы с ним, позволила процветать открытому и системному расизму, калеча жизни и делая непригодными средства существования чёрных американцев, включая чёрных учёных. В науке существует проблема расизма»[2].
Далее редакторы журнала делают антинаучное, но вполне политически корректное заявление о том, что «раса не определяется генетически», и намечают ряд мер по самоисправлению, суть которых сводится к принятию чёрных американцев в редакционный совет и первоочередной публикации статей чернокожих авторов. Возможно, для непуганых американцев эти рассуждения звучат прогрессивно. Но тем, кто знаком с историей Китая, они сильно напоминают покаяния времён «великой пролетарской культурной революции». А нам в России – классовый подход большевиков к науке, которые также продвигали «правильные кадры», правда, по принципу не цвета кожи, а социального происхождения.
Я ещё сам хорошо помню времена, когда в анкете при поступлении в университет или на работу приходилось заполнять графу «социальное происхождение». То, что я происходил «из служащих», было не очень хорошо, потому что те, кто был «из рабочих», пользовались преимуществом.
В науке подобный подход привёл к страшным катастрофам, таким, например, как возвышение небезызвестного Трофима Лысенко, объявившего генетику «продажной девкой империализма». В результате передовая советская генетика погибла на долгие годы, а многие выдающиеся учёные сгинули в сталинских лагерях. Американским генетикам неплохо было бы помнить эту историю.
Тоталитарная тенденция приходит и в общественные науки, в том числе в исследования международных отношений. Когда несколько месяцев назад группа сторонников новой идеологии обвинила в расизме, «методологической белизне» и «античёрной мысли» влиятельную Копенгагенскую школу и её лидеров Оле Вевера и Барри Бузана, которые в последнее время как раз занимаются изменением западоцентристского уклона в теории международных отношений, это показалось курьёзом. Однако настораживало два момента. Во-первых, статья с критикой их теории «секьюритизации» была опубликована одним из ведущих журналов отрасли – издающимся в США “Security Dialogue”. Во-вторых, в статье, собственно, их теория совершенно не обсуждалась по существу. Критика была построена по хорошо знакомой нам в России схеме статьи журнала «Коммунист» о вредной буржуазной философии. Основная мысль сводилась к тому, что «большая часть ортодоксальной и критической социальной и политической мысли Запада основана не просто на европоцентричных, но расистских, а конкретно – белых расистских эпистемологических и онтологических предпосылках»[3].
Доказывали они её примерно так: авторы, говорившие когда либо о прогрессивности Запада или западной цивилизации по сравнению с другими, в том числе сторонники Просвещения, виновны в «цивилизационизме» (идея превосходства одной цивилизации над другой), основа «цивилизационизма» – расизм, поэтому все теоретики, говорящие о преимуществах западной политической системы (Томас Гоббс, Эмиль Дюркгейм, Карл Шмитт, Ханна Арендт, Мишель Фуко и другие) – расисты, а те, кто на них ссылаются, тоже расисты.
Совершенно ясно, что аргументация эта к научному анализу не имеет никакого отношения.
Во-первых, авторы не дают определения расизму и используют термин «расист» для обозначения любого, с кем они не согласны, точно так же, как большевики использовали термин «враг народа».
Во-вторых, если говорить по сути дела, то вовсе не все сторонники Просвещения были цивилизационистами (Руссо, например, вообще выступал против цивилизации, а Вольтер – даже приукрашивал Китай, ставя его в пример Франции).
В-третьих, теория о превосходстве Запада вовсе необязательно связана с расизмом, она может быть построена на совершенно иной основе (например, религиозной или стадиальной).
В-четвёртых, цитирование кого-либо, пусть даже расиста, совершенно не означает, что цитирующий тоже расист: на определённом этапе такие взгляды на Западе были широко распространены, поэтому в какой-то степени практически все были расистами, и значит, нам надо полностью отказаться от изучения многих предшественников. Как и полагается для таких поделок, статья была написана с множеством фактических ошибок и неверных интерпретаций. Например, высказывания некоторых авторов, которые Вевер и Бузан приводили с целью подвергнуть их авторов критике, выдаются за иллюстрацию взглядов Копенгагенской школы.
Дальнейшее развитие событий показало, что публикация в “Security Dialogue” – отнюдь не отдельный курьёз. После начала новой волны «антирасистских выступлений» в США, поднявшейся из-за гибели 25 мая Джорджа Флойда, труды подобного содержания стали публиковаться в большом количестве и из экзотики превратились в повседневность.
4 июня никому не известная преподаватель Массачусетского университета Меридит Локен написала в своем Твиттере: «Раса – не “один из подходов” к международным отношениям, на который можно потратить неделю аудиторного времени. Раса – неотъемлемая часть современной системы государств, дипломатии, конфликтов, торговли, глобального управления. Раса – ключ к пониманию того, как развивалась теория международных отношений и вытекающих политических рекомендаций»[4].
В другой обстановке это довольно бессмысленное заявление, вероятно, осталось бы очередной попыткой недавнего студента создать общую теорию всего на свете на основе единственного известного ему принципа, но оно попало в струю. Через несколько дней в статье, опубликованной на сайте влиятельного журнала “Foreign Policy”, близкого к лево-либеральному истеблишменту, его поддержали известный международник, сотрудник Института Брукингса и бывший декан Школы международной службы Американского университета Джеймс Голдгейер и исполнительный директор Ассоциации профессиональных школ по международным отношениям Кармен Меззера. В программной статье «Как переосмыслить преподавание международных отношений» они, соглашаясь с Локен, заявили, что программы дисциплины теперь необходимо ориентировать на изучение, прежде всего, рас, хотя дополнить расовый вопрос можно и ещё некоторыми факторами, входящими в набор новой идеологии: изменением климата, растущим экономическим неравенством, искусственным интеллектом[5].
19 июня воодушевлённая Локен в соавторстве с аспирантом университета Южной Калифорнии Келебогиле Звобго опубликовала на том же сайте статью «Почему раса имеет значение в международных отношениях». В ней утверждалось, что «доминирование Запада» и «привилегии белых» пронизывают эту область знаний. Авторы представили новую, довольно безграмотную, но по нынешним временам политически корректную версию мировых событий. Утверждая, что «раса – не один из подходов к международным отношениям, это центральная организующая характеристика мировой политики», они высказали следующие мнения. Оказывается, «антияпонский расизм направлял и поддерживал участие США во Второй мировой войне», «широкие антиазиатские чувства повлияли на развитие и структурирование НАТО», «во время холодной войны расизм и антикоммунизм были неразрывно связаны со стратегией сдерживания, которая определяла подход Вашингтона к Африке, Азии, Центральной Америке, странам Карибского бассейна и Южной Америке». Сегодня, по их мнению, «раса формирует представления об угрозе и ответы на экстремизм, направленные против личности, внутри и вне “войны с террором”»[6].
Опровергать каждое из этих абсурдных утверждений смысла не имеет. Чего стоит высказывание о том, что вступление США во вторую мировую войну как-то связано с расизмом, и почему-то антияпонским, хотя Япония сама напала на США. Но эти высказывания показательны для понимания уровня сегодняшней дискуссии, ведущейся на страницах влиятельных американских журналов.
Далее авторы, пока особо не проявившие себя в науках, громят три основные теории международных отношений: реализм, либерализм и конструктивизм, так как все они «построены на расовых и расистских интеллектуальных основаниях». «В их основных концепциях заложен расизм: они укоренены в дискурсе, который ставит Европу и Запад в центр и оказывает им предпочтение. Эти концепции явно и неявно противопоставляют “развитое” “неразвитому”, “современное” “примитивному”, “цивилизованное” “нецивилизованному”. И эти выдуманные бинарности расистски используются для объяснения порабощения и эксплуатации на всём земном шаре». Первые два направления «были построены на европоцентризме и использовались для оправдания белого империализма». Конструктивизм же, хотя «пожалуй, и приспособлен лучше всего для преодоления расы и расизма», так как «конструктивисты отрицают состояние анархии как данность и утверждают, что анархия, безопасность и другие проблемы являются социально сконструированными на основе общих идей, истории и опыта», но они всё же «редко признают, как это общее формируется расой». В заключение авторы требуют принять организационные меры: включить изучение рас и расизма во все программы по международным отношениям, привлекать к их преподаванию более «разнообразные» (американский эвфемизм для небелых) кадры и сделать расовые исследования ведущей темой в Ассоциации международных исследований (ISA) и других влиятельных международных ассоциациях и форумах[7].
3 июля на сайте того же журнала под общим заголовком «Почему магистральное направление международных отношений слепо к расизму?» была опубликована подборка комментариев девяти специалистов по международным отношениям, которые в отличие от авторов предыдущей статьи характеризуются как «ведущие мыслители» в этой сфере. Общая их мысль, так же, как и у менее известных коллег, выразилась в утверждении, что понимание современной системы межгосударственных отношений невозможно без признания центральной роли расы и колониализма[8].
Из их высказываний можно сделать некоторые выводы о том, в какую сторону будут эволюционировать исследования международных отношений в США и Европе.
Во-первых, расовый фактор становится основным в исследовании международных отношений, по крайней мере со времени образования национальных государств, а, возможно, и ранее. Как пишет профессор университета Сассекса Гурминдер Бхамбра, «раса – не фактор, который проникает в так называемые национальные государства извне. Скорее расовая проблема присуща им с момента их возникновения как имперских политий, и они продолжают воспроизводить основанные на расе иерархии до сегодняшнего дня»[9]. Расизм, таким образом, становится основным фактором общественного развития (по крайней мере, с Нового времени), чем-то вроде классовой борьбы в марксизме, эдипова комплекса во фрейдизме или гендерного неравенства в феминизме. Расы и расизм будут искать всегда и везде, даже где их никогда не было, так же как марксисты повсюду искали классы и классовую борьбу.
Во-вторых, расизм будет толковаться крайне расширительно – не в обычном понимании как теория превосходства одной биологической расы над другой, но как любая попытка обосновать доминирование или просто «прогрессивность» Запада. С этой точки зрения расизм – не только идеология Ку-клукс-клана или колониальная теория «бремени белого человека», но и теория демократии как высшей формы политической системы, рыночной экономики, прав человека и вообще всего, что изобретено на Западе.
В-третьих, расовая теория наслоится на все прочие «прогрессивные» принципы, типа «гендерного неравноправия», исламофобии, угнетения сексуальных меньшинств, классового и социального неравенства, станет для них основной и потребует перестроиться в соответствии с ней. Как утверждает преподаватель Лейденского университета Винет Тхакир, «раса почти всегда работает вместе с другими категориями: кастой, классом, цивилизацией – и в сегодняшнем контексте, расистски воспринимаемом мусульманином». А феминистка из того же университета Карен Смит уже готова исправить и собственную теорию в соответствии с новыми веяниями. Она осуждает даже прогрессивную «феминистскую внешнюю политику» Швеции и не даёт Западу права гордиться своим феминизмом, потому что его отсутствие в незападных странах – вина самого Запада, в котором дела тоже не так уж хороши: «Доминирующее направление феминистской внешней политики серьёзно не рассматривает расовые последствия колониализма, приведшие к условиям, благоприятным для гендерной дискриминации в развитых экономиках… Страны с феминистской внешней политикой часто апеллируют к собственному опыту как позитивному примеру для других. Между тем, гендерная дискриминация – универсальна, и часто меньшинства в развитых экономиках серьёзно ущемлены из-за повального расизма и ксенофобии»[10].
В-четвёртых, западоцентризм будет «исправляться» в общих рамках борьбы с расизмом. По мнению Винета Тхакира, «для анализа расовых конструкций мира исследователи должны обратить свой научный взор за пределы США и Британии. Как бы ни были важны американская и британская перспективы для понимания расы и её роли в создании области международных отношений, изучение только этих перспектив исключает народы остального мира». При этом вклад незападных государств и народов будет преувеличиваться, чтобы уравновесить или даже превзойти роль Запада, как предполагает идеология. Например, доцент Американского университета Рэндольф Персауд утверждает, что «именно низшие в глобальной системе и исторически маргинализированные народы заставили международную систему принять тот уровень демократического управления, который в ней существует»[11].
В-пятых, на смену доминирующим со времён Просвещения расистским западоцентричным теориям поступательного прогресса придут различные формы релятивизма. Все по-своему хороши и прогрессивны, и все, от людоедов до космонавтов, вносят свой вклад в многоцветную и гармоничную жизнь счастливого человечества. Как пишет Сейфудин Адем, «претензиям культуры Запада на универсальное значение бросают вызов культурный релятивизм (то, что был значимо для одного западного общества, не было значимо для других), исторический релятивизм (то, что значимо для Запада в начале ХХ века не значимо в начале ХХI века) и эмпирический релятивизм (Запад часто не соответствовал собственным стандартам, а иногда этим стандартам больше отвечали другие общества)… Безусловно, происходит отказ от процесса, делающего нас всех выглядящими одинаково (гомогенизация), и одновременно одного из нас боссом (гегемонизация). Нынешняя эра – эра, когда Запад ушёл в оборону». Он мечтает о создании «истинно глобальной деревни, основанной не на культурной иерархии, но на… комбинации глобального фонда достижений и локальных фондов отличных друг от друга инноваций и традиций»[12].
В-шестых, в соответствии с новой теорией будут меняться принятые сегодня термины и произойдёт полный пересмотр терминологии, в которой закреплена расовая дискриминация и «белое доминирование». Например, по мнению старшего преподавателя университета Портсмута Оливии Рутазибвы, исследователям международных отношений необходимо отказаться от термина «помощь» и говорить вместо этого о расизме и «репарациях».
В-седьмых, новая идеология ориентирует специалистов не изучать международные отношения, но исправлять их. Учёные должны не только давать идеологически верные моральные оценки, но и стать активистами, так как тот, кто активно не борется с расизмом – сам латентный расист. Кто не с нами – тот против нас, и отсидеться никому не удастся. Как гласит один из распространённых постулатов новой идеологии, «молчание – это насилие», то есть за попытку уйти в тень будут судить так же, как за контрреволюционную деятельность. «Исследователи международных отношений, ставящие расу, расизм и колониализм в центр анализа, знают, что это требует большего, чем верная оценка прошлого. Исследовательский императив заключается в изучении и критической оценке современной международной системы, построенной на расовом капитализме, а также создании образа альтернативы», – пишет Рутазибва[13]. В советской идеологии это называлось проявлять классовую сознательность и общественную активность. Карл Маркс, как известно, требовал от философии не объяснять, а изменять мир, а директриса средней школы, где я учился, развивала эту мысль, говоря, что математика – наука партийная.
В-восьмых, как будут поступать с несогласными, ясно из высказывания Адема, которое заставляет вспомнить о принудительном лечении диссидентов в советских психбольницах: «Многие в мире считают, что с моральной болезнью расизма необходимо бороться так же настойчиво, как с физической болезнью, которая широко распространилась сегодня по земному шару»[14].
Подобно всякой идеологии, новая теория всеобщего расизма состоит их трёх частей: элементов верных и обоснованных, элементов бессмысленных и элементов откровенно абсурдных, крайне вредных и опасных. Как и применение всякой идеологии на практике, осуществление этой вместо решения реальных проблем приведёт к возникновению ещё больших. Проблема белого расизма действительно существовала, но лишь определённый исторический период (XIX – начала XX века) и только в некоторых странах Европы и США. В других частях света расизм как идея превосходства по признаку цвета кожи большую часть истории вообще отсутствовал. Не было её ни в великих древних империях, ни в средневековье, ни в большинстве стран и регионов мира в более поздние времена. Нет нигде белого расизма и сегодня, в том числе и в Соединённых Штатах и Европе, по крайней мере, в виде сколько-либо влиятельного политического течения или тем более государственной политики. Есть лишь довольно маргинальные расистские группы, гораздо более распространён набирающий силу чёрный расизм. Последние государства, основанные на расовой сегрегации (Родезия и ЮАР), исчезли в ХХ веке.
Конечно, различные формы дискриминации были, есть они и сейчас. Народы и их части дискриминировались по этническому, социальному, сословному, религиозному и другим признакам. Всегда существовала ксенофобия, идеи культурного и цивилизационного превосходства (как, например, в Древней Греции или традиционном Китае), превосходства религии (например, в христианской Европе или мусульманской Азии) или политического устройства («западной демократии» или советского «социализма»). Всё это могло приводить к международным конфликтам, однако называть их причиной расизм совершенно необоснованно и в научном плане это приведёт к неверным объяснениям и непониманию реальности, в том числе и политиками. Так всегда случалось с идеологами, например, советскими руководителями, которые не могли понять, почему мир не тянется к самому прогрессивному социалистическому государству, или с американскими идеологами демократизации, неспособными объяснить нынешний кризис доверия к их якобы идеальной политической системе.
Зачем же надо сегодня поднимать на щит несуществующий белый расизм, если и живой ещё в отдельных медвежьих уголках США, то уж точно не оказывающий влияния на внешнюю политику? В этом на Западе заинтересованы два движения, слившихся в один мощный поток.
Первое – это левые силы, всегда существовавшие там в довольно маргинальном виде, но значительно укрепившиеся в последние десятилетия за счёт новых сторонников. Это люди, недовольные глобализацией, не находящие себя в олигархических многонациональных компаниях, но в то же время сохраняющие приличный уровень жизни и завоевавшие систему образования, прежде всего, университеты. Это дети либералов поколения хиппи: некоторые из них стали профессорами, другие пошли в либеральные партии.
Фёдор Достоевский отлично описал эти два поколения в России: старые либералы и молодые революционеры. И те, и другие выступают за леволиберальные ценности, хотят перестроить общество «по справедливости», но молодёжь не может больше ждать, считает, что хуже быть не может, поэтому нынешнее дьявольское общество надо решительно уничтожать. Отсюда и нежелание осуждать погромы и погромщиков, которые, как говорил Михаил Бакунин, разрушая общество, становятся естественными союзниками революционеров.
Второе – это эмигранты из бывших колоний и их потомки, которые принесли с собой в западные университеты и политическую жизнь «постколониальный синдром» – миф о том, что Запад всё время всех только завоёвывал и угнетал, незападный мир жил до колониализма в достатке, мире и гармонии, а потом западные завоеватели принесли с собой страшный застой и унижения, вывезли ресурсы, поэтому бывшим колониям теперь все кругом должны. В действительности колониализм был весьма малоприятным явлением, но рассматривать его необходимо в историческом контексте, как и доколониальный период в жизни незападного мира надо изучать объективно.
Незападные державы и народы точно так же, как и Запад, часто завоёвывали и угнетали друг друга, а рабство там существовало и без Запада.
Эта идеология «третьего мира», часто оправдывавшая собственную неспособность создать эффективную экономику и политическую систему, до недавнего времени в основном служила легитимации местных, часто коррупционных правящих элит в постколониальных государствах, и на Западе особым влиянием не пользовалась. Прилив эмигрантов в Европу и США, в том числе и в университеты, перенесло её на Запад, где она слилась с местной левой идеологией и её носителями. Правоглобалистская экономическая политика, доминировавшая на Западе после распада СССР, воспринятого там как конец незападной истории и триумф «рыночной экономики» и «западной демократии», в действительности расширила социальную базу левоэмигрантской идеологии. В Америке борьба с расизмом всегда была её частью. Из Соединённых Штатов как культурного центра Запада теория расизма в качестве основы леволиберальной идеологии стала распространяться и в Европу, где исторически у белого расизма корней было гораздо меньше. Теперь борьба с расизмом – это уже мода, нарастающая как снежный ком, которая постепенно заслоняет и подминает под себя другие элементы левого либерализма, делая их своими частями: феминизм, идеологию ЛГБТ, борьбу с «исламофобией», ненависть к Израилю и так далее.
Что же делать со всем этим нам, российским специалистам по международным отношениям? Прежде всего, необходимо отдавать себе отчёт в серьёзности ситуации и сделать несколько выводов.
Первое. Запад (США и Европа) не являются более свободными обществами. Как ни тяжело это будет признать многим нашим политологам и международникам, всю свою карьеру выстроившим на копировании западоцентристских теорий, факт этот отрицать уже довольно сложно. По определённым параметрам уровень свободы в Соединённых Штатах и Западной Европе, конечно, выше, чем в ряде других стран мира. Но общий баланс уже далеко не так однозначен, как несколько десятилетий назад. В сравнении, например, с Россией, современные США, возможно, выигрывают в смысле политических свобод, сохраняют значительное преимущество в области разделения властей и независимости суда. Однако в сфере общей свободы слова Россия гораздо более свободна, чем Соединённые Штаты. В ней нет «культуры запрета» (кампании по всеобщему осуждению и бойкоту человека, высказавшего «неправильное» мнение в соцсетях), не осуждают здесь за «культурную апроприацию» (например, исполнение песни другой национальности) и многое другое.
Второе. Гораздо свободнее в России и университеты, которые в США и Западной Европе превратились в места, где преподавателей и студентов заставляют каяться и исключают за неосторожно сказанное слово. Вот один из последних примеров: 19 июня 2020 г. уволена декан школы подготовки медсестер Массачусетского университета. Её вина состояла в том, что, осуждая в электронном сообщении насилие против чернокожих, она написала неправильный лозунг: не только «Чёрные жизни имеют значение», но и «Все жизни имеют значение». Её немедленно сняли с должности после жалобы студента на узость её мышления[15]. Чуть ранее, в феврале, руководитель магистратуры, профессор журналистики университета Оклахомы Питер Гейд, критикуя термин «бэби бумер», сравнил его со словом «на букву н» (то есть с давно запрещённым словом «негр», или, хуже того, «ниггер»). Оказалось, что подобные слова нельзя употреблять совсем, даже в качестве негативного примера. Профессор Гейд, несмотря на быстрое покаяние (привет «культурной революции») был отстранён от преподавания и послан на курсы «культурно компетентной коммуникации» и занятия, проводимые Офисом Разнообразия, Равенства и Инклюзивности (привет Джорджу Оруэллу)[16]. И таких примеров в сегодняшних США – сотни. В России на подобные «преступления» никто даже внимания не обратит. В отечественных вузах по сути нет практики «непредоставления платформы» людям с неправильными взглядами на вопросы развития общества или «безопасных пространств», смысл которых сводится к тому, что студентам нельзя говорить ничего, что могло бы каким-то образом обидеть или задеть кого-либо (например, интересоваться национальностью или родным языком других).
Третье. Из-за общественной цензуры и самоцензуры западная гуманитарная наука превращается в откровенную идеологию, а её продукты – в набор идеологических штампов. Ориентироваться на неё бессмысленно. Конечно, знать о том, что в ней происходит, нужно, но ориентировать всю российскую науку на публикации в подцензурных западных журналах – контпродуктивно и вредно. Это сделает российские исследования гораздо менее свободными и самостоятельными. Если уж и публиковать работы на английском языке, то есть намного более привлекательные возможности: например, Индия, где обстановка в вузах гораздо демократичнее. Более того, российские исследовательские центры, университеты и научные журналы, особенно те, что выходят на английском языке, в новой обстановке могут оказаться уникальной свободной территорией и активно привлекать подвергнувшихся остракизму по идеологическим причинам западных коллег, которым запретили преподавать или которые затрудняются публиковать свои труды на родине.
Четвёртое. Проблема западоцентризма в современных международных исследованиях, действительно, существует. Совершенно верно, что практически все теории международных отношений, как и прочие теории общественных наук, имеют своей основой просвещенческую парадигму социального прогресса, передовым отрядом которого была Европа, а затем – США. Но идеология всеобщего расизма не только не решает этой проблемы, но, экстраполируя локальную американскую и частично западноевропейскую проблему расизма на всю мировую историю, раздувая её до размеров основного, доминирующего фактора общественного развития, по сути, закрепляет американоцентризм. Это типичный пример давно известного в политологии явления – закрепления старой системы представлений путём отрицания её с обратным знаком, но при сохранении её структуры. Белый расизм здесь меняется на чёрный, западоцентризм – на незападоцентризм, при этом сама идея превосходства рас, а также прогрессивных и регрессивных частей света сохраняется. У прежних расистов белая раса несла свет цивилизации отсталым народам мира. У новых она только и делала, что порабощала и уничтожала другие расы, которые жили бы без неё в идеальном мире и согласии, и только это насилие и следует изучать в международных отношениях.
Навязывание всему миру своих сиюминутных «открытий» и «прозрений» – характерная черта западной культуры. Вначале это была теория превосходства христианской цивилизации, затем «бремени белого человека», помогающего несчастным дикарям во всем мире подняться до своего уровня, а после Второй мировой войны – ценности «демократии» и «свободного рынка», которые навязывались всем, независимо от того, ведут они к процветанию или краху незападных политических систем. Именно на этот этап пришёлся распад СССР и формирование российской политологии, когда в политологи оперативно перекрасились бывшие преподаватели научного коммунизма и исследователи «буржуазных обществ», выстроившие вместо науки новую идеологию с обратным знаком. Ею заполнились российские вузы, где активно стали преподавать теорию всеобщего «демократического транзита» вместо «построения коммунистического общества», среднего класса как социальной базы демократии вместо пролетариата как создателя коммунизма и всеобщей приватизации вместо огосударствления как панацеи от всех экономических проблем. Эта идеология привела к глубокому интеллектуальному застою, а попытки её применения на практике – сначала к чрезмерной зависимости от Запада и экономическому краху 90-х гг., а затем – к той политической и экономической системе, которую мы имеем сегодня, ставшей реакцией на эту зависимость.
Попытка тех же людей как на Западе, так и в России перестроиться и навязать России и всему миру новую смесь левого либерализма, подкорректированного марксизма, политкорректности и всеобщей теории расизма в качестве новейшего достижения западной мысли приведёт к ещё более тяжёлым последствиям.
Идея о том, что белые лучше дикарей, нисколько не хуже теории, согласно которой небелые лучше белых и все вдруг должны броситься вычищать «белизну» из истории и общественной жизни. Структурно они одинаковы и свидетельствуют о тоталитарном сознании их носителей.
Между тем, опыт успешно развивающихся государств с разными политическими системами (Китай, Япония, Индия, Южная Корея, Сингапур и др.) показывает, что во всех этих случаях концепция развития не копировала западные или какие-то другие теории полностью, а соединяла разные элементы как зарубежной, так и собственной традиции, сочетание которых давало адекватные инструменты для анализа реалий своего общества. По такому пути надо идти и российским обществоведам.
Пятое. В критике этого нового американоцентризма и обратного расизма, в деле сохранения объективности и нормальности в международных исследованиях российские учёные могут сыграть ведущую роль, опираясь на собственную традицию и присущую ей интернациональность. Делать это необходимо, сохраняя традиции дисциплины, причём делать не бесцеремонно, но решительно, называя безграмотную чушь тем, чем она является. Кадровый отбор в западных университетах начинает действовать так же, как в сталинском СССР – продвигают тех, кто громче кричит лозунги, а это, естественно те, кто неспособен вести серьёзные исследования, но видит новый, более простой путь делать карьеру. Противников увольняют, и даже тот, кто в душе не согласен, вынужден делать правильные заявления и прикидываться активным борцом за новые идеалы.
В России, где государственного или политически значимого расизма никогда не было, не нужно по указке с Запада срочно искать его повсюду – так, как особо ретивые западники ищут в ней постоянное угнетение женщин или гомосексуалистов. Это, конечно, не значит, что в России не было других видов угнетения: было в ней и сословное, и религиозное неравенство, и крепостное право (почти рабство), но ни один из них не был основан на расизме. Ещё в XVIII веке чернокожий Абрам Ганнибал дослужился в России до генеральского звания, занимал высокие государственные должности, и никто не придавал этому особого значения. А уж бурятов, калмыков и других представителей монголоидной расы среди российской элиты всегда было предостаточно. Исправлять западоцентристский уклон нужно не борьбой с несуществующим расизмом, а совершенно другим способом: постепенно вводя в преподавание истории и международных отношений больше информации о незападном мире. Но изучать незападный мир необходимо объективно, а не подгоняя под новую идеологию.
Шестое. В изучении международных отношений необходимо опираться как на существующие западные теории, так и на российскую школу, которая нисколько не уступает западной. Кроме того, необходимо включать в общетеоретические построения больше незападных подходов – современных и традиционных (например, китайских, индийских, бразильских). Это расширит российский взгляд и сделает его более объективным. К тому, что происходит на современном Западе, надо относиться с печалью и надеждой на то, что западная наука окончательно не свернёт на путь идеологизации и не превратится в новую лысенковщину от антирасизма.
Данная статья подготовлена при грантовой поддержке Факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2020 году.
СНОСКИ
[1] Margaret Hedeman and Matt Kristoffersen, “Art History Department to Scrap Survey Course,” Yale News, January 24, 2020. URL: https://yaledailynews.com/blog/2020/01/24/art-history-department-to-scrap-survey-course/
[2] Editorial, “Science Has a Racism Problem,” Cell, 181, June 25, 2020. P. 1443. URL: https://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(20)30740-6.pdf
[3] Alison Howell and Melanie Richter-Montpetit, “Is securitization theory racist? Civilizationism, methodological whiteness, and antiblack thought in the Copenhagen School,” Security Dialogue, vol. 51(1), pp. 3–22. First published online August 7, 2019.
[4] URL: https://twitter.com/meredithloken/status/1268544801726763012
[5] James Goldgeier, Carmen Iezzi Mezzera, “How to Rethink the Teaching of International Relations,” Foreign Policy, June 12, 2020. https://foreignpolicy.com/2020/06/12/how-to-rethink-the-teaching-of-international-relations/
[6] Kelebogile Zvobgo, Meredith Loken, “Why Race Matters in International Relations: Western dominance and white privilege permeate the field. It’s time to change that,” Foreign Policy, June 19, 2020. URL: https://foreignpolicy.com/2020/06/19/why-race-matters-international-relations-ir/
[7] Kelebogile Zvobgo, Meredith Loken, “Why Race Matters in International Relations: Western dominance and white privilege permeate the field. It’s time to change that,” Foreign Policy, June 19, 2020. URL: https://foreignpolicy.com/2020/06/19/why-race-matters-international-relations-ir/
[8] Gurminder K. Bharma, Yolande Bouka, Randolph B.Persaud, Olivia U. Rutazibwa, Vineet Thakur, Duncan Bell, Karen Smith, Toni Haastrup, Seifudein Adem, “Why Is Mainstream International Relations Blind to Racism? Ignoring the central role of race and colonialism in world affairs precludes an accurate understanding of the modern state system,” Foreign Policy, July 3, 2020. URL: https://foreignpolicy.com/2020/07/03/why-is-mainstream-international-relations-ir-blind-to-racism-colonialism/
[9] Там же
[10] Gurminder K. Bharma, Yolande Bouka, Randolph B.Persaud, Olivia U. Rutazibwa, Vineet Thakur, Duncan Bell, Karen Smith, Toni Haastrup, Seifudein Adem, “Why Is Mainstream International Relations Blind to Racism? Ignoring the central role of race and colonialism in world affairs precludes an accurate understanding of the modern state system,” Foreign Policy, July 3, 2020. URL: https://foreignpolicy.com/2020/07/03/why-is-mainstream-international-relations-ir-blind-to-racism-colonialism/
[11] Gurminder K. Bharma, Yolande Bouka, Randolph B.Persaud, Olivia U. Rutazibwa, Vineet Thakur, Duncan Bell, Karen Smith, Toni Haastrup, Seifudein Adem, “Why Is Mainstream International Relations Blind to Racism? Ignoring the central role of race and colonialism in world affairs precludes an accurate understanding of the modern state system,” Foreign Policy, July 3, 2020. URL: https://foreignpolicy.com/2020/07/03/why-is-mainstream-international-relations-ir-blind-to-racism-colonialism/
[12] Там же.
[13] Там же.
[14] Там же.
[15] Vandana Rambaran, “Dean fired after saying ‘Black lives matter, but also, Everyones life matters’ in email, ” Foxnews.com. URL: https://www.foxnews.com/us/dean-fired-after-saying-black-lives-matter-but-also-everyones-life-matters-in-email
[16] Scott Jaschik, “Professor Removed From Teaching This Semester After Using N-Word,” Inside Higher Ed, February 17, 2020. URL: https://www.insidehighered.com/quicktakes/2020/02/17/professor-removed-teaching-semester-after-using-n-word

«“ПРОШЛЫХ” БУДЕТ МНОГО…»
ИЛЬЯ МАТВЕЕВ, Кандидат политических наук, доцент факультета международных отношений и политических исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС.
СЕРГЕЙ УШАКИН, Профессор антропологии и славистики в Принстонском университете
АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВ, Доктор социологических наук, ординарный профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», руководитель Центра фундаментальной социологии.
ФЁДОР ЛУКЬЯНОВ, Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» с момента его основания в 2002 году. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России с 2012 года. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай». Профессор-исследователь НИУ ВШЭ. Выпускник филологического факультета МГУ, с 1990 года – журналист-международник.
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Я прочёл в газетах биографию об одном американце. Он оставил всё своё
огромное состояние на фабрики и на положительные науки, свой скелет
студентам, в тамошнюю академию, а свою кожу на барабан, с тем чтобы
денно и нощно выбивать на нём американский национальный гимн.
Увы, мы пигмеи сравнительно с полётом мысли Северо-Американских Штатов;
Россия есть игра природы, но не ума. Попробуй я завещать мою кожу на барабан,
примерно в Акмолинский пехотный полк, в котором имел честь начать службу,
с тем чтобы каждый день выбивать на нём пред полком русский национальный
гимн, сочтут за либерализм, запретят мою кожу.
Ф.М. Достоевский. Бесы
Что происходило в ведущих западных странах летом 2020 года? И почему в России к этим событиям относятся совсем иначе, чем там? Об этом – дискуссия в редакции нашего журнала. Участники: Илья Матвеев, Сергей Ушакин, Александр Филиппов. Ведущий – Фёдор Лукьянов.
ЛУКЬЯНОВ: Можно ли сказать, что события лета 2020 г. в США и Европе похожи на то, что происходило в 1968 году?
УШАКИН: Не уверен. С одной стороны, да, есть накал, протест и энергия, с другой, на мой взгляд, абсолютно отсутствует то, чем 1960-е гг. так запомнились многим, а именно – попытками предложить иной взгляд на сложившуюся систему, другой способ мышления и социальной организации. События 1968 г. привели к пересмотру базовых социальных, теоретических, социологических установок. Феминистская философия, критическая философия, культурная критика, психоаналитический подход – во многом это всё оттуда, из 1960-х. Сегодня я не вижу желания или способности идти на такие интеллектуальные эксперименты. Говоря коротко – симптомы те же, болезнь – другая.
ЛУКЬЯНОВ: Что за болезнь?
УШАКИН: Глубокое социальное неравенство, которое можно устранить только посредством серьёзных социальных реформ, но именно о них, по сути, широкой дискуссии не получается. А ведь это такие базовые вещи, как доступ к образованию, медицинским услугам и так далее. Вместо них на первый план выходят разного рода политические ритуалы и символическая политика.
ЛУКЬЯНОВ: А почему не обсуждаются сущностные вопросы?
УШАКИН: Разные причины. Возможно, широкой дискуссии нет, потому что американцев долго пугали коммунизмом и социализмом и вопрос о перераспределении средств в обществе навсегда оказался прочно маркирован как относящийся к социализму и тоталитаризму. Например, ситуация с высшим образованием, которое из-за своей стоимости становится практически недоступным. Масса выпускников заканчивает университет с громадными долгами, их потом приходится выплачивать полжизни. И эта тема почти не обсуждается. Элизабет Уоррен – один из кандидатов от Демократической партии – пыталась об этом говорить, но, как мы видели, особой поддержки не нашла. Та же ситуация и с системой здравоохранения. Казалось бы, в нынешних условиях пандемии как раз можно было бы показать все достоинства социальной медицины. Но таких дискуссий почти нет. Иными словами: проблема неравенства есть, а способов её решения пока не видно.
МАТВЕЕВ: Я вижу связь с 1968 г. в том, что нынешним протестам может грозить та же печальная судьба, которая постигла наследие тех. В книге Люка Болтански и Эв Кьяпелло «Новый дух капитализма» проводится мысль о том, что саму идею яркой, творческой, неотчуждённой жизни, которую отстаивали студенты в 1968-м, присвоил капитализм, она и составила его «новый дух». Сегодня идеология функционирует так, что работа должна восприниматься как страсть и творчество («Делай то, что любишь, и тебе не придётся проработать в жизни ни дня»), но целью и такой работы всё равно остаётся прибыль, а сама она сопряжена с эксплуатацией, просто человек эксплуатирует сам себя. В этом – мрачное перерождение 1968 года. И я боюсь, что нынешние протесты, которые тоже возникли из-за глубочайшего кризиса западного мира – проблем колониального прошлого и его влияния на настоящее, – тоже могут переродиться в новую корпоративную философию антирасизма. Если в совете директоров корпорации половина состава – представители меньшинств, если каждый год проводятся тренинги по антирасизму – проблема считается решённой. Члены Демократической партии в Конгрессе повязали на себя шарфики с традиционным узором из Ганы, совершили символический жест, и тоже вопрос как бы снимается.
Антикапиталистический мятеж – 1968 переродился в новый извод капитализма, который присваивает идею творческого труда. Раньше героями были студенты-маоисты, а сейчас – Илон Маск и прочие. Они тоже своего рода ниспровергатели основ, но всё это ради создания удачного продукта и повышения стоимости акций компании. То есть это фиктивное «ниспровержение основ» в рамках системы. Точно так же антирасизм протестов Black Lives Matter может превратиться в выхолощенный корпоративный антирасизм, подменяющий настоящую борьбу с расовым угнетением, а она ведь неизбежно является и борьбой против несправедливого экономического порядка, бенефициарами которого как раз и являются крупные корпорации.
ЛУКЬЯНОВ: Че Гевара стал буржуазным потребительским брендом. А Даниэль Кон-Бендит, который был одним из лидеров студенческого движения, уже больше тридцати лет сидит в Европарламенте, причём не как левый, а как либерал.
УШАКИН: Я не очень уверен в том, что такое «перерождение» предопределено самим событием. Мне кажется, тут всё-таки работает другая логика – так называемой «нормализации». Практически любой исходный радикализм со временем становится всё более и более привычным – на уровне и формы, и содержания. В России, например, похожая ситуация скложилась после 1917 года. В 1919 г. Эль Лисицкий рисует разнообразные абстрактные проуны (проекты по установлению нового – концепция изображения моделей супрематической архитектуры – прим. ред.), создаёт с Малевичем свою версию авангарда. А заканчивается всё тем, что в конце 1920-х гг. тот же Лисицкий оформляет советские павильоны на международных выставках, делает дизайн для «СССР на стройке» и так далее. Но это не значит, что предложенные формы и концепции не обладали изначально новаторским потенциалом. Та же визуальная пропаганда Лисицкого, например, во многом изменила наши зрительные привычки, создав новые визуальные каноны. Логика состоит в том, что в долгосрочной перспективе всё заканчивается консервацией метода и превращением его в продаваемый приём.
Но если вернуться к Че Геваре и теме борьбы в 1960-е гг., мне кажется, что мы обычно забываем: тогда протесты в Америке были во многом антивоенными. Да, объектом критики была система в целом, но студенты протестовали против призыва в армию. И, благодаря этим протестам, призыв отменили. И война закончилась. Со временем. В сегодняшних протестах показательно, на мой взгляд, то, что такой консолидирующей темы, которая обнажала бы уязвимость системы в целом, нет. Например, присутствие американских войск в Афганистане или в других частях света не вызывает возражений и воспринимается как часть патриотической позиции. Недавний скандал по поводу якобы российских вознаграждений за убийства американских военных в Афганистане обсуждается в контексте того, что «наши солдаты защищают рубежи нашей Родины».
Вот этот взгляд, мне кажется, сложно представить в рамках протестов 1960-х годов. В том числе и потому, что связь между военными тратами и, скажем, бюджетом на образование и здравоохранение виделась довольно прямой: чем больше ракет, тем меньше школ. Сейчас таких связей не усматривают. Годы неолиберализма приучили всех к тому, что каждый умирает в одиночку. Ну, или побеждает. Вернее, эти связи прослеживаются, но на местном, а не федеральном уровне. Призывы «финансово обескровить полицию» (Defund The Police) – во многом проявление логики перераспределения. Существенное отличие в том, что полиция-то как раз финансируется из местных налогов, и там видна прямая взаимозависимость между бюджетами полиции и бюджетами социальных служб. Протест, таким образом, переводится на муниципальный уровень, а не на уровень государственного бюджета.
МАТВЕЕВ: В Америке есть мощный антивоенный полюс в обществе, но у корпоративных демократов – другая повестка. И они пытаются присвоить себе нынешнее движение, говоря: «Мы тоже антирасисты, мы за то, чтобы было больше чёрных предпринимателей». И протестному движению придётся с этим бороться: отвечать, что демократы не представляют их интересов, что проводимая политика имеет чисто символический характер. Например, часть улицы, ведущей к Белому дому, переименовали в “Black Lives Matter Plaza” (Площадь «Жизни чернокожих имеют значение»). А местное движение BLM ответило: «Нам ваши надписи ни к чему, сначала сократите бюджет полиции. Нам нужны не пустые жесты, а реальные дела». У нас в России многие наблюдатели не до конца понимают, что есть само движение, а есть представители истеблишмента вокруг него. А у них совершенно другая повестка.
ЛУКЬЯНОВ: Вернёмся к 1968 году. В Германии в то время была волна осмысления нацизма. Немцы задавались вопросом, а что делали их родители, например, в 1943 году? Получается, сейчас происходит нечто похожее: а что в 1810 г. делал мой прапрапрадедушка и не надо ли за это покаяться?
ФИЛИППОВ: Когда мы говорим о событиях 1968 г., то должны помнить, что в каждой стране была своя специфика. Волнения в общежитиях в Париже не похожи на антивоенные выступления или на движение американских хиппи. Везде что-то своё, но ведь было и общее. Во всех странах (назовём их условно – развитыми) есть молодые люди, которым надоели родители, благополучная культура, предполагающая однотипный ход жизни. По крайней мере, для наследников хороших семей. Помните спектакль «На полпути к вершине» по пьесе Питера Устинова, который показывали у нас в Театре имени Моссовета в конце 1970-х? Действие происходит в Великобритании во второй половине XX века. В первой части сынок бунтует против папаши. Потом сынок одевается во всё офисное, а папаша залезает на дерево и оттуда произносит контркультурные речи. Пьеса шла с большим успехом. А почему? Потому что там был если и не общечеловеческий, то понятный для всех людей в индустриальных странах в эпоху модерна мотив неудовлетворённости культурой, переставшей отвечать на ключевые вопросы о смысле жизни. Это был не просто конфликт поколений, иначе среди почитаемых новыми левыми авторов не было бы столько пожилых господ. Международный характер культуры модерна обеспечил им аудиторию во всех странах. Не то сейчас. Если у нас вдруг решат поставить «Хижину дяди Тома» (Гарриет Бичер-Стоу, 1852 г. – прим.ред.), то я не уверен, что наберётся полный зал. Нас собственно расовая тема не волнует. А в конце 1960-х гг. у нас были свои контркультурные тенденции, часть из них проявилась много позже. И начальство всё время боялось, что молодёжь осмелеет.
Сейчас нет ощущения соучастия. События локализованы в нескольких странах, которые были активными агентами колониализма, причём особого рода, с идеологией расового превосходства. Там и сейчас расовая проблематика имеет значение именно в силу ощутимой внятности. Категория расы исторически очень изменчива, а уж сводить вопрос о расизме к простым делениям по цвету кожи совсем дико. Но у социальной истории расовых делений есть и какие-то трудно релятивируемые основания в биологии, и – что в нашем случае более важно – не отменяемая, состоявшаяся история. Цвет кожи, его оттенки интерпретируются, из этого делаются социальные выводы, они откладываются в истории вместе с образцами интерпретации. У одних стран есть опыт расового порабощения, в нём связаны образцы интерпретации цвета кожи, происхождения и социальные выводы, а другие страны, как бы ни относиться к их истории, в том числе истории порабощения или истребления других народов, расового порабощения в том же самом смысле не знали.
И если мы смотрим именно через этот окуляр, понимая, что там происходят процессы, которые являются внутренними, не приобретающими хотя бы в публичной сфере, в общественной дискуссии универсального значения, то для нас это проблема нескольких стран, не более того. И мы можем задаться вопросом: «А что же нас в этом задевает?». Потому что мы, конечно, неравнодушны.
Задевает как раз то, что напоминает нам конец 1960-х гг., о которых мы что-то знаем. Вот это контркультурное движение, когда большой разницы нет: испачкать или уничтожить какой-нибудь памятник или – если в очередной раз перечитать знаменитое интервью Жана-Поля Сартра журналу Esquire, в котором он говорил, что сжёг бы Мону Лизу без малейших раздумий, – агрессивно и пренебрежительно относиться к собственной унаследованной культуре. В те годы, условно говоря, быть на стороне Моны Лизы значило – быть на стороне традиции, репрессивной культуры, стариков, капитализма и колониализма. И всё равно как-то неловко получалось. Интеллигент мало того, что говорит, мол, сапоги выше Пушкина или там – гвоздь всё в том же сапоге важнее, чем фантазия у Гёте, но прямо стремится к аннигиляции великого. Это часто пытаются как-то замять, хотя в этом суть.
А сегодня мы возмущаемся: «Как же так? Памятники – всемирное достояние человечества! Линкольн – тоже достояние человечества. И Дэвид Юм – достояние человечества. Они на нашего Юма покусились!». Какое нам дело до Юма? Насколько он наш и в каком смысле? По-моему, это очевидно. Для себя самих мы на стороне культуры, традиции и общечеловеческих ценностей. Вся эта концепция великой гуманистической общечеловеческой культуры, в общем, не всегда органична для нас, но раз уж так получилось, приходится делать выводы. Для современного контркультурного движения мы на стороне белых господ, но только с той разницей, что раньше у нас традиционное одобрение революции и бунта против капитализма боролось с вновь утвердившимся «общечеловеческим» консерватизмом. Как-то мы умудрялись совмещать Пушкина в школьной программе и борьбу с колониализмом и капитализмом. Вроде бы революционное движение было и за гуманизм, и за дело мира, и за Шекспира, и за Мону Лизу, и за Патриса Лумумбу. А сегодня у нас некому стать на сторону чёрных и почувствовать их проблему. Никто не кричит, что США только притворялись царством справедливости, а на самом деле там расовая дискриминация (даже само слово исчезло из лексикона пропаганды). Да и борцы за справедливость скажут скорее, что отвлекать нас на расовую проблему – значит замалчивать настоящие социально-экономические противоречия. Как-то удивительно получается, что при всём сложном отношении к Соединённым Штатам, у нас легче найти защитников американских статуй и американской полиции, чем сочувствующих BLM. У этого есть свои основания, но и издержки.
Надо, конечно, ещё посмотреть, чем там у них всё кончится. Новые левые и контркультура не опрокинули традицию, но сильно изменили способ её передачи и потребления. И не только это произошло. 1960-е гг. закончились университетской реформой. В результате в развитых странах наплодили прорву университетов, чтобы люди, которые кричали, что кругом неравенство и социализировалась в берлинских коммунах, стали неомарксистской профессурой в бесчисленных новых учебных заведениях. Именно они учредили новый университетский истеблишмент в социальных и гуманитарных науках, воспроизводя себе подобных, которые занимали места во всё новых университетах. Именно они задают тон в производстве социального знания и оценке происходящего в наши дни.
Думаю, что сейчас дело не ограничится только университетами. Видно, что у людей реальная проблема, они её не придумали. Сейчас они добьются каких-то мест, каких-то шансов, каких-то дополнительных компенсаций за поруганное колониальное прошлое. Произойдёт изменение структуры существующей системы, чтобы недовольные тем, что их не уважают, получили бы это уважение в нужном количестве. Потом система всё сглотнёт, переварит, и те, кто прежде контролировал денежные и идеологические потоки, будут их и дальше контролировать.
МАТВЕЕВ: Я согласен с тем, что и на этот раз элите удастся удержать позиции, но я думаю, что социального мира достичь будет гораздо труднее, чем после 1968-го. В конце концов, мы имеем дело с парадоксальной ситуацией – на символическом уровне, с точки зрения публичного дискурса на протяжении последних десятилетий в США вроде бы наблюдается непрерывный прогресс антирасизма. Отношение не только к откровенно расистским, но и просто «бестактным» (tone-deaf) и двусмысленным высказываниям – очень жёсткое, работы за них лишиться легче лёгкого. Политики и другие публичные фигуры либерального толка постоянно совершают какие-то символические жесты солидарности с антирасистским движением. И тем не менее – массовые протесты и беспорядки афроамериканского населения происходят вновь и вновь, повторяясь едва ли не каждый год. Причина в том, что на фоне вот этого символического прогресса антирасизма сохраняется практически нетронутым экономический фундамент расового угнетения. Расовое неравенство накладывается на классовое. Либеральный истеблишмент не спешит обращаться к этой корневой проблеме – отчасти из-за глубоко въевшегося лицемерия, отчасти из-за приверженности так называемой «политике идентичности», которая предполагает жёсткое отделение экономики от расовых, гендерных и других неравенств, как будто они существуют в параллельных реальностях. Результат – регулярные вспышки гнева афроамериканцев в стране, на словах вроде бы давно и окончательно открестившейся от своего расистского прошлого. До тех пор, пока сохраняется разрыв в оплате труда, уровне безработицы, жизненных перспективах, доступе к образованию, стоимости жилья, – пока все эти объективные разрывы будут сохраняться, прогресса не будет. Ложные достижения будут всё время выдаваться за реальные дела.
ЛУКЬЯНОВ: Действительно ли не решается проблема наполнения интеллектуального класса за счёт чернокожих?
УШАКИН: Она не решается по тем причинам, о которых уже говорилось. Мы забываем, что университеты расширялись за счёт «бэби-бумеров», которые просто своей численностью во многом модифицировали сложившуюся к тому времени систему социальных институтов. Тогда это были школы и университеты, сейчас данная группа меняет здравоохранительную и пенсионную сферы. Займы на обучение, которые давали ветеранам Второй мировой, были попыткой встроить их в новый контекст, изменить траектории их социальной мобильности. В университеты пришли представители социальных групп, которых там раньше не было: нижнего среднего, рабочего классов, первое поколение тех, кто получал высшее образование.
Что происходит сейчас? В Принстоне, например, есть программа, когда университет при зачислении специально обращает внимание на абитуриентов первого поколения – то есть, дети тех, у кого нет университетского диплома. Это, как правило, представители социально и экономически уязвимых групп – дети мигрантов и меньшинств. Им дают дополнительные льготы и финансирование. Но они должны соревноваться на равных с другими абитуриентами. То есть при равных баллах, например, можно отдать предпочтение вот такому first-generation кандидату. Проблема в том, как добиться этих равных баллов? Снижать уровень проходного балла ради определённой группы тоже нельзя – это подорвёт идею справедливой конкуренции в принципе.
В Советском Союзе проблему решали с помощью так называемых рабфаков, подготовительных курсов, куда принимали только детей рабочих, чтобы они в течение года могли подготовиться к учёбе в университете. Понятно, что таких «рабфаков» в Штатах почти нет. В основе этой проблемы – специфическая роль общеобразовательной системы. Которая, как правило, воспринимается не как институт социальной мобильности, а во многом как институт социального управления, помогающий работающим родителям держать детей под присмотром. Коронавирус проявил неблагополучие в этой области: вдруг выяснилось, что обучение онлайн совсем не общедоступное – и потому, что у школьников нет соответствующих гаджетов, и потому, что доступ к интернету дорог. В прессе масса публикаций о том, как школьники делают домашнюю работу рядом с «Макдоналдсами», потому что там – бесплатный вайфай.
Есть и другая сторона. Я не так давно беседовал с одним своим студентом из Африки. Он мне объяснял трудности с выбором специализации. Он – один из немногих чернокожих студентов на кампусе, который хотел бы специализироваться в области гуманитарных исследований. Как правило, таких студентов их руководители подталкивают специализироваться на более, так сказать, хлебных профессиях – технических специальностях, компьютерных делах и тому подобном. В результате в ряде дисциплин представителей меньшинств очень немного. Эта ситуация, естественно, воспроизводится и на уровне преподавательского состава. Славистика, например, в расовом отношении – очень «белая» дисциплина – количество преподавателей-афроамериканцев минимально. Как диверсифицировать состав преподавателей, когда в то или иное дисциплинарное поле афроамериканцы почти не идут, неясно. Как преодолевать эту расовую гомогенность дисциплины? Где брать кадры, которые решат всё?
ЛУКЬЯНОВ: Подъём антирасизма, антирабства и антиколониализма – это своего рода ответ на рост традиционалистских, популистских настроений по всему миру, особенно в странах ЕС последние лет пятнадцать. Они апеллируют к золотому веку, устоям, скрепам, которые теперь расшатываются и которые надо вернуть. И тут им говорят: «А вот они – ваши скрепы. Вот на чём они зиждились: рабство, торговля людьми и прочая». Это обратная волна, ответ популистам. Но в России скрепы – самое главное. И немалая часть общества (которая действительно консервативно настроена), и руководство этого общества отчасти воспринимают атаку на «скрепы» за морями, за лесами как косвенную угрозу и себе. Иными словами, может быть, всё-таки есть элемент и нашей сопричастности, как в 1968 г., мы находимся не вне, а внутри течения?
ФИЛИППОВ: Когда владелец магазина или его подчинённые видят, что кто-то разбивает булыжником витрину магазина, радости они от этого не испытывают. Возможно, от этого легче человеку, которому совсем плохо, который думает: «Господи, ведь правда, раз в жизни пожить по-человечески, разбить эту витрину, взять что-нибудь и убежать». Это можно понять. Но никто в массе не фокусируется на вопросе: откуда такая широкая поддержка контркультурного движения со стороны медийного истеблишмента? Очевидно сочувствие, желание показать, как угнетают бедных, как доводят людей до того, что они, будучи не в силах так жить, идут и разбивают витрины.
Этот момент у нас вызывает даже большее беспокойство, потому что само устройство медийной среды (если она действительно является медийной средой, а не пропагандистским рупором) должно быть эхом общественных настроений, резонировать с ними. Есть ощущение массовости контркультурных настроений, которые подпитываются чувством попранной справедливости, ощущением того, что существует исторически и культурно укоренённая прослойка, или класс тех, кто продолжает быть законодателями вкуса, правильного суждения, допустимого или недопустимого для преподавания в системе высшего образования. И бедному человеку вырваться, разорвать эту паутину иным способом, кроме как разбив стекло, нельзя. Я не говорю о том, справедливо это ощущение или нет. Но медийная среда его воспроизводит и входит с ним в резонанс.
Наша медийная среда устроена совершенно по-другому. Есть естественное требование справедливости и болезненное ощущение застывающей, как паутина, как соты, окаменевающей структуры, из которой человеку уже не вырваться. Это требование в редких случаях ещё может активизироваться ради какой-то пропагандистской кампании, но оно никогда не становится в медиа настоящим эхом массовых настроений. Наоборот, здесь усматривается основание для беспокойства. Происходящее – не просто протест чёрных, которых у нас нет, это протест людей, чувствующих себя навечно ущемлёнными. Поэтому воспроизводятся несколько нарративов демотивации, чтобы заранее дискредитировать эту тему. И это свидетельствует о правильном понимании социальных процессов теми, кто такое транслирует. Потому что они понимают, что фундамент этого противостояния не такой и чужд нам.
МАТВЕЕВ: Согласен. Действительно, где бы ни происходили протесты, прокремлёвские СМИ неизменно используют при рассказе о них одну и ту же консервативную риторику: «Их ждёт Майдан и коллапс, как на Украине». Интересно другое, – что у наших российских либералов, которые поддерживали Майдан, сегодняшние протесты вызывают жесточайшее неприятие. И мы видели гротескный расизм со стороны многих известных персон. Почему?
Думаю, дело в следующем. Запад долгое время испытывал некое чувство экзистенциальной безопасности. В том смысле, что его идентичность была недоступна для посягательств. Мы – носители прогрессивных ценностей; либерализм, универсализм – это всё наше. Отсутствие либерализма, каких-то универсалистских ценностей, прав человека – это за пределами западного мира. Поэтому Запад был спокоен по поводу самого себя.
Другой стороной этого было наше вечное российское беспокойство, что мы живём в неправильной, ненормальной стране. Ненормальной по отношению к кому? По отношению к «нормальному» Западу.
В западном россиеведении в начале 2000-х гг. постоянно велась дискуссия о том, является ли Россия нормальной страной. На эту тему даже есть книга “A Normal Country: Russia after Communism” («Нормальная страна: Россия после коммунизма», Андрей Шлейфер, 2005 г. – прим. ред.) . Кто-то говорил, что Россия – “normal”, кто-то – что “abnormal”. Но критерии нормальности – на Западе. Запад – это нормально. Россия по отношению к нему или приближается к нормальности, или, наоборот, отдаляется от неё.
И вот теперь мы столкнулись с ситуацией, когда сам Запад начал глубоко задумываться: «А мы сами нормальные?». Трансатлантическая работорговля? Переселенческий колониализм? Вдруг появилось чувство сильнейшей внутренней тревоги, а чувство экзистенциальной безопасности исчезло: «Что, если весь наш западный мир – он тоже не “normal”? И наше собственное прошлое – кошмар, такой же безобразный, а может, ещё и хуже, чем у других стран, про которые мы привыкли думать, что у них всегда проблемы, а у нас никаких проблем нет. И наша собственная история – не описание прогресса либеральных идей, а хронология геноцидов, работорговли, экономической эксплуатации, чудовищных войн?».
На самом деле Запад познакомился с тем чувством, которое знакомо русскому интеллектуальному классу уже 200 лет. Мы в России привыкли вечно переживать из-за того, что западная «семья народов» нас отторгает, как говорил Чаадаев. Когда-то мы отклонились от верного курса и теперь мучаемся: у нас самодержавие, православие, и мы не можем этого идеала достичь. А Западу ничего не нужно было достигать, он же и есть эталон. Это очень глубокая экзистенциальная проблема всего западного мира, потому что из истории вытекает идентичность: а что значит – быть «западным человеком»? Раньше думали: «Быть либералом, который выступает за права человека». Оказывается, историю либерализма очень трудно отделить от истории рабовладения. Отцы-основатели США были богатыми плантаторами, Джон Локк – акционером рабовладельческой компании. Российская же интеллигенция впитала идею, что там всё хорошо, а наша история – ненормальная. И вдруг они видят Запад, который начал сомневаться в самом себе. И русский интеллигент не может ему эту неуверенность в себе простить. Потому что Запад должен быть полностью уверен в том, что он – идеал, а вокруг всё ненормально. Появляется ощущение, что весь мир рушится потому, что рушится западный мир.
Конечно, русские интеллигенты успокаивают себя тем, что это пройдёт, американцы решат эту проблему, и не с таким справлялась Америка. Может, и проблемы на самом деле нет, просто медиа нагнетают. Тем не менее в целом ситуацию можно описать как экзистенциальный кризис русского либерализма, связанный с кризисом западной культуры, которая начинает в себе сомневаться. А наши вслед за ней начинают сомневаться во всём в этой жизни.
УШАКИН: Про системный расизм было известно давно. То, что у афроамериканцев короткая продолжительность жизни, что они не представлены в корпоративных советах и так далее, – для образованной публики секрета здесь не было, как и для самих афроамериканцев. И для меня основной вопрос не в том, что это стало очевидно, а в том, с какой скоростью СМИ вдруг переобулись в воздухе и стали подавать это как нечто ранее абсолютно неизвестное. Я спрашиваю знакомых: «Объясните мне, почему вы раньше об этом не говорили? Почему эта озабоченность расовыми проблемами проявилась только сейчас, когда начали сносить памятники? У вас – при всей свободе слова, академической свободе, при наличии демократических институтов – результат примерно такой же, как в России со сталинизмом: об этой проблеме говорят единицы, а остальные молчат». Ответа, естественно, нет, да его и не может быть.
Но мне бы хотелось и другой тип молчания отметить. Мне кажется, что антирасистский дискурс в Соединённых Штатах может быть крайне актуален и для России. За исключением ограниченного числа научных публикаций у нас ведь тоже не сложилось приемлемого и доступного понятийного аппарата, чтобы говорить о собственной колониальной истории – будь то на уровне Российской империи или Советского Союза. У нас есть общий лозунг про дружбу народов, есть цивилизационная логика: русские – учителя, которые несли свет модернизации, просвещая полудикие народы. Есть, наконец, тезис про Россию как тюрьму народов. Но дальше этих лозунгов продвигаемся с трудом.
Я отдаю себе отчёт в том, что говорить (и думать), например, о политике русификации Средней Азии или Кавказа непросто и в интеллектуальном смысле, и в эмоциональном. Но не выносить эту тему в общее дискурсивное пространство тоже нельзя. Цель, понятное дело, не в том, чтобы скатиться в очередной приступ «виктимизации» и искать новых жертв и палачей. Цель таких дискуссий – понять, как функционировала эта система отношений? Какие последствия она имела? Что с ними делать теперь? Как, например, наше колониальное прошлое видится сегодня, с точки зрения современных миграционных процессов? Какие негативные и позитивные тенденции оно провоцирует? Или как такое колониальное прошлое даёт о себе знать в контексте «новых» суверенитетов на постсоветском пространстве? Как работать с имперским наследием, не воспроизводя при этом его логику доминирования?
Естественно, речь идёт не совсем о расизме, но отчуждённость и отсутствие понимания того, как взаимодействовать с людьми из другой культурно-религиозной среды, из среды, сформированной в ситуации ассиметричных властных отношений, абсолютно такие же.
ЛУКЬЯНОВ: Это очень интересная тема, хотя нельзя прямо сопоставлять – слишком разный генезис процессов. Но рефлексия по поводу того, что можно назвать «колониализмом», действительно, отсутствует. Ещё один аспект. Сегодня Запад находится под мощным давлением двойного рода. С одной стороны, происходит размывание западных обществ из-за неостановимых потоков населения с Юга на развитый Север. С другой стороны, это утрата лидерства по мере роста Китая и подъёма других стран Азии, их технологического и экономического развития. Европа уже потеряла ведущие позиции, а Соединённым Штатам брошен вызов. Не является ли всё это актом капитуляции Запада перед собственным прошлым?
УШАКИН: Это не капитуляция перед прошлым, а модернизация отношений с ним. Ведь тридцать лет назад казалось, что история закончилась. Нарративы сформировались. Гештальт закрыт. У нас всё хорошо, а то, что не очень хорошо, – мы знаем, почему, и над этим работаем. А тут выясняется: гештальт был не закрыт, а просто прикрыт на время. Дырки в этом гештальте, оказывается. И немаленькие!
И в полном соответствии с тем, чему нас так долго учил постмодернизм, начали появляться самые разные культурные логики и практики. В частности, пришло вполне чёткое понимание того, что, например, Вторая мировая война, скажем, с точки зрения Китая, выглядит немного не так, как она выглядит с точки зрения Берлина или Парижа. И с точки зрения Нур-Султана и Минска – она тоже другая.
Кроме того, появилось поколение, которому очевидность прежних канонов мироустройства не так очевидна. Мы видим это по студентам, которые задают естественные вопросы о том, почему мы изучаем то, что мы изучаем? Точнее – почему изучаем одних авторов за счёт того, что не изучаем других? Вопрос о происхождении канонов и прочих очевидностей – это уже вопрос не только исследователей, которые занимаются историей понятий и гносеологических рамок. Это базовая установка.
Важно и другое – студенты задают вопросы, которым мы, собственно говоря, их и научили, но переносят они их на современную им ситуацию: «Мы знаем, что социальные институты создавались в прошлом. Мы знаем, что традиции придумываются. Мы знаем, что память конструируется. Тогда это придумали так, теперь давайте придумывать по-другому». Это всё мейнстрим культурологии сорока-пятидесятилетней давности, просто теперь такая конструктивистская логика стала общим достоянием. И неважно, как она оформляется: в виде консервативного призыва «назад, к традициям» или футуристического – «вперёд, в светлое будущее, которого нас лишили». Логика сходная: основания своей жизнедеятельности мы формулируем сами.
Так что я не думаю, что это капитуляция перед прошлым. Скорее признание очевидного – претендовать на гегемонию той или иной версии прошлого теперь невозможно.
«Прошлых» будет много. И эти разные «прошлые» станут активно артикулироваться и распространяться.
И для меня главный вопрос в том, как жить с этими разными правдами о прошлом, точнее – как искать общий язык, когда ощущения общего прошлого нет. Где искать тогда общую почву? И стоит ли искать? Или разойтись по своим культурным автономиям, где можно холить и лелеять свою, групповую версию истории, с которой хочется жить?
ФИЛИППОВ: Когда я слышу о том, что Западу «кранты», хочу напомнить, что я впервые, кажется, читал это у Герцена – он писал подобное в середине XIX века. Уже тогда русский человек приезжает на Запад и понимает, что единственное место, где можно спасти западную культуру, – это Россия. И Достоевский со «священными камнями» Европы. Всё, Запад кончился. Эта волынка заводится всегда примерно одинаково. Но у меня никакого страшного беспокойства за судьбу Запада нет. Может быть, потому, что я к нему более безразличен, чем к своей стране. В конце концов, гори там всё огнём, что же делать, это их проблемы, они их как-то решают.
С другой стороны, я думаю, что всё, о чём мы успели поговорить, выглядит как симптом слабости или обречённости только в совершенно определённой перспективе. Эта перспектива, в принципе, мне лично близка. Я предпочитаю сталинские ампиры, «Лебединое озеро», поэтов-лауреатов и школьную программу, по крайней мере, по литературе, которая позволяет людям через пятьдесят лет или через две-три тысячи километров находить общий язык, потому что у них есть что-то в основании, то, что делает их и современниками, и согражданами государства. Иерархическая концепция культуры мне внутренне гораздо ближе. Но это нельзя путать с концепцией культуры, социальной жизнью культуры. То движение, которое мы наблюдаем в США, в значительной степени контркультурное и в очень большой степени имеет характер культурного реванша.
Организация этих множественных дискурсов, сред, которые плохо понимают друг друга, иногда даже не имеют ничего общего между собой, – это же можно трактовать совсем по-другому. Разнообразие является способом повышения чувствительности социальной системы. Например, есть большой остров социальной жизни – тот же чёрный район. Если вы не озабоченный проблемами социальной справедливости белый учёный или не местный политик, который чувствует, что оттуда идёт зараза, убийства и прочее, то о 90% здешних проблем вы никогда не узнаете и тем более не будете поднимать это наверх медийной повестки. Там должна образоваться какая-то мощная коммуникативная среда, чтобы об этом речь шла в общезначимых терминах, а не на уровне эмоций, аффектов и недовольства.
Это же касается чего угодно. Есть огромное количество плохо связанных между собой участков или блоков социальной жизни, бунтующих против истеблишмента и иерархической гомогенной культуры и отвоёвывающих себе право на возможность жить своей жизнью, говорить на своём языке. И как бы это ни было неприятно большим белым господам, тем самым они сохраняют продуктивность большого социального целого и социальный мир на новой, гораздо более эффективной ступени. Боюсь показаться бессмысленным оптимистом, но мне кажется, что это, наоборот, какой-то очередной пароксизм, содрогание, из которого страны, где это происходит, выйдут быстрее и более крепкими, более приспособленными к будущему, чем те, которые скрепили всё, что можно, своими скрепами. Меня как раз беспокоит наше привычное чувство превосходства. Знаете, одни больные могут пройти через кризис, через обострение, а потом выздоравливать, а других преследует вялое течение болезни, годами подтачивающее организм. Я не уверен, что хочу публичных кампаний такого же накала у нас в стране, не хочу всех этих диких эксцессов. Но меня беспокоит такое, говоря техническим языком, загрубление датчиков – бывает, что некоторые приборы срабатывают слишком быстро или слишком часто из-за чрезмерной чувствительности датчиков, и тогда перед установкой их специально загрубляют, чтобы, например, сигнал тревоги раздавался, когда лезет вор, а не когда летит муха. Но и в социальной жизни то же самое, только датчики здесь особого рода: острые общественные дискуссии, резкости и несправедливости, которые неизбежны в таких делах, переопределение авторитетов и прочего. Но это жизнь, а не смерть.
МАТВЕЕВ: Конечно, нескончаемые пророчества о «конце Запада» звучат смешно, но меня здесь беспокоит другое. Если бы только учёные подвергали канон сомнению, всё было бы очень мирно. Но когда это становится общественной дискуссией, то приводит к росту консервативных реакций. Вы сказали, что нынешние протесты – ответ на волну правопопулистских движений. А мне кажется, наоборот, сами эти правопопулистские движения – ответ на нарастающую самокритику Запада. И уже это опасно.
Первая проблема – самокопание – может привести пусть к временному, но росту очень агрессивных реакционных сил в обществе.
О второй проблеме я уже много говорил – либеральные центристы способны символически усвоить актуальную риторику: «да, мы во всём виноваты, колониализм». Но они сделают это так, что никаких системных изменений не будет. То есть на символическом уровне все согласятся с тем, что колониализм и рабство – это очень плохо. А в реальности останется тот же грубый капитализм, глубочайшее неравенство, которое накладывается на расовую проблему. Это пугает меня больше, чем Трамп. Возможно, именно так и произойдёт. И потому стихийные восстания будут повторяться через десять, двадцать, тридцать лет. В Америке такое всё время происходит. В 1965 г. был огромный бунт в Уоттсе, в Лос-Анджелесе. В 1992 г. сожгли весь Лос-Анджелес. В 2014 г. по поводу Эрика Гарнера был бунт, охвативший всю страну. Сейчас – вот это. В какой-то момент замкнутый круг должен быть разорван.
ЛУКЬЯНОВ: Мне понравилась мысль о том, что новое поколение, которое воспитано в новых представлениях, за канонические трактовки истории держаться не будет. Потому что оно прекрасно знает, что пишется любая история, какая надо. Мы все боремся с историческим ревизионизмом, а это, оказывается, битва с мельницами.
Текст подготовила Евгения Прокопчук, выпускающий редактор журнала «Россия в глобальной политике», аналитик ЦКЕМИ Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики».

НОВАЯ ЕРЕСЬ ГРАЖДАНСКОЙ РЕЛИГИИ
ЛЕОНИД ФИШМАН
Доктор политических наук, профессор РАН, главный научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН.
АМЕРИКАНСКАЯ ПОПЫТКА ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
После того, как полиция и национальная гвардия ликвидировали «народную республику» Сиэтла, а протесты афроамериканцев и поддерживающих их белых активистов пошли на спад, можно в очередной раз задаться вопросом: что это было?
Очевидно, что американские бунты давно уже не являются лишь свидетельством запущенной расовой проблемы и следствием типично американской ситуации, в которой, как неоднократно было замечено, классовые границы почти точно совпадают с расовыми. Сколь бы правдоподобной и удобной ни казалась её приверженцам концепция «структурного расизма», понятно, что объективно она является не более чем средством для самоутверждения определённого сорта политических активистов в пределах американской политической системы. Как отмечает Рой Феррейро, «то, что называется “институциональным расизмом”, является адаптацией капиталистических дисциплинарных методов контроля над населением. Это насилие не имеет подлинной “расовой” мотивации»[1]. Хотя объективно никаких специфически «белых» привилегий нет, активисты Black Lives Matter (BLM)[2], апеллируя к дискурсу институционального расизма, пытаются добиться для себя именно привилегий в рамках того же самого «тайного» дискурса, который оправдывает их дискриминацию, – перевернув его с ног на голову.
Тем не менее концепции структурного расизма, «белых» привилегий и так далее, равно как и вытекающие их них требования материальных и моральных компенсаций чёрным за века рабства, являются признаком чего-то большего, чем закоренелое заблуждение или политическая и идеологическая недисциплинированность. Мы полагаем, что всё это – признак выработки новой философии социальной политики в период, когда то, что французский историк Пьер Розанваллон называет философскими основами «социального государства»[3], оказывается не вполне применимым для ослабления накала социальных проблем не только в Америке, но уже и на родине социального государства – в Европе. Нас не должно сбивать с толку то, что сейчас мы сталкиваемся с этой новой философией, замутнённой расовой проблематикой, которая вытекает из американской специфики.
Для того, чтобы пояснить нашу точку зрения, мы должны показать, какова подоплёка, как говорили раньше, «расового вопроса» и в чём заключаются философские основы привычного нам понимания социального государства.
Начнём с расового вопроса. Много ли собственно расового в расовой проблематике, то есть в дискриминации по признаку расы в обыденном смысле слова? Дискриминация во всех случаях ассоциируется у нас с неравноправным (вплоть до рабского) положением одной социальной группы по отношению к другой. Причём признак расы играет в обосновании дискриминации совсем не первую роль, а, напротив, является производным, конструируемым из других. Рабы в Древнем мире, в Средние века и даже в Новое время – рабы по закону. Если же речь идёт о попытках обоснования рабства или, например, подчинённого положения женщин не только по закону, то со времён Аристотеля апеллируют к «природе». Последняя, правда, имеет отношение скорее к индивидуальным качествам людей, чем к расе. Апологеты рабства негров и подчинённого положения иных рас также указывают на их интеллектуальные, эмоциональные и прочие отличия от белой расы, которые делают дискриминируемых относительно ущербными: они глупее, слабее, не обладают такой же крепкой волей и чувством собственного достоинства, нуждаются во внешнем руководстве, как дети, и так далее. Иными словами, одни расы ниже других не из-за цвета их кожи или формы черепа, а потому, что им приписывается ущербность. Как говорил ещё арабский историк и философ XIV века Ибн Хальдун, «негритянские страны как правило покорны в рабстве, поскольку по своим чертам они близки к самым глупым животным»[4], или, по словам французского психолога Гюстава Лебона, «можно легко сделать бакалавра или адвоката из негра или из японца; но этим ему придают чисто внешний лоск, без всякого воздействия на его психическую природу, из которой он не может извлекать никакой пользы. То, чего ему не может дать никакое образование (потому что их создаёт одна только наследственность), – это формы мышления, логика, и, главным образом, характер западных людей. Этот негр или этот японец могут получать сколько угодно дипломов, но никогда им не подняться до уровня обыкновенного европейца»[5]. Аналогичные аргументы шли в ход, когда требовалось обосновать фактическое неравенство уже внутри самой белой расы. Так, в Америке в 1900-е гг. нередко утверждали, что новые иммигранты – евреи, итальянцы, славяне – физически и психически ниже северных европейцев.
Иными словами, если мы исключим из расовой теории связь между внешними признаками расы и интеллектуальными качествами людей как базы для дискриминации, мы получим старое доброе аристотелевское обоснование естественности (объективной предопределённости) «рабства по природе», как и вообще всякого социального неравенства и дискриминации: «Небелые народы недостаточно умны, поэтому им не хватает знаний, чтобы управлять собой и своими землями… поскольку интеллект являлся определяющим фактором, а этим народам, по мнению колонизаторов, не хватало ума, они оказывались и в меньшей степени людьми. Считалось, что у них нет никаких моральных качеств… Та же логика применялась и по отношению к женщинам, якобы слишком непостоянным и сентиментальным для привилегий, доступных “рациональному человеку”… В Великобритании XIX века женщин закон защищал меньше, чем домашний скот. Возможно, тогда и не стоит удивляться, что в течение многих десятилетий официальная проверка интеллекта скорее усугубляла, чем облегчала положение женщин»[6].
Другой стороной обоснования неравенства становится выдвижение ряда критериев для апологии меритократии, аристократии или, в более широком смысле, прав тех социальных слоёв, которые считаются становым хребтом общества (например, «средний класс»). Нетрудно заметить, что ключевым элементом концепции меритократии или аристократии является своего рода социальный утилитаризм. «Лучшие» должны иметь привилегии потому, что их социальный вклад больше вклада прочих.
Показательно, что утилитаризм такого же рода находится и в основании философии социального государства: граждане получают возмещение в первую очередь за свою экономическую и военную полезность и лишь потом примешиваются иные соображения, согласно которым они становятся достойными социальных гарантий.
Переходя к вопросу о философских основаниях социального государства, мы должны начать со следующего. В прототипах современного социального государства прежде всего заботились о тех, кто был для него наиболее полезен, о чём «свидетельствует не только весьма скромный объём услуг, но и тот факт, что изначально социальное страхование существовало для привилегированных слоёв населения – чиновников и военных… Практика выделения этих групп сохранилась и сегодня: пенсии госслужащих значительно выше, чем занятых в частном секторе, а обслуживают их специальные кассы»[7]. При этом забота о прочих категориях нуждающихся сводилась почти исключительно к благотворительной социальной политике вроде «законов о бедных», да и то касающихся не всех бедных, а только честных и трудолюбивых. Поэтому не случайно первые варианты социального государства явно дискриминируют женщин, особенно если они не работают, у них нет детей – потенциальных работников, если они не замужем и так далее[8]. Ранние социальные программы, как правило, исключали «недостойных»: нищих, пьяниц, «ленивых добрых людей».
С течением времени изначальная узконаправленная забота о «бедных», «достойных» и «полезных» трансформировалась в социальную политику, призванную обеспечить достойную жизнь всем членам общества без исключения. Это было связано с формированием концепции «социального гражданства» и демократизацией западных политических режимов. Концепция «социального гражданства» исходила из того, что существует своего рода базовое человеческое равенство, связанное с идеей «полного членства в сообществе». Политика, осуществляемая в свете этой концепции, была призвана сформировать сообщество, в котором классовые различия являются законными с точки зрения социальной справедливости. Смысл всего этого в том, что неравенство, основанное на унаследованных (классовых) преимуществах, уменьшается, но вместо него появляется новый – и уже законный – тип неравенства[9]. Демократизация же способствовала тому, что многие ранее явно дискриминируемые социальные группы стали допускаться к принятию решений относительно оценки степени собственной полезности. Тогда помощь, которая ранее касалась только полезных государству «настоящих граждан», начала распространяться в том числе и на тех, кому она изначально не была предназначена.
Тем не менее описанный выше утилитаризм никуда не исчез, да и не мог исчезнуть в условиях капиталистической рыночной экономики. Его присутствие мы обнаруживаем и в сегодняшних обоснованиях социальной политики. Так, предоставление всеобщего доступа к образованию, здравоохранению, забота о пенсионерах, безработных, матерях, детях и так далее оправдывается в том числе экономически – как забота о воспроизводстве рабочей силы и как политика, предотвращающая социальные конфликты[10]. Если семьи освобождаются от бремени опекунства молодых, старых и больных родственников, то увеличивается активность на рынке труда, мобильность рабочей силы и возрастает её экономическая продуктивность[11]. «Главное богатство страны» – в первую очередь люди. Отсюда популярные рассуждения о «человеческом капитале» и о социальной политике как «инвестициях» в этот капитал.
Показательны слова высокопоставленного шведского политика: «Самое главное, нужно понять, что нет никакого противоречия между экономическим ростом и социальным прогрессом. Они идут рука об руку. На этот счёт у нас очень хороший опыт в Швеции. Когда мы инвестируем в доступный и качественный уход за детьми, у нас улучшается экономический рост, больше женщин появляется на рынке труда. У нас много таких примеров. Подобные процессы должны происходить одновременно. Думаю, что это и есть сердцевина европейской социальной модели»[12].
Описанная выше философия социальной политики работает лишь тогда, когда её бенефициары, равно как и прочие, постоянно убеждаются в своей реальной полезности, когда они видят прямую связь между своими интеллектуальными, деловыми, моральными и иными качествами, общественным благом и уровнем социальной защиты, который они заработали. Иными словами, когда всем или большинству гарантируется «достойная» работа.
Но что, если такая связь ослабевает и всё большему числу граждан указывают на объективное снижение их полезности? Если технологическое замещение делает всё более бессмысленной или всё хуже оплачиваемой их работу, обесценивает их образование? Что если обыденностью оказываются суждения, согласно которым в обозримом будущем станет возрастать лишь ценность меньшинства, движущего научно-технический прогресс?
Всё это приводит к тому, что значительную часть населения (независимо от цвета кожи) начинают описывать примерно в тех же категориях, в каких ранее описывали «низшие расы», женщин, детей, недееспособных.
Гражданам практически открытым текстом говорят: на вашу долю остаются одни только «мусорные работы», потому что вы недостаточно умны, подвержены «цифровому слабоумию»[13], недостаточно динамичны, гибки, креативны, образованны и так далее – иными словами, потому, что вы – люди второго сорта, неспособные ни к чему серьёзному без руководства со стороны людей сорта первого. Теперь белые могут с гораздо большим пониманием, чем прежде, отнестись к борьбе чёрных против дискриминации, поскольку многие из них также получили ярлыки пустоголовых: миллениалов называют «глупейшим поколением в истории»[14]. Ещё более уничижительные характеристики адресуются так называемому поколению Z, у которого обнаруживают кликовое мышление, неспособность сосредоточиться на чем-либо более восьми секунд и так далее.
Полтора века назад один из апологетов рабства полагал, что в идеальном обществе на положение рабов должны быть переведены как свободные негры, так и белые рабочие, ибо большинство людей – и чёрных, и белых – нуждаются не в свободе, а в управлении и покровительстве со стороны надёжных хозяев. Но если тогда такие взгляды казались утопическими в худшем смысле этого слова, то сегодня они прямо вытекают из концепций «креативного класса», который в обозримом будущем, так и быть, возьмёт на себя содержание часть бесполезных сограждан[15].
Ибо, как отмечают провозвестники креативного будущего, скоро лишь «идеи станут реально дефицитным производственным фактором – более дефицитным, чем труд и капитал вместе взятые, а те единицы, которые смогут предложить действительно хорошие идеи, получат самый большой куш. Обеспечение приемлемого уровня жизни для остальных и строительство инклюзивной экономики и общества станут самыми актуальными вызовами в ближайшие годы… Тон задаёт развитие цифровых технологий и связанные с ним экономические изменения. И уж, конечно, не обычный труд или обычный капитал, а люди, которые смогут генерировать передовые идеи и инновации… Цифровые технологии превращают обычный труд и обычный капитал в товар, поэтому всё большую долю прибыли от идей будут получать те, кто их придумывает, внедряет и развивает. Люди с идеями, а не рядовые работники и инвесторы, станут самым дефицитным ресурсом»[16].
Иными словами, утилитаристская философия перестаёт быть применимой ко всё большему количеству граждан. Если вклад значительной части явно работоспособного населения в экономику и общество не может адекватно описываться в старых категориях полезности, то требуются иные обоснования его прав на социальные блага.
И примеры таких обоснований мы видим в риторике движения BLM, которое, исповедуя доведённый до абсурда утилитаризм, обращённый в прошлое, требует репараций за угнетение предков нынешних афроамериканцев. Эта мысль сейчас не кажется слишком абсурдной: «Согласно опросу Гэллапа, проведённому в 2002 г., 81 процент американцев выступили против репараций, тогда как только 14 процентов поддержали эту идею. Но ситуация меняется: в 2019 г. Гэллап обнаружил, что 29 процентов американцев согласились с тем, что правительство должно вознаградить потомков рабов. Выросла и поддержка этой идеи среди белых американцев – с 6 до 16 процентов»[17].
Действительно, трудно оспорить то, что немалая часть нынешнего американского процветания была заложена их трудом. Другое дело, что, как неоднократно замечалось, те, кто никогда не был в рабстве, требуют компенсации от тех, кто никогда не держал рабов. Но эта кафкианская ситуация сложилась потому, что Америка подошла к необходимости формирования аналога европейских моделей социального государства со значительным запозданием. Когда такое было возможно, белое большинство не испытывало в нём необходимости, а проблемы беднейшей части населения (в том числе негров) частично решались за счёт общего высокого уровня жизни и доминирования американской экономике в мире. Но сейчас, когда потенциал старой парадигмы социальной политики ещё не вполне исчерпан, по крайней мере, для белых (о чём свидетельствует недавняя популярность Берни Сандерса), Америка столкнулась с тем, что для другой части населения её уже недостаточно. В то же время многие белые поняли, что им ближе скорее философия BLM, чем старый утилитаризм социального государства, ибо по его меркам они не заслуживают того объёма социальных гарантий, на который претендуют. Поэтому сторонники утилитаризма обречены сталкиваться со сторонниками анти- и постутилитаризма – философии ещё не осознанной в полной мере новой социальной политики.
BLM – далеко не единственный пример такой идеологии. Сегодня всё большее значение обретает идея о критериях полезности граждан, которую продвигают многочисленные современные социальные движения, выступающие в защиту той или иной «идентичности»[18].
Иммигранты, цветные, представители сексуальных меньшинств, прекариат, занимающиеся «непродуктивным» домашним трудом женщины – все они претендуют на признание вовсе не потому, что играют важную роль «в общественном разделении труда» и распределении прав и обязанностей. Любой человек имеет право на весьма популярный в леволиберальных кругах «базовый безусловный доход». Иными словами, современные общества уже породили достаточно массовые движения и достаточно влиятельные политические дискурсы, которые открыто ставят под сомнение утилитарно-экономические и утилитарно-этатистские основания для предоставления социальных гарантий.
Если суммировать позитивные предложения этих политических сил, то выйдет, что единственной причиной для получения социальных гарантий выступает бытие человека. Человек достоин получать их в полном объёме по факту своего существования. Уже сейчас распространено представление, что «экономика» всё меньше отделима от «общества». В конце концов, самые эффективные экономические практики могут существовать в наиболее комфортном для проживания человека сообществе с «хорошими» экономическими и политическими институтами, высоким уровнем доверия, нравственности и так далее[19]. Таким образом, грань между критериями полезности человека и гражданина для экономики и государства и критериями его полезности для общества размывается. Поэтому появляется нужда в выработке критериев полезности гражданина как человека, чей социальный комфорт является условием социальной стабильности. Поскольку «общество», состоящее из таких граждан, всё ещё привязано к конкретному национальному государству или наднациональному образованию, критерии полезности граждан не могут быть ни сугубо «экономическими» или этатистскими, ни исключительно космополитическо-гуманистическими. Они по необходимости должны быть «общественными». Поэтому неудивительны, к примеру, призывы положить в основу социальной политики принцип воздаяния за общественную полезность гражданина – например, в деле сохранения либеральной демократии и культуры[20].
Таким образом, мы видим, что американские события являются симптомами процессов, свидетельствующих о необходимости выработки новой социальной политики. Но эта же необходимость ощущается и в других частях света. Так почему в Америке всё идёт именно так – с BLM, бунтами, сиэтлской «коммуной», низвержением памятников, коленопреклонениями белых и полицейских и прочими инцидентами, которые у отечественной публики нередко вызывают насмешки? Связано ли это только с «запущенностью» социального вопроса и расовой проблематикой? Усугубила ли ситуацию пандемия коронавируса, а, точнее, усталость населения от принятых по ее поводу ограничительных мер? Мы не можем дать исчерпывающего ответа, но хотим обратить внимание на следующий аспект.
Как проницательно заметил в своё время французский социолог и философ Жан Бодрийяр, Америка в определённом смысле страна отсталая. В своём коллективном сознании американцы больше предрасположены к «моделям мышления XVIII века: утопической и прагматической, нежели к тем, которые были навязаны Французской революцией: идеологической и революционной». Здесь до сих пор выжили секты, «сохранив изначальную мистическую восторженность и моральную одержимость. Каким-то образом именно сектантская микромодель разрослась до масштабов всей Америки». Поэтому американцы до сих пор «живут утопией (Церковь её рассматривает в качестве возможной ереси) и стремятся приблизить Царство Божие на земле, в то время как Церковь уповает на спасение и христианские добродетели». На европейцев оказала большое влияние революция 1789 г., отметившая их «печатью Истории, Государства и Идеологии» и их первосценой «остаются политика и история, а не утопия и мораль». А Соединённые Штаты – «это воплощённая утопия», которая время от времени переживает кризисы[21].
Не случайно именно в Америке с её полурелигиозным, полуутопическим общественным сознанием ярче всего проявился феномен так называемой «гражданской религии», которая «с первых лет республики представляет собой совокупность верований, символов и ритуалов, относящихся к области священного»[22]. Хотя в её основе лежат библейские архетипы, «есть в ней и подлинно американские и действительно новые. Она имеет своих пророков и своих мучеников, свои священные события и священные места, свои собственные сакральные ритуалы и символы»[23].
С этой точки зрения BLM можно рассматривать как своего рода ересь, попытку очередной реформации американской «гражданской религии» либерализма, демократии и равных возможностей. Сама же ситуация отчасти напоминает ранние буржуазные революции, когда социальные трансформации осмысливались в религиозных категориях, а «народная республика» Сиэтла вызывает ассоциации скорее не с Парижской, а с Мюнстерской коммуной. Иконоборчество в виде низвержения памятников и прочий квазирелигиозный символизм нынешней борьбы косвенно это подтверждает. Есть весомые основания предполагать, что реальные потребности сегодняшнего дня требуют осмысления на языке, так сказать, марксизма и исторического материализма, а вовсе не утопического сектантства. С точки зрения бодрийяровского европейца, происходящее в Америке слишком похоже на соблазн и безумие и напоминает действия сторонников движения «Талибан» (запрещено в России – прим. ред.), которые в 2001 г. взорвали Бамианские статуи Будды, или индуистских фанатиков, которые в 1992 г. разрушили мечеть Бабри в городе Айодхья на севере Индии[24]. Американцы остаются жить в мире, где политические и социальные вопросы осмысляются в квазирелигиозном ключе и где ответом на низвержение части идолов гражданской религии становится инициатива по очередному реформированию пантеона[25]. Впрочем, таковы издержки жизни в «воплощённой утопии». Они отчасти даже понятны тем из нас, кто не забыл, что не так давно мы и сами жили в воплощённой утопии со своей гражданской религией. И она закончилась тогда, когда пантеон ее? мучеников начал подвергаться вначале осторожному, а потом все? более радикальному пересмотру.
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-04-60337 «Оптимизация социально-экономических принципов регуляции современных обществ в контексте последствий коронавирусной пандемии».
СНОСКИ
[1] Феррейро Р. Против буржуазных «теорий привилегий» и «теорий институционального расизма». Ссылка: http://rabkor.ru/columns/debates/2020/06/30/sorry_im_white/. Дата обращения: 08.07.2020.
[2] Black Lives Matter – интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении представителей негроидной расы.
[3] Розанваллон П. Новый социальный вопрос. Переосмысливая государство всеобщего благосостояния. М.: Московская школа политических исследований, 1997.
[4] Le Figaro: Чернокожие народы требуют компенсации за работорговлю. Ссылка: http://www.inosmi.info/le-figaro-chernokozhie-narody-trebuyut-kompensatsii-za-rabotorgovlyu.html. Дата обращения: 08.07.2020.
[5] Лебон Г. Психология народов и масс. Ссылка: https://bookscafe.net/read/lebon_gustav. psihologiya_narodov_i_mass-231357.html#p10. Дата обращения: 08.07.2020.
[6] Донская К. Дискриминация по уму: как интеллект стал оправданием расизма, тирании и насилия. Ссылка: https://theoryandpractice.ru/posts/15861-diskriminatsiya-po-umu-kak-intellekt-stal-opravdaniem-rasizma-tiranii-i-nasiliya. Дата обращения: 08.07.2020.
[7] Социальное государство в странах ЕС: прошлое и настоящее. Журнал «Мировая экономика и международные отношения». М.: ИМЭМО РАН, 2016. С.48.
[8] Steinmetz G. Workers and the Welfare State in Imperial Germany//International Labor and Working-Class History No. 40, The Working Class and the Welfare State, 1991. P. 34.
[9] Kivisto P. Marshall Revisited: Neoliberalism and the Future of Class Abatement in Contmporary Political Discourse about the Welfare State. International Review of Modern Sociology, Vol. 33, No. 1, 2007. PP. 2-4.
[10] Blau J. Theories of the Welfare State. Social Service Review Vol. 63, No. 1, 1989. PP. 35.
[11] Kuhnle S., Hort S. The Developmental Welfare State in Scandinavia. Lessons for the Developing World. Social Policy and Development Programme Paper Number 17 United Nations Research Institute for Social Development, 2004. P. 22.
[12] Социальный саммит в Швеции, где тоже «не рай». Euronews.com, 16.11.2017. Ссылка: http://ru.euronews.com/2017/11/16/sotsialny-sammit-v-shvecii-kotoraya-ne-ray. Дата обращения: 08.07.2020.
[13] Шпитцер М. Антимозг. Цифровые технологии и мозг. Ссылка: https://www.litmir.me/br/. Дата обращения: 08.07.2020.
[14] Чок К. The American Conservative (США): Англо-американское доминирование или англо-американский упадок? Ссылка: https://inosmi.ru/politic/20200623/247651919.html
[15] Мартьянов В.С. Креативный класс – креативный город: реальная перспектива или утопия для избранных? Журнал «Мировая экономика и международные отношения». Т. 60. № 10. С. 41–51. М.: ИМЭМО РАН, 2016.
[16] Бринолфссон Э., Макафи Э., Спенс М. Новый мировой порядок. Журнал «Россия в глобальной политике», №4, 2014. Ссылка: https://globalaffairs.ru/articles/novyj-mirovoj-poryadok/. Дата обращения: 08.07.2020.
[17] Вишневский И. Безумная Америка: Конгресс США обсуждает идею выплат репараций неграм за их страдания во времена рабства. Ссылка: https://www.km.ru/world/2020/06/22/ssha/874834-bezumnaya-amerika-kongress-ssha-obsuzhdaet-ideyu-vyplat-reparatsii-negr. Дата обращения: 08.07.2020.
[18] Мартьянов В.С. Политические субъекты позднего капитализма: от экономических классов к рентоориентированным меньшинствам. Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология, № 3 (43), 2018. С. 181–190. DOI: 10.17223/1998863Х/43/17.
[19] Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение. Thesis, Т.1. Выпуск 2, 1993. С. 73-79.
[20] Блашке Р. 2007. Свобода – Либеральная демократия – Безусловный основной доход // Идея освобождающего безусловного основного дохода, 2007. С. 42-51.
[21] Бодрийяр Ж. Америка, 1986. Ссылка: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Bodr_Am/06.php. Дата обращения: 08.07.2020.
[22] Белла Р.Н. Гражданская религия в Америке. Вестник Русской христианской гуманитарной академии. Т. 15. Выпуск 3, 2014. C. 171.
[23] Там же. C. 181.
[24] Эрам М. «Места памяти» в США и России: никаких проблем с противоречиями (Die Tageszeitung, Германия). Ссылка: https://inosmi.ru/social/20200704/247700369.html. Дата обращения: 08.07.2020.
[25] Смит Д. The Guardian (Великобритания): В своём выступлении на горе Рашмор Трамп заявил, что США подвергаются осаде со стороны «ультралевого фашизма». Ссылка: https://inosmi.ru/politic/20200705/247706667.html. Дата обращения: 08.07.2020.

СТРАДАНИЯ, ПОДВИГ ТЫЛА И ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОЙНУ
ВАСИЛИСА БЕШКИНСКАЯ
Студентка магистерской программы Европейского университета в Санкт-Петербурге.
АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР
Доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, член Общественного совета при Федеральном агентстве по делам национальностей, приглашенный профессор Центрально-Европейского университета (Будапешт).
75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ ПАМЯТИ – ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
Юбилеи всегда значимы. Некоторые по-особому. Год 75-летия окончания Второй мировой войны должен был стать последним юбилеем, в котором могли бы принять сколько-нибудь заметное участие ветераны той войны. Эта годовщина пришлась на время возрастающей неопределённости в международных отношениях, что отразилось и в накале страстей вокруг политики памяти о войне.
Вопросы об относительном вкладе в победу членов антигитлеровской коалиции традиционно служили поводом для споров, но вопросы о причинах войны и её результатах, если угодно – её смысле, стали дебатироваться с новой остротой именно в условиях, когда мировой порядок, установленный в Ялте и Потсдаме, в значительной степени разрушен, а в сфере международных институтов зашатался в своих основаниях. Знак вопроса повис над главными элементами нарратива войны, который победители сформировали в Нюрнберге.
В этих условиях празднование юбилея Великой Победы, которая выполняет в современной России роль единственного «мифа основания»[1], должно было стать особо значимым и масштабным. Подготовка началась загодя[2]. О предполагаемом размахе мероприятий, приуроченных к 9 мая 2020 г., можно судить по цифрам планировавшихся затрат. Только для организации протокольных мероприятий, международного пресс-центра и приёма иностранных гостей Управлением делами Президента РФ в 2019–2020 гг. было подписано пять контрактов, общей суммой почти в полмиллиарда рублей[3]. Четыре из них заключены в марте-мае текущего года. Иначе говоря, в Кремле до последнего надеялись, что запланированный сценарий удастся осуществить. Однако все планы разрушила эпидемия коронавируса. Она не только отстранила от общественной жизни 60 тыс. ещё здравствующих участников войны, но и сделала невозможным проведение в апреле и мае любых массовых мероприятий. Эпидемия нивелировала и запланированное сплетение нарастающего ожидания праздника с назначенным изначально на 22 апреля 2020 г. всероссийским голосованием о поправках в Конституцию. В реальной жизни последовательность пришлось изменить – парад 24 июня предшествовал голосованию 1 июля. Но неслучайная близость этих событий сохранилась.
Для исследователей культурной памяти и символической политики это создало сложную и вместе с тем эвристически весьма продуктивную ситуацию. Мы можем оценить скорость реакции, способность властей корректировать планы, приспосабливаясь к необычным обстоятельствам. Что, конечно, не отменяет и анализа изначальных планов – как реализованных, так и отменённых или отсроченных. Мы увидели уникальные общественные реакции на ситуацию: памятование по большей части сместилось в интернет, где привычные формы мобилизации не работают. Впервые мы наблюдали разрыв между сакральной датой 9 мая и парадом, проведённым 24 июня, а также шествием Бессмертного полка, назначенным на 26 июля (но затем всё же отменённым по эпидемиологическим соображениям). Дата окончания Второй мировой войны тоже была перенесена – со 2 на 3 сентября.
Разумеется, всесторонний анализ внутрироссийских и внешнеполитических аспектов политики памяти о войне в юбилейный год потребует времени и усилий многих исследователей. Тем более что мероприятия, прежде синхронизированные вокруг 9 мая, теперь растянулись на несколько месяцев. Но мы считаем важным предложить своего рода экспресс-анализ, который охватывает именно «карантинный период», то есть время до начала июля 2020 г., и рассмотреть как внутриполитические, так и внешнеполитические аспекты темы в их взаимосвязи. Главную задачу мы видим в создании предварительной «карты» исследовательского поля, которая окажется полезной для дальнейшей работы.
Год памяти и славы
К 75-летию окончательно сменилась целевая аудитория празднований Дня Победы. В 2018 г. на заседании оргкомитета «Победа» Владимир Путин подчёркивал: «Эстафету памяти принимают уже правнуки победителей, и эта память должна оставаться чистой и объединять наше общество»[4]. В мае 2020 г. президент России внёс поправки в федеральный закон об образовании, дополнив понятие воспитания формулировкой о необходимости формирования у обучающихся «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества»[5]. Память о Великой Отечественной войне и Победе ожидаемо заняла в этой программе центральное место. В презентации задач, которая была подготовлена дирекцией «Года памяти и славы» в ноябре 2019 г., патриотическое воспитание молодых граждан России было обозначено как главная задача, причём подчеркивалось, что это не задача одного юбилейного года, но формирование основ новой системы патриотического воспитания[6]. Наконец, 4 июля 2020 г. на встрече рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Владимир Путин поддержал предложение ввести в школе «уроки исторической памяти». Предложение было сформулировано Людмилой Дудовой, председателем Координационного совета «Ассоциации учителей литературы и русского языка», следующим образом: «В этом году уроки были связаны с юбилеем 75-летия Победы, но наша история богата и разнообразна, и чем чаще мы будем обращаться к нашему историческому наследию, напоминать ребятам, что они продолжатели великой истории великой страны, тем было бы лучше. Это и форма патриотического воспитания. Только что приняты Государственной Думой поправки в закон именно о патриотическом воспитании. Это зафиксировано в поправках в Конституцию Российской Федерации. Думается, что необходимо подумать над тем и дать поручение, каким образом закрепить такого рода мероприятия в деятельности наших не только общеобразовательных школ, но и образовательных учреждений среднего и высшего образования. Историческая память требует постоянного обращения к ней»[7].
На том же заседании рабочей группы 4 июля 2020 г. одобрено предложение о введении уроков Конституции, так что переплетение темы поправок с темой юбилея Победы и исторической памяти вообще было вполне продемонстрировано. В ближайшее время нам предстоит увидеть, как будет выглядеть новая система патриотического воспитания, интенсивно формируемая с 2018 года. Мы также узнаем, попытается ли власть сделать из дня вступления в силу обновлённой Конституции новый праздник, чтобы дополнить миф основания, связанный с Великой Победой, новым мифом основания, связанным с принятием обновлённой «подлинно суверенной» Конституции, преодолевшей наследие «лихих девяностых».
Официальный старт Года памяти и славы был дан в декабре 2019 г. на Всероссийском патриотическом форуме. На его пленарном заседании говорилось о более чем 10 тыс. патриотических акций и мероприятий, в организацию или участие в которых планируется вовлечь молодёжь. Память в этих планах воспринималась как арена борьбы. «Историческая память строится на опровержении фальсификаций», – сформулировано в приоритетах работы дирекции Года памяти и славы[8].
В пятнадцати центральных мероприятиях года предполагалось участие в общей сложности почти 159 млн человек без учёта сотен, а может, и тысяч региональных и локальных акций[9]. Такое число планировалось только для новых проектов, без учёта участников самой массовой акции – «Бессмертного полка».
С приходом пандемии тщательно разработанная программа стремительно менялась. Проекты приостанавливались, а некоторые переносились в онлайн. Анонсировалась масса новых акций, часто повторяющих друг друга, но подчинённых одной цели – создать ощущение максимальной насыщенности в информационном поле вокруг 9 мая и мобилизовать население продемонстрировать свою сопричастность к празднику в интернете.
Бессмертный полк
С приближением мая власть вынужденно отказалась от статуса главного демиурга праздника, а ключевой акцией федерального масштаба стал перешедший в онлайн и не значившийся в числе пятнадцати центральных проектов года «Бессмертный полк». Президент не принял в нём участия. В онлайн-строй полка не загрузили портрета его отца, а формальное минутное обращение к участникам акции 9 мая было записано с удивительной небрежностью. Тем не менее анонсировалось, что в некоторых мероприятиях 9 мая глава государства может принять участие. На встрече с активистами движения «Волонтёры Победы» Путин, обсуждая инициативу массового исполнения песни «День Победы» на балконах, сказал, что «с удовольствием это сделает», однако, ожидаемо этого не сделал. В День Победы персонифицированная власть устранилась с праздничной сцены, которую столь долго для себя готовила. Фигура одинокого президента под дождём в Александровском саду стала этому хорошей иллюстрацией, а неумелая операторская работа только подчёркивала импровизированный характер действа.
Между тем с «Бессмертным полком» происходили интересные метаморфозы. В традиционном (оффлайновом) потоке огромного шествия индивидуальные портреты и несущие их люди сливались в единое тело, что создавало сильнейшее чувство сопричастности. В мае 2020 г. праздничное шествие огромных масс людей оказалось невозможным. Однако перевод «Бессмертного полка» в онлайн стал довольно плодотворным, поскольку показал иную сторону этой акции и дал сработать новым механизмам.
Гражданам предложили участвовать в проекте, загрузив на сайтах акции фотографию своего родственника и информацию о нём. В короткие сроки была мобилизована масса усилий, партнёрских и спонсорских площадок для вовлечения аудитории, создана онлайн-платформа, интегрированы приложения в российские социальные сети и обучены тысячи волонтёров для модерации заявок. 9 мая трансляция велась почти на 20 тыс. экранов, в общественном транспорте, онлайн-кинотеатрах, социальных сетях и официальном сайте Бессмертного полка России. По словам организаторов, в онлайн-шествии, которое транслировалось в интернете в течение 19 дней, были зарегистрированы 2 392 199 героев.
Однако и официальная повестка, и личный запрос были в этом году направлены на проговаривание семейной истории (не только имени героя) и героизацию подвига каждого отдельного участника войны. Если сравнить историю запросов в Яндексе за аналогичные периоды 2019 и 2020 гг., окажется, что против 601 625 запросов в апреле-мае 2019 г. с поиском сайта «Подвиг народа», где можно найти огромный массив данных о воинском пути солдат и офицеров Великой Отечественной войны, в 2020 г. за тот же период этот сайт искали 1 077 223 раз, то есть почти вдвое чаще. В ситуации с сайтом «Бессмертный полк» схожее соотношение: 2 358 637 запросов в 2019 г. и 4 265 649 в 2020 году. Причём динамика запросов такова, что и порталом «Бессмертный полк», и порталом «Подвиг народа» в Рунете интересовались вне привязки к дате 9 мая. Так, за первые пять месяцев 2020 г. информацию о Бессмертном полке запрашивали в пять раз чаще, чем за тот же период прошлого года.
Отталкиваясь от этих цифр, полезно задаться вопросом, почему, где и в каких формах нашла выражение эта интенция к сохранению семейной истории о войне. С появлением Бессмертного полка стала выполняться важная функция – погибшие герои обретали имя, память о котором год за годом мобилизовалась с приближением 9 мая. Однако одновременно каждый герой продолжал оставаться безымянным в многомиллионном потоке шествия, в которое с течением лет вливалось не только всё большее число героев, но и масса карнавализированных, часто неуместных образов. В условиях шествия «Бессмертного полка» проговаривание подвига каждого героя, выделение его из многомиллионного полка и публичная артикуляция семейной истории были невозможными. Уход в онлайн стал катализатором этого нового запроса, шедшего от сохранения имени своего героя к сохранению его истории как части истории семейной. Неудивительно, что онлайн основная аудитория предпочла секундному появлению своего героя на виртуальной Красной площади не ограниченный ни формой, ни объёмом рассказ о конкретной истории на той площадке, где она будет услышана – прежде всего, на страницах социальных сетей. Количество публикаций семейных историй о войне на личных страницах, особенно в Фейсбуке, куда не было интегрировано официальное приложение «Бессмертного полка» России, и в разных самоорганизованных интернет-сообществах и группах, было несоизмеримо большим, чем за все прошедшие годы.
Вне физического шествия «Бессмертного полка» герой стал заметнее и обрёл персональную историю, запрос на поиск и сохранение которой явно оформился к нынешнему году среди российской аудитории. Если раньше память о войне хранилась в семье, а её основным носителем были ещё здравствующие ветераны (и эта память была трагической, болезненной и преимущественно молчаливой), то теперь преодолён порог, когда молчаливого почитания подвига ветерана или проговаривания имени ушедшего героя стало недостаточно. Со стремительным уходом ветеранов и закрепившимися практиками памятования героев, которые дал «Бессмертный полк», в публичном пространстве стала проговариваться и та память, которая раньше почиталась в кругу семьи.
Официальная политика памяти развивается в схожем направлении. Сегодня она трансформируется из памяти о безымянном массовом подвиге в память о подвиге персональном, в героизацию каждой индивидуальной истории. Плакаты с портретами солдат и их именами на улицах городов – наиболее очевидное проявление[10]. Концерты (а порой и парады) под окнами квартир ветеранов в жилых массивах – другой, более спорный по стилистике пример, усугублённый стремлением телеканалов показать каждый такой концерт в новостных программах. Наряду с персонализацией памяти официальная повестка работает и с семейной памятью, призывая её хранителей делиться индивидуальными историями. Яркой тому иллюстрацией служит проект «Лица Победы», в рамках которого создаётся исторический депозитарий в московском Музее Победы с именами, фотографиями, датами жизни и историями «каждого, кто внёс вклад в Победу». Идея «всенародного» депозитария предполагает создание «единого пространства исторической памяти, которое объединит жителей разных стран как наследников общей Победы»[11].
«Бессмертный полк» как практика действительно стал основной формой памятования о войне в нынешнем году. Однако, кроме смещения от имени к персональной истории, огромной диффузии подверглись и формат, и способ участия, чему, кстати, официальная повестка не сопротивлялась[12]. Помимо центрального шествия, «проходившего» на официальном сайте «Бессмертного полка», были организованы сотни инициатив по сбору информации для локальных «полков», в которых особенно выделялись две формы – корпоративная и региональная. Аудитория использовала площадки, где семейная история могла быть не просто проговорена, а ещё и услышана сопричастной аудиторией. Бизнес, СМИ, бюджетные учреждения, профессиональные сообщества и сообщества по интересам аккумулировали информацию о семейных героях своих участников, делая эту форму памятования одновременно и формой артикуляции корпоративной идентичности. Региональные телеканалы и газеты, призванные рассказывать об официальном онлайн-шествии, просили аудиторию делиться с редакциями семейными историями, чтобы собрать локальную, городскую или региональную базу героев. Свои базы собирали университеты, школы, библиотеки, госучреждения, строительные компании, спортивные клубы, что пробуждает воспоминания о практике оформления досок с портретами и именами ветеранов войны в советских учреждениях. Однако сегодня на первый план вышли не имена, а сюжеты, которые, как оказалось, могут объединять современных людей в самые разные «полки», никак не соответствующие тем фронтам, полкам или отрядам, в которых воевали их предки, и создающие столь же разные формы идентичностей.
«Бессмертный полк» стал и площадкой борьбы с «врагами памяти». Хакерские атаки и провокации против виртуального шествия заняли важное место в информационной повестке вокруг празднования Дня Победы. Этой теме была посвящена значительная часть итоговой пресс-конференции организаторов, где подчёркивались скоординированность и масштаб атак, пришедшихся на 9 мая. По приведённым данным, 64 процента серверов, участвовавших в DDOS-атаке, были расположены на территории европейских стран, 27% – на территории Северной Америки. Кроме того, совершались атаки на сайт проекта «Волонтёры Победы», участники которого помогали в обработке заявок на онлайн-шествие. Оценить действительный масштаб и происхождение атак не удастся, однако риторика по поводу осаждённой крепости памяти была настойчивой.
Атаки на память о войне совершались и внутри России, но уже не с помощью DDOS-атак, а посредством провокаций с загрузкой в базу сайта «Бессмертный полк» фотографий нацистских преступников или коллаборантов. Информация в СМИ на эту тему появилась в тот же день, что и новости о хакерских атаках, 10 мая, и последовательно обрастала новыми фактами. Если первые новости о появившейся в онлайн-шествии фотографии Генриха Гиммлера сопровождались высказываниями о том, что это сделал «наверняка психически нездоровый человек»[13], то спустя четыре дня Следственный комитет уже завёл уголовное дело о реабилитации нацизма, так как подобные инциденты имели место и в других акциях (так, в «Банк Памяти» была загружена фотография Адольфа Гитлера). В тот же день СМИ наполнились публикациями о том, как общественные деятели, политики и рядовые россияне осуждают провокации, а на следующий день Следственный комитет объявил, что провокаторов удалось вычислить по IP-адресам. Подчёркивалось, что среди нескольких десятков подозреваемых в основном иностранные граждане. Через два дня прошли обыски у четырёх подозреваемых из разных регионов России, а представитель Следственного комитета Светлана Петренко подчеркнула, что среди причастных к преступлению есть граждане Украины и Эстонии[14]. Тогда же стала тиражироваться причастность подозреваемых к региональным штабам Алексея Навального. К 4 июня обвинения в реабилитации нацизма были предъявлены пятерым россиянам[15].
Визуальный аспект
К 9 мая 2020 г. все крупные города России должны были оформляться в едином стиле, о чём региональные и городские администрации получили соответствующие указания. Главным цветом стал красный, а в официальном логотипе не было триколора и не использовалась Георгиевская лента. Лента в брендбуке празднования была допустимым «необязательным» элементом композиции в плакатах или растяжках, например, связующим дату «1941–1945». Добавлять ленту на утверждённый логотип следовало только согласно инструкциям, либо не добавлять вовсе[16]. Напомним, что логотип 70-летия Победы вмещал в себя всё: и триколор, и ленту, а ещё голубя в качестве символа мира.
В 2020 г. инициативе «Георгиевская ленточка» исполнилось 15 лет, и в этот юбилейный год можно заметить некоторые признаки снижения интенсивности её использования. Мы по-прежнему видим её на груди президента или на штендерах онлайн-шествия Бессмертного полка России. Но 9 мая этого года нетрудно было заметить глав регионов, на чьих лацканах ленты не оказалось.
Уход в онлайн не позволил в должной мере использовать тщательно разработанную визуальную составляющую празднования, а отсроченное (в июне) украшение городов флагами и растяжками с датой «9 мая» выглядело довольно фантасмагорично. В условиях самоизоляции праздничное оформление попытались перенести с центральных площадей и улиц в жилые районы. Спешно анонсировались акции, которые должны были продемонстрировать патриотическое единение россиян вокруг праздника в условиях карантина. Одной из них стала акция «Флаги России. 9 мая», соорганизатором которой выступила «Единая Россия». По задумке в День Победы нужно было вывешивать на окнах и балконах жилых домов флаги России вместе с георгиевскими лентами. В крупных городах специфика акции оказалась не столь наглядной, как в регионах, где чиновники подходили к своим задачам с особой ответственностью. Триколором (без ленточки) единообразно завешивали целые дворы, что на фоне безлюдных карантинных улиц смотрелось сюрреалистично. Визуально провинциальный российский город 9 мая превратился в репетицию идеального для власти Дня России, правда, без участия самих россиян[17]. Флаги по администрациям регионов рассылала в том числе дирекция Года памяти и славы, а дальше они распределялись по муниципалитетам. Отрепетированную 9 мая акцию в начале июня анонсировали и для Дня России.
В целом можно заключить, что фаза борьбы за цвета праздника Победы, начатая с появлением георгиевской ленточки, завершилась. Если в момент своего «изобретения» ленточка мыслилась как инструмент вытеснения красного цвета и коммунистической символики, то теперь цвет красного Знамени Победы, георгиевские цвета и государственный триколор мирно сосуществуют в визуальном оформлении праздника.
Кроме завершившегося «цветового конфликта» в официальной российской политике памяти наметился ещё один вектор работы с визуальным языком, а именно – попытки найти новые формы для коммуникации с молодым поколением. Беря в расчёт то, что новой целевой аудиторией празднований Дня Победы стала молодёжь, официальная повестка обратилась к близким ей формам, в частности, граффити. Так, был запущен конкурс эскизов граффити с изображением маршалов Победы и героев Великой Отечественной войны «Яркая победа». Существует и масса других схожих инициатив разных ведомств и организаций, большинство из которых приурочены к Году памяти и славы: с 2018 г. идёт акция «Портрет памяти», юнармейцы делают стрит-арт в рамках проекта «Дорога памяти», в отдельных регионах создание граффити финансируют местные администрации, частные спонсоры и крупные компании (например, «Россети»). Очевидно, что работа официоза с этими новыми формами только начинается.
Монументальная визуальность. Храм и музей
Широкая общественность узнала о завершении строительства Главного Храма Вооружённых Сил, или Храма Воскресения Христова, в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке благодаря публикациям о том, что в храме есть мозаика с изображением президента Путина и его ближайших соратников в момент триумфа по поводу присоединения Крыма к России. Другая мозаика изображала парад на Красной площади, над которой поднимался портрет Иосифа Сталина[18]. Так традиционная для праздника Победы тема допустимости изображений Сталина и обсуждения его роли в войне всё-таки попала в заголовки, хотя бросалось в глаза, что на этот раз она осталась действительно маргинальной. Собственно, и для властей она была периферийной, потому что высказывания Путина о неуместности мозаики с его изображением было достаточно, чтобы обе мозаики из храма исчезли. Самым ярким появлением образа Сталина в информационном поле стала публикация бывшего губернатора Иркутской области и главы иркутского обкома Коммунистической партии Сергея Левченко с фотографиями прошедшего накануне 9 мая «Совета старейшин» партии, в числе которых и ветераны ВОВ, а на стене позади собравшихся баннер с портретом Сталина[19]. Она только подчеркнула периферийность в юбилейных мероприятиях и темы Сталина как «отца Победы», и КПРФ.
Открытие храма, наполненного цифровой символикой, связанной с Великой Отечественной войной, и музея, составляющего с ним единый комплекс, запланированное на 5 мая 2020 г., должно было стать важнейшим моментом подготовки ко Дню Победы. Это обстоятельство подчёркивало, что память о войне теперь во многом постсекулярна. Патриарх Кирилл на освящении храма 15 июня объявил, что возлагает на себя роль его настоятеля[20].
Другой важнейший, не новый, но радикально обновлённый к юбилею объект – Музей Победы на Поклонной горе в Москве, официально объявленный центральной музейной площадкой празднований. Новую экспозицию, расположенную на 3 тыс. кв. метров и названную «Подвиг Народа», готовили более года. На эти работы выделено более 500 млн рублей. Экспозиция отчётливо обозначает ключевые изменения официального нарратива войны, точнее – изменение пропорций внимания, уделяемого различным темам. Можно уверенно сказать, что эти изменения будут отражены как в экспозициях других музеев по всей стране, так и в большом нарративе войны[21].
Значительная часть новой экспозиции посвящена подвигу за пределами фронта, а её цель – показать, что «весь народ, даже те, кто не взял в руки оружие, старался сделать всё возможное для победы над врагом»[22]. Сдвиг внимания к теме тыла, его вклада в победу – новый элемент, который выполняет важную функцию продления «живой памяти». Подвиг в официальном дискурсе становится всё более народным и всеохватывающим. Героическое интенсивно сопрягается не только с именами фронтовиков, но и с теми, чей вклад прежде был на втором плане. В марте 2020 г. Владимир Путин подписал закон о присвоении городам звания «Город трудовой доблести»[23]. Схожие законопроекты о почётном звании города трудовой или военно-трудовой славы вносились в Государственную Думу несколько раз за более чем 10 лет и не получали развития. Однако в декабре 2019 г. проект внёс сам президент, заменив «славу», которая осталась для воинских подвигов, на «доблесть». Пакеты документов для присвоения городу звания активно собираются во многих регионах. Принятие закона существенно определило риторику региональных властей вокруг празднования Дня Победы в этом году и дало почву для выстраивания локальных нарративов о «массовом трудовом героизме и самоотверженности» по всей стране, особенно в тех регионах, где фронта не было. 2 июля на заседании оргкомитета «Победа» Путин присвоил звание «города трудовой доблести» первым двадцати городам, причём для девяти из них важным аргументом стало количество собранных в пользу того или иного города-претендента подписей его жителей[24]. А завершилась кампания по сбору этих подписей параллельно с голосованием за поправки к Конституции.
Ускоряющийся уход живой памяти о войне актуализировал запрос на так называемое продление возраста героев. Включение молодёжи в процесс памятования о войне оказался сопряжён и с мобилизацией темы детей войны – тех, кто не воевал на фронте, но чьё детство пришлось на военные годы. Например, с 15 февраля по 15 августа 2020 г. проводился конкурс «Моё детство – война», участникам которого предлагалось подготовить статьи о детях войны для Википедии. По заявлению организаторов, к июню было опубликовано больше двух тысяч статей.
Лейтмотивом Года памяти и славы стала героизация подвига не только фронтовиков, не только тружеников тыла, но всех, «чья повседневная жизнь в годы войны уже стала подвигом». Понятие героического расширялось до тех пределов, когда буквально (а не только фигурально) каждый российский школьник смог бы найти героическое в семейном прошлом и артикулировать в публичном пространстве историю своего героя/героев хотя бы в одной, а лучше в нескольких из сотен всероссийских или локальных акций, созданных специально для этого. Тема получила развитие с открытием огромного («крупнейшего в мире») музея тыла «Битва за оружие Великой Победы» в мемориальном комплексе Прохоровка в Белгородской области. Здесь акцент на вкладе в Победу подростков и даже пятилетних детей, которые вставляли в каски мягкие подкладки, подтверждает курс на «продление возраста» творцов Победы[25].
Примером коммеморации памяти тружеников тыла и детей войны стал установленный в Улан-Удэ накануне 9 мая памятник, композиция которого включает по одну сторону мужчину и мальчика европейской внешности с инструментами у винта самолёта, а по другую – женщину и девочку азиатской внешности со снопом ржи, овцой и граблями[26]. Нетрудно представить, что отклики на установку памятника в Бурятии не были однозначными. Открытие других памятников героям тыла продолжается в течение года и в крупных российских городах, и в районных центрах, и при отдельных предприятиях. Акцент на памяти о подвиге тыловиков, появившийся около десяти лет назад, и память о детях войны получили в этом году новый импульс, и нам ещё предстоит увидеть его плоды.
Возвращаясь к Музею Победы на Поклонной горе – там, в разделах экспозиции «Подвиг народа», кроме науки, медицины, эвакуации и других ожидаемых тем, есть ещё две, заслуживающие отдельного внимания и иллюстрирующие важные для российской политики памяти тенденции.
Предпоследний раздел экспозиции – «Освобождение Европы». Экспозиция подчёркивает, что «голодный, переживающий последствия оккупации СССР спасал от болезней, кормил и помогал жителям стран, которые участвовали в войне на стороне захватчиков»[27]. В войнах памяти, где Россия как правопреемница СССР приравнивается к нацистской Германии, а «советская оккупация сменяет немецкую», официальный российский нарратив подчёркивает подвиг народа, сильно пострадавшего от захватчиков, но пришедшего на помощь народам разорённой Европы, даже тем, чьи страны воевали против СССР.
Разделу об освобождении Европы предшествует раздел «Великий Новгород», который служит локальной иллюстрацией нацистских преступлений на оккупированных советских территориях. Он обозначает новое внимание к теме страдания советских людей. Одним из центральных начинаний Года памяти и славы стал проект «Без срока давности», который аккумулирует усилия многих ведомств и организаций сохранить память о советских жертвах военных преступлений нацистов. Поисково-разведывательные работы в этом направлении начались именно в Новгородской области. Российская историческая политика теперь настойчиво мобилизует все доступные ресурсы, чтобы подчеркнуть статус жертвы нацизма и, конечно, роль нацистских коллаборантов. С 2019 г. рассекречены сотни материалов многих ведомств о ранее не известных или не получивших достаточной огласки преступлениях не только нацистов, но в первую очередь их пособников в Прибалтике и на Украине. В советское время эти факты отодвигались в тень, дабы не портить отношения в семье советских народов. Параллельно ведутся работы поисковых отрядов, открываются запланированные в пятидесяти субъектах выставки («Без срока давности» – просветительский проект). Готовится проведение конференций и публикация двадцатитрёхтомного сборника материалов и документов, публикуются комплексы оцифрованных документов. Ко всей этой работе привлекаются студенты в рамках акции «Архивный десант» под эгидой ООД «Поисковое движение России».
Кроме сохранения памяти о жертвах, этот огромный проект предполагает также возбуждение судебных преследований против ещё живущих участников этих преступлений. В дорожной карте проекта задача на март-октябрь 2020 г. так и сформулирована: «Проведение поисковых экспедиций, возбуждение уголовных дел по статье “Геноцид” в 22-х субъектах РФ»[28]. Создан специальный портал, где выкладываются документы о преступлениях нацистов и комментарии к ним[29]. Следственный комитет анонсировал целый ряд новых расследований и дел о нацистских преступлениях[30].
30 июня 2020 г. президенты России и Белоруссии открыли колоссальный памятник советскому солдату под Ржевом в Тверской области, где в сражениях погибло более миллиона воинов Красной армии[31]. Ещё предстоит открытие крупного музейного комплекса «Самбекские высоты» под Таганрогом[32].
Трагизм и былинность
Очевидно, что мотив страдания и жертвы будет ведущим не только в музейных экспозициях. Так, в 2020 г. на экраны не только в России, но и в Европе должен был выйти фильм «Страсти по Зое», название которого прямо указывает и на мотив мученичества как центральный, и на его осмысление в христианском контексте. Безусловно, важна будет трагическая составляющая в другом крупном кинопроекте, фильме «Нюрнберг» (второе название «На веки вечные»), чью премьеру бывший министр культуры Владимир Мединский предлагал сделать центральным кинособытием 75-летнего юбилея Победы. Работа над «политическим триллером», который должен был стать ответом американцам, пишущим «о Нюрнберге как о своей большой победе»[33], началась в 2016 г., а в плане мероприятий Года памяти и славы от 2018 г. в разделе социально значимых и культурно-просветительских мероприятий значилась двухгодичная господдержка производства картины. 15 мая 2020 г. года стало известно, что у фильма сменился режиссёр, а съёмки отложены «из-за ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции»[34]. Только на 1 августа 2019 г. фильм получил господдержку в 245 млн рублей.
Кинематограф ярко демонстрирует и другую важную тенденцию памяти о войне – её «былинизацию». Фильмы, подобные «Т-34», и разнообразное кино о «попаданцах», где историческая достоверность заведомо не является целью, уже преобладают среди фильмов о войне. С этим резонирует появившаяся в последние годы мода наряжать детей в форму военных лет. Пилотки и другие аксессуары вошли в ассортимент супермаркетов. Один пользователь «Фейсбука», отвечая на критические замечания в адрес фото его сына в такой форме, заметил, что не видит разницы между одеванием ребёнка в форму военных лет и в рыцарские доспехи. В обоих случаях ребёнок сражается с драконом и побеждает. Будет интересно проследить, как в дальнейшем тенденция к персонификации памяти, стремление установить эмоциональную связь молодёжи с памятью о войне через трагические мотивы будет сочетаться с нарастающей былинизацией памяти о войне.
Внешнеполитический аспект
Сколько-нибудь подробный анализ внешнеполитического измерения российской политики памяти в год 75-летия Победы не входит в задачу этой статьи. Здесь мы ограничимся описанием темы в той минимальной мере, в которой это необходимо, чтобы адекватно отразить ряд аспектов внутрироссийских коммеморативных акций.
Внешнеполитическую ситуацию накануне юбилейного года резко обострила резолюция Европейского парламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», принятая 19 сентября 2019 года. В ней говорится о прегрешениях разных стран в работе с прошлым, но по имени названа только Россия. Именно она должна покаяться за то, что советский тоталитаризм вместе с нацистским начал Вторую мировую войну. Резолюция последовательно воспроизводит нарратив о двух тоталитаризмах, продвигавшийся странами Восточной Европы в течение многих лет. В этом нарративе Россия становится наследницей не того СССР, который внёс решающий вклад в победу над нацизмом, а СССР, который вместе с нацистской Германией развязал Вторую мировую войну и равно виновен во всех её ужасах. В резолюции советский и нацистский режимы не сравниваются, но уравниваются как воплощение зла. Резолюция Европейского парламента была принята подавляющим большинством голосов, то есть этот нарратив получил легитимность во всей Европе. Ни один европейский лидер не высказывался критически об этом документе вплоть до 20 декабря 2019 г., когда Владимир Путин произнёс часовую речь, обращённую к лидерам стран СНГ, которая вскоре получила название «лекции по истории»[35]. Выдержанная в крайне резких выражениях, речь Путина подчёркивала ответственность лидеров Франции и Британии за политику умиротворения Гитлера и Мюнхенское соглашение. Но главный удар был адресован Польше, чьи депутаты и были инициаторами сентябрьской резолюции Европарламента: Путин сделал акцент на антисемитизме предвоенного руководства Польши и роли Польши в разделе Чехословакии, а также её ответственности за подрыв усилий Советского Союза по созданию системы коллективной безопасности[36]. В заключение этого выступления Путин пообещал лично выступить со статьей об обстоятельствах периода, предшествовавшего войне. О целесообразности включения первого лица в войну памяти было тогда немало споров[37], но эта речь однозначно свидетельствовала о том, что Путин считал траекторию развития политики памяти в Европе настолько серьёзной угрозой для России, что решил высказаться сам.
Первой важной символической датой юбилейного года окончания войны было 75-летие освобождения концлагеря Освенцим, ставшего символом холокоста. Совместное заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и спикера Европарламента Давида Сассоли накануне годовщины, 23 января 2020 г., начинается со слов: «Семьдесят пять лет назад войска союзников освободили нацистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Они остановили, таким образом, самое ужасное преступление в истории Европы – спланированное уничтожение евреев». В этом заявлении ни разу не упомянуто, что именно Красная армия остановила это «самое ужасное преступление». В связи с этой датой было немало других публикаций и заявлений, и все они логично выстраивались в картину, в которой Красная армия может делать только плохие вещи[38].
На мероприятия в Освенциме Путина не пригласили. Но в Иерусалиме, в Яд ва-Шем, тоже отмечали 75 лет со дня освобождения Освенцима. Частью церемонии стало открытие в Иерусалиме памятника жертвам блокады Ленинграда. Речь Путина на церемонии по тональности резко отличалась от его декабрьского выступления – он подчёркивал необходимость взаимоуважительного диалога о спорных вопросах истории войны и приглашал к участию в нём постоянных членов Совета Безопасности ООН. Выпады в адрес Польши и прибалтийских республик были сведены до минимума.
Пандемия похоронила планы Кремля превратить 9 мая в событие международного масштаба. Между тем в преддверии праздника мировые лидеры, как водится, сделали заявления по этому поводу. Больше всего внимания традиционно досталось посту в социальных сетях Дональда Трампа, который просто не посчитал нужным упомянуть Советский Союз среди держав, разгромивших Гитлера. Однако намного более значимым документом стала опубликованная 7 мая декларация, которую подписали госсекретарь Майк Помпео и министры иностранных дел девяти восточноевропейских государств – членов НАТО[39]. В декларации осуждаются «попытки России фальсифицировать историю», лишь в первом абзаце упоминаются события войны, в остальном документ сосредоточен на оккупации Прибалтийских республик и на том, что страны, которые «попали в неволю» к СССР, десятилетиями после войны оставались жертвами репрессий и идеологического контроля. Декларация, во-первых, закрепляет роль США как главного спонсора политики памяти, проводимой странами «молодой Европы». Принцип деления Европы на «молодую» и «старую», предложенный во время подготовки вторжения в Ирак тогдашним министром обороны Дональдом Рамсфелдом, реанимирован. Во-вторых, декларация чётко определяет главные фреймы – фокус с войны и роли Красной армии в разгроме Германии и Японии смещается на «послевоенную оккупацию», которая закончилась лишь с присоединением этих стран к свободному миру. Стало ясно, что война памяти, в которой страны Восточной Европы атакуют Россию при поддержке США и существенной части истеблишмента Западной Европы, останется с нами ещё надолго.
19 июня 2020 г. Путин опубликовал обещанную статью по истории[40]. Убедительность текста, качество перевода на английский и то, как и где эта статья появилась, вызывает много вопросов. Но в нашем контексте это не главное. Важно, что статья стала своеобразной декларацией о намерениях в сфере политики памяти на международной арене. Во-первых, Путин делает акцент на том, что причины войны недопустимо сводить к советско-германскому пакту августа 1939 г., что это сложный комплекс событий и процессов, ответственность за который лежит на многих странах. Во-вторых, он отвергает квалификацию присоединения Прибалтики к СССР как «оккупацию». В-третьих, приводит цифры советских потерь и потерь Германии на Восточном фронте, подчёркивая решающую роль СССР в разгроме Германии. Наконец, цитирует документы о помощи СССР населению тех стран, куда приходила в 1944–1945 гг. Красная Армия, оспаривая тезис о советской оккупации. В общем, намечает линию противостояния во всех ключевых точках нового этапа войны памяти. При этом стиль статьи сдержанный, и Путин в ней повторяет своё приглашение к диалогу, адресованное постоянным членам СБ ООН, декларирует открытие архивов и предлагает отдать профессиональным историкам обсуждение спорных вопросов. Статья, очевидно, адресована поверх голов восточноевропейцев странам «старой Европы» и США.
Ряд шагов во внутренней политике памяти о войне может быть понят лишь с учётом данного внешнеполитического контекста. Мотив «защиты памяти» от поругания и искажения враждебными силами за границей и их пособниками внутри страны активно эксплуатировался также и в контексте рекламы поправок к Конституции. Тема советской помощи населению освобождённых стран, даже тех, которые были союзниками Гитлера, получила особый зал в уже упомянутом Музее Победы в Москве. Акцентирование тем и производство образов, призванных показать миру трагизм советского опыта страданий времён войны, должны вызывать у людей за рубежом отторжение «сказания о двух тоталитаризмах».
Очевидно, что выставки рассекреченных архивных материалов и организованный Росархивом при участии МИД, ФСБ, МО, СВР онлайн-доступ к документам 1930-х гг., «раскрывающим политику умиротворения Германии с момента прихода к власти нацистов до нападения Германии на Польшу»[41], адресованы, прежде всего, международной аудитории. Архивные документы также используются для открытия дел против немногочисленных живых участников нацистских преступлений. В этом вопросе политика радикально изменилась по сравнению с советским временем. Если в СССР факты участия в преступлениях украинцев, литовцев, латышей скрывались, то теперь они будут акцентироваться. Документальных свидетельств таких преступлений в российских архивах много. Графическое представление этих преступлений, которое всё чаще встречается в медиа, хорошо монтируется с тезисом о реабилитации нацизма в некоторых странах восточной Европы.
Для работы преимущественно с зарубежной аудиторией на базе Российского государственного гуманитарного университета создан проект “Remembrance, Research and Justice: Heritage of WWII in the 21st century”[42]. Можно предположить, что главным оператором проекта, который заявлен как результат кооперации целого ряда неправительственных организаций, является фонд «Историческая память», зарекомендовавший себя с 2007 г. как один из наиболее эффективных российских инструментов войн памяти. В фокусе проекта – нацистские преступления в СССР в ходе войны и глорификация нацистских преступников в соседних странах, а также политические манёвры различных стран накануне войны.
Следственный комитет РФ также предпринимает усилия для создания правовой основы для внешнеполитических акций. 9 июля 2020 г. было возбуждено дело по статье 357 УК России (геноцид) «о массовых убийствах мирных граждан на территории Сталинградской области (ныне Волгоградской области) во время войны германскими войсками и их пособниками». Потенциальный резонанс этого дела связан с тем, что помимо немецких войск в наступлении на Сталинград принимали участие итальянские и румынские части[43].
Памятные мероприятия юбилейного года ещё далеки от завершения. Однако некоторые выводы уже можно сделать. Великая Победа как миф основания Российского государства оказалась неразрывно сплетена с ключевыми темами актуальной внутренней и внешней политики. Несмотря на пандемию, нарушившую изначальный сценарий, власти сумели соединить тему Победы с темой обновления Конституции. Не только юбилей Победы, но и интенсивно эксплуатируемая тема «лихих девяностых» придали поправкам в Конституцию историческое измерение. Не случайно начались активные разговоры о переносе Дня России с 12 июня, когда была принята «ельцинская» Декларация о суверенитете, на 1 июля, когда завершилось голосование за «путинскую» версию Конституции. Можно предположить, что власти постепенно будут выстраивать нарратив, в котором поправленная Конституция будет представлена как окончательное расставание с наследием «смутного времени», как новый момент «основания», дополняющий миф Победы.
Во внешней политике апелляция к роли СССР в войне по-прежнему выступает важным аргументом в споре о статусе России как великой державы, который весьма актуален в условиях переформатирования мирового порядка. Очевидно стремление Кремля разнообразить ассортимент средств, с помощью которых можно отстаивать позиции в войнах памяти. Именно в этом контексте становится понятно, почему героическая составляющая памяти о войне сейчас энергично дополняется трагической составляющей, которая до кризиса в отношениях с коллективным Западом не выдвигалась на первый план. Память о войне также используется в отношениях с партнёрами по СНГ и ЕАЭС, но здесь активно идут процессы национализации памяти о Второй мировой, которые нуждаются в особом анализе[44].
СНОСКИ
[1] С крахом СССР Великая Октябрьская cоциалистическая революция перестала быть таким мифом, а три дня «борьбы за демократию» в августе 1991 г. таким новым мифом не стали.
[2] Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2019 г. № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы.
[3] 471 725 990 рублей (сумма контрактов №1771002334020000073, №1771002334020000051, №1771002334020000040, №1771002334020000041, №1771002334019000176) по данным портала «Госзатраты». Ссылка: https://clearspending.ru/
[4] Заседание Российского организационного комитета «Победа», 12.12.2018. Ссылка: http://kremlin.ru/events/president/news/59388. Дата обращения 29.06.2020.
[5] Законопроект № 960545-7 «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся», принят Государственной Думой 22.07.2020.
[6] Презентация Года памяти и славы (федеральная Дирекция Года памяти и славы), 2019. Ссылка: https://irkobl.ru/sites/apparat/75-anniversary/
[7] Ссылка: http://kremlin.ru/events/president/news/63599
[8] Презентация Года памяти и славы (федеральная Дирекция Года памяти и славы). См. нормативные правовые акты, планы, информационно-справочные и другие материалы, посвящённые годовщине Великой Победы, на ресурсах региональных администраций, например: https://irkobl.ru/sites/apparat/75-anniversary/
[9] Из пятнадцати центральных проектов Года памяти и славы к концу июня состоялись или находились в стадии реализации семь («Без срока давности», «Блокадный хлеб», «Памяти героев», «Лица победы», «Поезд Победы», «Сад памяти», «Свеча памяти»). Это преимущественно продолжительные во времени проекты, тогда как акции, направленные на эмоциональную вовлечённость и физическое объединение аудитории, провести не удалось (например, воссоздание атмосферы 9 мая 1945 г. в рамках акции «РиоРита – радость Победы», для которой планировали 11 миллионов участников в течение одного дня или массовое пение военных песен на стадионах во время футбольных или хоккейных матчей). Некоторые ключевые для года акции с ослаблением карантина проводятся довольно инерционно, без запланированного масштаба и освещения в СМИ (например, «Поезд Победы»).
[10] Пример акции всероссийского масштаба – проект «Памяти героев», в рамках которого в общественных местах устанавливались плакаты с изображением героев войны и, что важно, тружеников тыла, дополненные QR-кодами со ссылками на их персональные истории.
[11] Презентация Года памяти и славы (федеральная Дирекция Года памяти и славы). См. выше. Задумка предполагает возможность находить своих родственников на фотографиях, загруженных другими пользователями, по сути, выстраивая сеть связей подобно современной социальной сети.
[12] В итоге запланированное на июль традиционное шествие было перенесено на 2021 год.
[13] Так прокомментировал для «РИА Новостей» эту новость Андрей Кудряков, координатор движения «Бессмертный полк России» в Ростове-на-Дону. Ссылка: https://ria.ru/20200510/1571249885.html. Дата обращения: 29.06.2020.
[14] СК назвал причастных к провокации в ходе Бессмертного полка. Российская газета, 16.05.2020. Ссылка: https://rg.ru/2020/05/16/reg-pfo/sk-nazval-prichastnyh-k-provokacii-v-hode-bessmertnogo-polka.html. Дата обращения: 29.06.2020.
[15] В июле СК возбудил ещё два уголовных дела по факту публикаций на сайте «Бессмертного полка» фотографий Адольфа Гитлера и группенфюрера СС Андрея Шкуро.
[16] В «Руководстве по использованию логотипа празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» не представлены варианты использования логотипа с лентой, но представлены варианты с её использованием в единой стилистике оформления праздника. В описании дополнительных элементов композиции есть уточнение: «Необходимо придерживаться этого описания при изготовлении нестандартных макетов, не рассмотренных в данном Руководстве. Во всех остальных случаях рекомендуется использовать готовые конструкции макетов». Ссылка: https://www.may9.ru/brandbook/
[17] Традиция «праздника без россиян» была, кажется, заложена инаугурацией Путина в 2012 г.
[18] «Изображены руководители нашего государства, в том числе среди народа». Почему Главный храм ВС РФ украсили мозаиками с лицами Владимира Путина и Иосифа Сталина. Новая газета, 27.04.2020 г. Ссылка: https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/24/85085-izobrazheny-rukovoditeli-nashego-gosudarstva-v-tom-chisle-sredi-naroda
[19] «Глоток свежего воздуха»: торжественный ужин в масках иркутских ветеранов. ИА REGNUM, 9.05.2020. Ссылка: https://regnum.ru/news/society/2943929
[20] Анализ художественных решений храма и его символики выходит за рамки этой статьи. Это весьма богатая тема. Отметим лишь одно обстоятельство, до сих пор не упомянутое в многочисленных комментариях по поводу храма. Здание очевидным образом стилистически перекликается с построенным в русском стиле в конце XIX века зданием Церкви Успения Пресвятой Богородицы в Санкт-Петербурге, где познакомились в церковном хоре родители патриарха Кирилла, ставшего настоятелем нового храма.
[21] Президент высоко оценил новую экспозицию в Музее Победы. Победа РФ, 9.05.2020. Ссылка: https://pobedarf.ru/2020/05/09/prezident-vysoko-oczenil-novuyu-ekspozicziyu-muzeya-pobedy/. Дата обращения: 09.05.2020.
[22] Из описания экспозиции на сайте Музея Победы. Ссылка: https://victorymuseum.ru/museum-complex/glavnoe-zdanie-muzeya/ekspozitsiya-podvig-naroda/. Дата обращения: 29.06.2020.
[23] Федеральный закон от 1.03.2020 № 41-ФЗ «О почётном звании Российской Федерации “Город трудовой доблести”».
[24] Ссылка: http://kremlin.ru/events/president/news/63591
[25] Виртуальная экскурсия по музею тружеников тыла в Прохоровке. Мир Белогорья, 8.05.2020. Ссылка: https://mirbelogorya.ru/region-news/56-prokhorovka/36268-virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-truzhenikov-tyla-v-prokhorovke.html. Дата обращения: 29.06.2020.
[26] Схожая композиция у памятника на входе в новый белгородский музей тыла.
[27] Из описания экспозиции на сайте Музея Победы. Ссылка: https://victorymuseum.ru/museum-complex/glavnoe-zdanie-muzeya/ekspozitsiya-podvig-naroda/. Дата обращения: 29.06.2020.
[28] Презентация Года памяти и славы (федеральная Дирекция Года памяти и славы). См. выше.
[29] См. сайт: http://remembrance.ru/about/, в частности доклад А. Дюкова http://remembrance.ru/2020/04/22/pravovyye-osnovy-presledovaniya-natsistskikh-voyennykh-prestupnikov/. В 2019–2020 г. Следственный комитет возбудил целый ряд дел по преступлениям нацистов, одна из задач которых, несомненно, в том, чтобы поставлять информационные поводы для сохранения темы в фокусе медиа:
Без срока давности. СК завел дело против ветерана Латышского легиона СС. РИА Новости, 26.09.2019. Ссылка: https://ria.ru/20190926/1559143131.html
СК начал расследовать убийство 214 детей в Ейске нацистами. РИА Новости, 30.10.2019. Ссылка: https://ria.ru/20191030/1560393095.html
СК завел дело о зверствах финских нацистов в Карелии. Победа РФ, 24.04.2020. Ссылка: https://pobedarf.ru/2020/04/24/sk-zavel-delo-o-zverstvah-finskih-naczistov-v-karelii/
ФСБ обнародовала документы о нацистских чистках в Ростове и Шахтах. РИА Новости, 9.04.2020. Ссылка: https://ria.ru/20200409/1569819174.html
ГП планирует возобновить расследование нацистских зверств в Крыму. РИА Новости, 30.04.2020. Ссылка: https://ria.ru/20200430/1570790617.html
[30] Александр Бастрыкин: неизвестных преступлений нацистов ещё очень много. Ссылка:
https://ria.ru/20200703/1573843867.html
[31] Ссылки: http://kremlin.ru/events/president/news/63585; https://www.kommersant.ru/doc/4398644
[32] Здесь воевала 416-я азербайджанская дивизия, так что мы можем увидеть дуэт российского и азербайджанского президентов на открытии комплекса.
[33] Заседание Российского организационного комитета «Победа» 12.12.2018. Ссылка: http://kremlin.ru/events/president/news/59388. Дата обращения 29.06.2020.
[34] Режиссёр «Легенды №17» Николай Лебедев снимет фильм «Нюрнберг». Российская газета, 15.05.2020. Ссылка: https://rg.ru/2020/05/15/rezhisser-legendy-17-nikolaj-lebedev-snimet-film-niurnberg.html. Дата обращения: 29.06.2020.
[35] Ссылка: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/62376
[36] Там же.
[37] Подробнее см. Миллер А. Войны памяти вместо памяти о войне. С чем Россия и мир пришли к очередному юбилею Победы. Новая газета, 5.05.2020. Ссылка: https://novayagazeta.ru/articles/2020/05/05/85240-voyny-pamyati-vmesto-pamyati-o-voyne
[38] Подробнее см.: Миллер А. Враг у ворот истории. Как историческая память стала вопросом безопасности. Carnegie.ru, 2020. Ссылка: https://carnegie.ru/commentary/81207
[39] Ссылка: https://www.dispatchnewsdesk.com/us-along-with-9-nato-friendly-countries-contested-wwii-history-told-by-russia/
[40] Ссылка: http://kremlin.ru/events/president/news/63527
[41] Ссылка: https://www.prlib.ru/collections/1298142
[42] Ссылка: http://remembrance.ru
[43] Ссылка: https://www.rbc.ru/society/09/07/2020/5f0703449a794702cec8992f
[44] Парад Победы, проведённый Лукашенко 9 мая в Минске, продемонстрировал готовность белорусского лидера выступить наследником советского «большого стиля» коммеморации Победы.

КАК ЛИБЕРАЛИЗМ ВСТУПИЛ В КОНФЛИКТ С ДЕМОКРАТИЕЙ
РЕЙН МЮЛЛЕРСОН
Профессор-исследователь Таллинского университета.
Конфликт между космополитичными элитами и массами, голосующими за популистские партии, который обострился в западном обществе, уходит корнями в диалектические противоречия демократии и либерализма. Особенно ярко они проявились в условиях гиперглобализации. Запад, поражённый «вирусом Фукуямы», попытался сделать мир единообразным, используя политику либерального империализма. Либерализм может выжить и даже процветать в мире без границ. Но современная демократия, словно пуповиной связанная с возникновением и укреплением национальных государств, не сохранится без мощных суверенных политий.
Вместо того, чтобы подливать масла в огонь ожесточённой борьбы между самопровозглашёнными прогрессистами и популистами или охотиться на «драконов» и «медведей», западным политикам и СМИ необходимо осваивать искусство компромисса в отношениях с оппонентами у себя дома и осознать, что в международных отношениях баланс сил даже важнее, чем разделение властей во внутренней политике.
С лёгкой руки американского политолога Фарида Закарии термин «нелиберальная демократия» прочно закрепился в академических и политических дискуссиях[1]. Соглашаясь с Закарией в том, что встречаются демократии, где либеральные ценности не в приоритете, автор задался вопросом: а бывает ли наоборот? Есть ли политические системы, определяемые как либеральные, но не являющиеся демократическими? Конечно, имели место авторитарные режимы, либеральные экономически, но консервативные в социальном и репрессивные в политическом плане, как, например, Чили при Аугусто Пиночете или Южная Корея в годы правления военных. В западных демократиях оба аспекта либерализма – экономический и социально-политический – обычно воспринимаются как две стороны одной медали. Однако сегодня мы более чётко, чем десятилетие-другое назад, осознаём наличие политических моделей, которые можно определить как либеральные, но испытывающие серьёзный дефицит демократии.
Недемократический либерализм – политический режим, где присутствует только второй элемент из известного триптиха: «власть народа, избранная народом и для народа». То есть участие граждан во власти является формальным и неэффективным, а управление осуществляется не в интересах большинства. Популизм – реакция на установление и распространение таких режимов. Конечно, это не единственная причина роста популизма, и преобладание либерализма над демократией не вылечить популистскими средствами. Но взаимосвязь между ростом популизма и дефицитом демократии в западных либеральных обществах бесспорна. И хотя лидеры-популисты есть в незападном мире, нынешний популизм – феномен преимущественно западный.
Глобализация и революционные ситуации
Волна глобализации, которую в 1990-е гг. приветствовали не только как непременное условие мирового экономического роста, но и как механизм распространения идей и практик либеральной демократии, быстро явила свои менее привлекательные черты. Помимо издержек глобализации и вызванных ею процессов, наблюдаются две взаимосвязанные революционные ситуации: геополитическая и социально-политическая. Революционная ситуация по определению нарушает работу всех нормативных систем, включая право и мораль, поскольку, будучи нормативными, они могут функционировать только в нормальных условиях. В периоды революций (как во Франции в конце XVIII века или в России в начале XX века, когда норма уступила место целесообразности) закон не работает и даже мораль теряет свою направляющую силу. В этом отношении международное сообщество не является исключением.
Первая революционная трансформация – геополитическая – началась в конце 1980-х гг. крахом относительно стабильной биполярной международной системы. Миновав однополярный момент в 1990-е гг., эта трансформация теперь движется к некой форме многополярности. Однополярный момент 1990-х – начала 2000-х гг. был коротким не только из-за ряда фундаментальных ошибок, допущенных последовательно всеми американскими администрациями (войны в Афганистане и Ираке, отчуждение России, поддержка «арабской весны» и так далее), но и в значительно большей степени из-за того, что никогда прежде в истории одна «гипердержава», по выражению главы МИД Франции Юбера Ведрина, не доминировала во всём мире. Империя Чингисхана и Британская империя контролировали лишь части мира. 1990-е гг. аберрации не только в международных отношениях, но и во внутренней жизни некоторых государств, прежде всего для России, его можно сравнить со Смутным временем 1598–1613 годов. Вскоре на международной арене начались попытки уравновесить доминирующий центр. Трудно ожидать, что международное право будет функционировать «нормально», пока не уляжется революционная пыль и не возникнет новая норма (или не вернётся старая, хотя это менее вероятно).
Вторая революционная ситуация, взаимосвязанная с первой, – кризис либеральной демократии, которая должна была праздновать триумф после краха коммунизма как её главного идеологического конкурента. Многие из тех, кто в 1990-е гг. публично оппонировал Фрэнсису Фукуяме с его «концом истории» или оспаривал некоторые его выводы, по сути, были скрытыми фукуямистами. Продвижение идей и практик либеральной демократии по всему миру было одним из важных компонентов внешней политики почти всех западных стран, а также международных организаций, включая ООН. Однако исчезновение принципиального противника вскрыло, хотя и не сразу, противоречия между либерализмом и демократией.
Кризис либеральной демократии был заложен в диалектическом противоречии между демократией и либерализмом. Аристотель говорил: «Человек есть существо политическое, а тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств живёт вне государства, – либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек… Государство существует по природе и по природе предшествует каждому человеку… А тот, кто не способен вступить в общение или, считая себя существом самодовлеющим, не чувствует потребности ни в чём, уже не составляет элемента государства, становясь либо животным, либо божеством». Демократия, будь то в Древней Греции или на постмодернистском Западе, подчёркивает коллективистское и общественное начало человека, в то время как либерализм гиперболизирует индивидуалистические черты и предполагает освобождение индивидуума от различных социальных связей, которые иногда действительно могут подавлять. Однако в подобной ситуации многие из нас, освободившись от ответственности по отношению к другим (семья, родители, дети, соседи) и обществу в целом, начинают считать себя богами, а действуют, как животные.
Избыточный коллективизм ведёт к тоталитаризму, а избыточный либерализм разрывает социальные связи – прав оказывается тот, кто сильнее.
В основном два эти феномена – либерализм и демократия – подкрепляют друг друга, но между ними необходимо постоянно поддерживать баланс.
«Слишком много демократии» часто означает «слишком мало либерализма», и наоборот.
В большинстве западных обществ, особенно в Западной Европе, до недавнего времени удавалось уравновешивать это противоречие. Иногда демократия брала верх (например, в социальных демократиях Скандинавии), иногда превосходства добивался либерализм, но открытого конфликта не возникало. Однако вследствие быстрой глобализации и изменения баланса сил в международной системе противоречивые отношения между демократией и либерализмом перешли во враждебность. В глобализированном мире угрозу для демократии представляют не только авторитарные режимы. Демократию сдерживает распространение и либерализация глобальных, прежде всего финансовых рынков.
Увеличивая совокупный ВВП стран, ничем не ограниченные либеральные рынки делают небольшое число людей невероятно богатыми, а большинство остаётся далеко позади. Разрыв в материальном благосостоянии растёт практически повсеместно. Если в автократиях люди бесправны в отношении правителей, то в глобализированном мире граждане и избранные ими правительства бесправны по отношению к глобальным рынкам, даже если живут в так называемых либеральных демократиях. Так экономический либерализм подрывает демократию. В то же время рост значимости индивидуальных прав и прав различных меньшинств, которые агрессивно продвигают свою – часто недавно обретённую – идентичность, подрывают социальное единство и общие ценности. Так либерализм в отношении социальных явлений дестабилизирует демократию.
Обычно никто не замечает первых тревожных сигналов. Почти четверть века назад американский философ Ричард Рорти опубликовал небольшую книгу под названием «Обретая нашу страну: политика левых в Америке XX века», в которой отмечал, что либеральные левые силы в США, сосредоточившись на правах этнических, расовых, религиозных, культурных и сексуальных меньшинств, игнорируют растущий разрыв между богатыми и бедными. Однажды, предупреждал Рорти, «что-то даст трещину. Негородской электорат решит, что система не работает, и начнёт искать сильного лидера, который пообещает после своего избрания обуздать бюрократов, хитрых юристов, брокеров с огромными зарплатами, и постмодернистские профессора уже не будут определять повестку дня»[2]. Звучит знакомо и очень современно, не правда ли? Рорти относил себя к левым либералам, хотя его, как одного из ярких представителей американского прагматизма, нельзя назвать постмодернистским профессором. В отличие от многих он не высмеивал, не осуждал и не презирал людей с противоположными взглядами, а по совету Бенедикта Спинозы пытался понять их тревоги.
Нынешний конфликт между либерализмом и демократией проявляется в частности в том, что либеральные элиты в большинстве западных стран стали называть популистами тех демократов, чья политика и идеи (или личности) им не нравятся (кстати, англо- немецкий философ и социолог Ральф Дарендорф отмечал, что «популизм для одного человека – это демократия для другого, и наоборот», но при этом подчёркивал, что «популизм прост, а демократия сложна»)[3]. В свою очередь, демократы (или популисты) считают либералов высокомерными представителями элиты, отдалившимися от граждан, их нужд и образа мыслей, потому что они неудачники и невежды. Вспомним, как Хиллари Клинтон охарактеризовала сторонников Дональда Трампа (хотя потом лицемерно отказалась от своих слов), – «расисты, сексисты, гомофобы, безнадёжные люди». Обвинения с обеих сторон – и самопровозглашённых прогрессистов, и так называемых популистов – справедливы. Сегодня мы видим, как диалектические противоречия между либерализмом и демократией, если их не сбалансировать аккуратно и разумно, начинают разрушать ранее стабильные общества.
Проблемы адаптации
Интересно и одновременно полезно вспомнить, что нынешний кризис либеральной демократии имеет параллели с проблемами и дебатами, которые имели место в основном в США почти столетие назад. Французский философ Барбара Стиглер в недавнем исследовании с символичным названием «Нужно адаптироваться» (Il faut s’adapter) показала, как в начале XX века два известных американских мыслителя Уолтер Липпман и Джон Дьюи предложили разные ответы на вопрос о приспособляемости человечества к быстрым социальным изменениям, вызванным промышленной революцией[4]. Она пишет: «Впервые в истории эволюции жизни на планете один вид – наш homo sapiens – оказался в ситуации, когда он не был приспособлен к новым условиям. Для Липпмана проблема заключалась в огромном разрыве между естественной склонностью человеческого вида не меняться, сформировавшейся благодаря длительной, медленной биологической и социальной эволюции, и необходимостью быстро адаптироваться к новым условиям, навязанным промышленной революцией. Поэтому главная тема политических исследований Липпмана – как адаптировать человеческий вид к постоянно и быстро меняющейся обстановке… Фундаментальный вопрос для Липпмана – как избежать напряжённости между переменами и статичностью, открытостью и закрытостью, когда люди вынуждены выбирать национализм, фашизм или другие формы изоляционизма, чтобы противодействовать быстрым изменениям, восстановить статичность и изоляцию»[5].
Уолтера Липпмана особенно беспокоила пропасть между медленной исторической, биологической и социальной эволюцией человеческого вида и быстро меняющейся под влиянием промышленной революции физической и социальной обстановкой. В начале прошлого столетия это была промышленная революция, дополненная экономической глобализацией, в начале XXI века произошла революция информационных технологий и ускоренная глобализация экономических и финансовых рынков, которые вновь затронули массы людей в разных странах, и преуспели те, кто легко приноровился к переменам. Получился социально-биологический эксперимент на выживание для самых приспособленных. Самые приспособленные – рационально мыслящие эксперты и менеджеры, а также беспристрастные судьи, применяющие рациональные законы и знающие, в каком направлении человечество должно и будет эволюционировать. Людей нужно научить подавлять иррациональные инстинкты и доверять просвещённым экспертам, которые смогли адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. В такой ситуации одна из главных задач системы образования и медиа – «обеспечить согласие» людей с политикой, которую проводят эксперты. Что касается роли политиков, Липпман писал, что «хотя государственный деятель не может держать в голове жизнь всего народа, он, по крайней мере, должен прислушиваться к советам тех, кто знает»[6]. Политик обязан проявлять компетентность в выборе экспертов. Липпман и все неолибералы после него видели решение проблемы разрыва между быстро меняющимися условиями и неспособностью людей к ним приспособиться в привлечении компетентных специалистов и обеспечении согласия масс (то есть промывание мозгов через систему образования и СМИ).
Джон Дьюи больше полагался на коллективный разум людей. Он стал первым критиком неолиберального мышления: «Класс экспертов неизбежно будет отрезан от общих интересов и превратится в класс с собственными частными интересами. Любое правление экспертов, когда массы не способны информировать их о своих потребностях, превращается в олигархию, которая правит в интересах избранных. Информация должна заставить специалистов учитывать нужды народа. Мир больше пострадал от лидеров, чем от народных масс»[7].
Этот интеллектуальный спор почти столетней давности, повлиявший на политику западных правительств (при этом идеи Липпмана превалировали), приобрёл актуальность на фоне глобализации и IT-революции. Вновь возник конфликт между элитами и массами, между самопровозглашёнными прогрессистами и теми, кого презрительно называют популистами или их сторонниками.
«Оседлые» против «кочевников»
В книге «Дорога куда-то» британский обозреватель Дэвид Гудхарт предложил различать две группы людей – «где угодно» и «где-то»[8]. К первой категории (не более 20–25 процентов населения на Западе и ещё меньше в остальном мире) относится космополитичная элита, которая извлекла выгоду из глобализации. Большинство (более 50 процентов на Западе) ощущает потребность в тесной связи со своей страной, её историей, традициями и языком. Таким образом, мы видим конфликт между космополитами и теми, кто заботится о своих корнях и привязан к конкретному месту, будь то деревня, город или национальное государство.
Всегда существовало меньшинство, считавшее своим «отечеством» весь мир или хотя бы Европу. Большинство же людей чувствует себя дома только там, где они родились, среди говорящих с ними на одном языке, исповедующих одну религию и ведущих такую же жизнь. На протяжении веков первая категория была относительно небольшой, остальные рождались, жили и умирали в одном и том же месте, исключая массовое переселение народов, которое несколько раз имело место в истории человечества. Один из таких случаев мы, возможно, наблюдаем сегодня.
Конфликт сплочённости и разнородности, противоречия между государством всеобщего благосостояния и массовой миграцией обострил размежевание на людей «где угодно» и «где-то», или, по выражению Александра Девеккьо из Le Figaro, на «осёдлых» и «кочевников»[9]. Глобализация и волна миграции как одно из её проявлений усугубили кризис в Евросоюзе, потому что те, кто может жить, где угодно, не понимают тех, кто хочет быть в конкретном месте. Первые доминируют в политике, экономике и СМИ и ведут себя как либеральные автократы по отношению к тем, кого считают массами. Такое близорукое высокомерие влечёт за собой серьёзные социально-политические издержки. Не преодолев описанных противоречий, Европа не выйдет из нынешнего кризиса.
Рост популизма – симптом уже существующего недуга, а не его причина. Популистские партии и лидеры появляются, потому что в западных обществах нарастает неравенство и углубляется раскол. Либеральные идеи превалируют среди европейских элит, в то время как ценности демократии сегодня всё чаще выражают популистские партии и движения. Французский философ Шанталь Дельсоль справедливо отмечает: «Популисты, что бы кто ни говорил, – реальные демократы, но они не либералы. В то же время универсалистские элиты, в частности в Брюсселе, действительно либералы, но они уже не демократы, потому что им не нравится, когда люди голосуют за ограничение некоторых свобод»[10]. В равной степени прав и Дэвид Гудхарт, который в интервью Le Figaro Vox подчеркнул, что ситуация с Brexit необязательно означает конец демократии, скорее это признак конфликта между двумя концепциями демократии – представительной и прямой, которая в том числе выражается через референдум[11]. Обе имеют как преимущества, так и серьёзные недостатки. Если представительная демократия привела к отчуждению элит от простых граждан, то прямая демократия несёт в себе семена авторитаризма. Но Brexit вызвал хаос не потому, что решение было принято путём референдума как элемента прямой демократии. Причина в общественном недоверии и отчуждённости элит от большинства граждан.
Удача на выборах может отвернуться от популистских партий и движений, их рейтинги пойдут вниз. Но сам феномен никуда не денется, поскольку не исчезнут его причины. Более того, партии мейнстрима всё чаще заимствуют лозунги и политику у популистов. Самый яркий пример – метаморфозы с британскими тори, которые при Борисе Джонсоне перестали быть традиционной консервативной партией. Взяв на вооружение рецепты лейбористов и идеи партии Brexit Найджела Фаража, чтобы привлечь часть их электората, тори превратились в популистскую партию – отчасти левую, отчасти правую[12]. Можно сказать, что Brexit и победа Трампа – триумф популизма над элитизмом (или, если хотите, демократии над либерализмом).
Национальное государство как колыбель демократии и субъект международного права
Современная демократия, то есть власть народа и в интересах народа, возникла и развивалась в рамках национальных государств и кажется неотделимой от них. Экономический либерализм с глобальными неконтролируемыми финансовыми рынками и социальный либерализм, ставящий индивидуума с его интересами и желаниями выше интересов общества, разрушают связи, которые скрепляли общество воедино. В результате они подрывают и национальные государства – колыбель демократии. Поддержка и продвижение многообразия в обществе ведёт к уничтожению многообразия между обществами, организованными в государства. Некоторые общества, особенно на Западе, стали столь разнородными, что удерживающие их социальные связи вот-вот разорвутся. В других, особенно на Востоке и на Юге, попытки навязать социальные модели, заимствованные у Запада, не прижились на враждебной почве, начали уничтожать традиционные институты и, по сути, ведут к коллапсу государств.
Британский политолог Бенедикт Андерсон был не так уж не прав, определяя нации как «воображаемые сообщества», потому что исторические мифы и усилия политических лидеров по созданию нации из разнообразных сообществ играли значительную роль в строительстве государств[13]. Итальянский писатель и политик Массимо Тапарелли Д'Адзельо отмечал в 1861 г.: «Мы создали Италию. Теперь нам нужно создать итальянцев»[14]. Но есть и более важные, основополагающие вещи, без которых невозможно появление нации: общая история, культурные и религиозные традиции, язык, территориальная близость, победы и поражения.
Национализм, формирование национальных государств и развитие демократии шли в Европе рука об руку. Без национализма не возникли бы национальные государства, без национальных государств не было бы демократии, по крайней мере в её нынешней форме. Философ и политический деятель Джон Стюарт Милль, суммируя практику демократических институтов в середине XIX века, писал, что «необходимое условие свободных институтов – совпадение границ государства с границами национальностей», а если люди не чувствуют «общности интересов, особенно если они говорят и читают на разных языках, не может существовать и единого общественного мнения, необходимого для работы представительных институтов»[15]. Спустя сто лет британский дипломат и теоретик международных отношений Адам Уотсон пришёл к выводу, что «самоутверждение среднего класса в Европе имело две формы: требование участия в управлении и национализм» и что «идеи национализма и демократии были связаны»[16].
В отличие от Милля Даниэль Кон-Бендит, лидер студенческого движения 1968 г., размышляя о длительном эффекте тех событий, высказал мнение, что 1968 г. открыл путь к парадигме многообразия. «Для меня это было открытие мышления к принятию различий как объединяющего фактора. Признание различий может объединить нас и придать дополнительную силу обществу»[17]. Сегодня европейские общества кардинально изменились по сравнению со временами Джона Стюарта Милля: они стали гораздо более неоднородными, возросло и принятие этого многообразия. Тем не менее есть различия, которые делают интеграцию невозможной, ведут к параллельному существованию антагонистических субкультур в рамках одного и того же общества, и оно в конце концов попросту теряет свои базовые характеристики. Сегодня, спустя десятилетия, всё больше европейцев боятся оказаться чужаками в собственной стране, городе или деревне, и поэтому они ищут свои корни. Речь идёт не только о неудачниках гиперглобализированного мира, которым важно, где и с кем жить. Многие образованные, успешные, говорящие на нескольких языках люди ценят своё этническое, религиозное и культурное происхождение, являются патриотами своей страны и не забывают своих корней.
Сегодня мы видим, как из-за растущего многообразия обществ два феномена – национализм и демократия (так же, как либерализм и демократия) – демонстрируют скорее негативные, чем позитивные аспекты своих противоречивых отношений. Или они могут быть только негативными? Всё зависит от того, чья точка зрения вам ближе. Национализм, требующий независимости Каталонии от Испании, позитивен или негативен? Чей национализм предпочтительнее: английский, который привёл к выходу (всё ещё) Соединённого Королевства из ЕС, или шотландский, который после провала референдума 2014 г. теперь, в условиях Brexit, требует выхода из состава Британии, чтобы остаться в ЕС? Есть ещё один, более важный вопрос, на который у меня нет однозначного ответа: может ли демократия вообще существовать без стабильных национальных государств? На этот счёт у меня серьезные сомнения.
В этом отношении тревожный, по моему мнению, но оптимистичный, с точки зрения авторов, сценарий был описан в статье мэра Парижа Анн Идальго и мэра Лондона Садика Хана, опубликованной в Le Parisien и The Financial Times. Констатируя летаргию национальных государств (тут они правы), авторы предсказывают появление в XXI веке мира городов вместо мира империй XIX столетия и национальных государств XX столетия[18]. Это будут Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токио и другие агломерации, которые возглавят человечество вместо наций, организованных в государства. Часто можно услышать, что Москва – не Россия, Нью-Йорк – не Америка, Париж – не Франция. Действительно, дальнейшая концентрация элит в крупных городах и игнорирование периферии – верный путь к углублению раскола наций. Но крупные города столкнутся с не менее острыми проблемами и трудностями, чем национальные государства, которые начали из летаргии выходить.
Ещё более утопической выглядит идея мирового правительства, то есть либеральный империализм под именем либерального миропорядка. В международных отношениях идее демократии больше соответствует система баланса сил, когда претензии одной державы на доминирование или гегемонию уравновешиваются одной или несколькими другими державами. Это хорошо понимал известный швейцарский юрист Эмер де Ваттель, который в 1758 г. писал об основах международного права в книге «Право народов, или Принципы естественного права, применяемые к поведению и делам наций и суверенов»: «Это знаменитая идея о политическом балансе или равновесии сил. Мы имеем в виду ситуацию, когда ни одна держава не способна доминировать абсолютно, создавая законы для других»[19]. Английский юрист Ласа Оппенхайм писал в знаменитом трактате о международном праве: «Право отмечал может существовать, только если есть равновесие, баланс сил между членами семьи наций»[20]. В этом отношении мир не изменился. Даже сегодня самоуверенность одной супердержавы может сдерживать другая супердержава (или коалиция держав), международное право играет важную роль в этом процессе, но без баланса оно будет беспомощным и просто исчезнет, открыв путь для империалистического права.
Критика либерального империализма
Параллельно с ростом «недемократического либерализма» укреплялся и его аналог в международных отношениях – либеральный империализм, обозначаемый эвфемизмом «либеральный международный порядок». Либеральный империализм, то есть попытки навязать либеральные ценности как универсальные с помощью убеждения или силой, – тревожный сигнал для тех, кто считает ценности коллективизма, исторические традиции, стабильность и национальную независимость не менее (или даже более) важными, чем индивидуальные свободы. Многие авторитетные либеральные авторы, в том числе философы и экономисты, пропагандировали либеральный империалистический порядок. Фридрих фон Хайек, один из влиятельных теоретиков либерализма прошлого столетия, считал, что идея межгосударственной федерации станет «последовательным развитием либеральной точки зрения»[21], а Людвиг фон Мизес, сторонник классического либерализма, выступал за прекращение существования национальных государств и создание «мирового супергосударства»[22]. Израильский автор Йорам Хазони в книге с провокационным названием «Достоинство национализма» справедливо отмечал: «Несмотря на споры, сторонники либеральной конструкции едины в одобрении простого империалистического мировоззрения. Они хотят видеть мир, в котором либеральные принципы закреплены как универсальная норма и навязаны всем странам, в случае необходимости – силой. Они убеждены, что это принесёт всем нам мир и процветание»[23].
В 1990-е гг. в контексте триумфа либерализма Фукуямы многие влиятельные авторы предсказывали крах национальных государств, которые были основными субъектами международного права. Например, японский экономист, бизнесмен и интеллектуал Кэнъити Омаэ и француз Жан-Мари Геэнно, заместитель генсека ООН по миротворческим операциям, написали книги с практически одинаковым названием – «Конец национального государства»[24], [25]. Йорам Хазони отмечает, что «его либеральные друзья и коллеги не понимают: строящаяся либеральная конструкция – это форма империализма», она не способна уважать (не говоря о том, чтобы приветствовать) «отклонение наций, стремящихся сохранить право на собственные уникальные законы, традиции и политику[26]. Любое подобное отклонение воспринимается как вульгарное и невежественное или даже как проявление фашистского мировоззрения»[27]. Он подчёркивает, что после падения Берлинской стены в 1989 г. «западные умы одержимы двумя империалистическими проектами: Евросоюз, постепенно лишающий страны-члены функций, которые традиционно ассоциируются с политической независимостью, и проект американского миропорядка, при котором государства в случае необходимости можно принудить к выполнению норм международного права, в том числе с помощью военной мощи США. Это империалистические проекты, хотя их сторонники не любят использовать это слово»[28].
В защиту международного права стоит сказать, что Вашингтон пытается навязать с помощью военной силы и санкций против непослушных не ту благородную нормативную систему, которая так или иначе работала даже в период холодной войны (в значительной степени благодаря существовавшему балансу сил), а так называемый «основанный на правилах» либеральный миропорядок, то есть порядок, базирующийся на правилах Вашингтона и не имеющий отношения к международному праву. Неслучайно единственная поднимающаяся глобальная империя обвиняет своих оппонентов – Китай и Россию – в попытках построить или восстановить их собственные империи.
Называть Евросоюз империалистическим проектом всё же несправедливо, хотя, действительно, пообещав построить более тесный союз, некое подобие федеративной Европы (и выполняя это обещание), европейские элиты всё больше дистанцируются от устремлений граждан. Очевидно, что европейские общества, в отличие от политических элит, не готовы отправить национальные государства на свалку истории. Тем не менее Европейский союз ещё может укрепить свою стратегическую автономию, особенно в отношениях с Вашингтоном и Пекином. Для этого нужно существенно улучшить отношения с Москвой. В то время как Вашингтон пытается сохранить мировое доминирование и поэтому заинтересован в одновременном сдерживании Китая и России (хотя это опасный и контрпродуктивный план), Европа страдает от дурных отношений с Москвой не меньше, чем Россия. Демонизируя Россию и её политическое руководство, Европа не извлечёт никаких выгод. Нормализация же отношений выгодна Европе не только экономически – она расширит стратегическое пространство для манёвра, даже не создавая европейское супергосударство. Как выразилась французский политолог Каролин Галактерос, «стратегическое сближение ЕС и России добавит Европе дополнительный вес в новых геополитических играх»[29].
* * *
Предложить решение сложно из-за превалирующих конфронтационных подходов: либо мы, либо они. В геополитике это Запад против Китая и России, внутри западных обществ – либералы против популистов (популизм распространяется по Европе, «как проказа», если использовать выражение президента Эммануэля Макрона). Компромисс считается признаком слабости. Однако радикализм хорош в спорте или в искусстве, но в политике он опасен.
Кроме того, в таких вопросах не бывает абсолютной правды. Вот как это сформулировал французский философ Люк Ферри в контексте нынешних кровопролитных конфликтов: «Что бы ни думали узколобые моралисты, правда в том, что многие кровопролитные конфликты в современном мире подобны классической греческой трагедии: противоборствующие стороны представляют собой не добро и зло, правых и неправых, а вполне законные, хотя и отличающиеся претензии. Если бы я был западным украинцем польского происхождения, то, наверное, хотел бы, чтобы моя страна вступила в Евросоюз и даже в НАТО. Но если бы я родился на востоке Украины в русскоговорящей семье, я бы, безусловно, предпочитал, чтобы моя страна была более тесно связана с Россией. Будь я пятнадцатилетним палестинским подростком, разумеется, был бы антисемитом, а будь израильским подростком из Тель-Авива, то ненавидел бы палестинские организации»[30].
Конечно, есть и те, кого можно назвать абсолютным злом, кто заслуживает безоговорочного морального порицания. Но чаще всего в современных конфликтах между странами или внутри них трудно найти абсолютно правых и неправых.
В либеральных демократиях прогрессистам и популистам следовало бы сбавить накал взаимных обвинений и сгладить разногласия, ставшие неприемлемыми во многих обществах. Пока те, кто может жить, где угодно, не поймут и не признают проблемы тех, кто предпочитает быть в конкретном месте, и наоборот, мы будем двигаться к переломному моменту (или к точке невозврата), когда революционная ситуация рискует перейти в революцию или войну. А в геополитике надо стремиться к системе баланса сил, наподобие той, что была выстроена в Европе после Венского конгресса 1815 г., но способной противостоять вызовам XXI века.
СНОСКИ
[1] Zakaria F. The Rise of Illiberal Democracy. Foreign Affairs, 1997. Vol. 76. No. 6 (November/December). P.22-43.
[2] Rorty R. Achieving Our Country: Leftist Thought in Twentieth-Century America. Harvard University Press, 1997. P. 90.
[3] Dahrendorf R. Acht Anmerkungen zum Populismus [Eight Notes on Populism]. Transit-Europäische Revue, 2003. No. 25. P. 156.
[4] Stiegler B. Il faut s’adapter: sur un nouvel impératif politique [It Is Necessary to Adapt: On a New Political Im-perative]. Gallimard, 2019.
[5] Stiegler B. Il faut s’adapter: sur un nouvel impératif politique [It Is Necessary to Adapt: On a New Political Im-perative]. Gallimard, 2019.
[6] Lippmann, W. A Preface to Politics. HardPress Publishing, 2013. С. 98.
[7] Dewey, J. The Public and Its Problems in The Later Works of John Dewey 1925-1953. Vol. 2. Southern Illinois University Press, 1984. P. 364-365.
[8] Goodhart D. The Road to Somewhere: The New Tribes Shaping British Politics. Penguin UK, 2017.
[9] Devecchio A. Recomposition: Le nouveau monde populiste [Reconstruction: A New Populist World]. Serf, 2019. P. 1798.
[10] Delsol C. Populiste, c’est un adjectif pour injurier ses adversaires [‘Populist’ as an Adjective to Hurt Your Ad-versaries]. Le Figaro Vox, 6 September 2018.
[11] Goodhart D. Après le Brexit, le Royaume-Uni ne va pas couler en mer [After Brexit: The UK Will Not Sink]. Le Figaro Vox, 4 October 2019.
[12] Bock-Côté M. Le Multiculturalisme comme Religion Politique [Multiculturism as a Political Religion]. Les éditions du Cerf, 2016. P.291-292.
[13] Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso, 1983.
[14] Tharoor S. E Pluribus, India: Is Indian Modernity Working? Foreign Affairs, 1998. Vol. 77. No. 1. [online]. URL: https://www.foreignaffairs.com/print/node/1069817. Accessed 1 August 2020.
[15] Mill J.S. Utilitarianism. On Liberty: Considerations of Representative Government. Basil and Blackwell, 1993. P. 392-394.
[16] Watson A. The Evolution of International Society. Routledge, 1992. P. 230, 244.
[17] Cohn-Bendit D. Forget 68. Éditions de l’aube, 2008.
[18] Khan S., Hidalgo A. London and Paris Are Leading the Charge to Shape the 21st Century. The Financial Times, 27 June 2016.
[19] Vattel, E. Le Droit Des Gens, Ou Principes de la Loi Naturelle, Appliqués À La Conduite Et Aux Affaires Des Nations Et Des Souverains [The Law of Nations]. Chapter III, §§ 47-48. 1758.
[20] Oppenheim L.F.L. International Law: A Treatise. Vol. I, Peace. London, 1905. P.73.
[21] Hayek F. The Economic Conditions of Interstate Federalism. Foundation for Economic Education, 17 April 2017 [online]. URL: https://fee.org/articles/the-economic-conditions-of- interstate-federalism. Accessed 4 February 2020.
[22] Mises L. von. Liberalism in the Classical Tradition. Cobden Press, 1985. P.150.
[23] Hazony Y. The Virtue of Nationalism. Basic Books, 2018. P.45.
[24] Ohmae K. The End of the Nation State: How Regional Economics Will Soon Reshape the World. Simon & Schuster, 1995.
[25] Guehenno J.M. The End of the Nation-State. University of Minnesota Press, 2000.
[26] Hazony Y. The Virtue of Nationalism. Basic Books, 2018. P.43.
[27] Там же. P. 49.
[28] Там же. P. 3-4.
[29] Galactéros, C. Un nouveau partage du monde est en train de se structurer [A New Division of the World] // Figaro Vox, 9 November. 2019.
[30] Ferry L. La Révolution Transhumaniste: comment la technomédecine et l’uberisation du monde boulverser nos vies [The Transhumanist Revolution: How Techno-Medicine and the Uberization of the World Destroy Our Lives]. Plon, 2016. P. 222.

ПРОГРЕССИВНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ
АНАТОЛЬ ЛИВЕН
Профессор Джорджтаунского университета в Катаре. Его новая книга «Изменение климата и национальное государство: взгляд реалиста» («Climate Change and the Nation State: The Realist case») опубликована издательством «Penguin Books» в Великобритании и «Oxford University Press» в США.
ПОЧЕМУ НАЦИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ НУЖНА ДЛЯ РАЗВИТИЯ И РЕФОРМ
Величайший источник и залог силы государства – не экономика и не размер вооружённых сил, а легитимность в глазах населения, общее признание морального и юридического права государства на власть, исполнение его законов и правил, способность призвать народ идти на жертвы в виде налогов и, если понадобится, к воинской повинности[1]. Не имея легитимности, государство обречено на слабость и крах; или же ему придётся прибегать к жестокости и создавать правление страха. Фундаментальная слабость Европейского союза в сравнении со странами – членами ЕС в том, что в глазах большинства европейцев он так и не добился настоящей легитимности, будучи квазигосударственным образованием.
У легитимности много разных источников. Один из них – просто достаточно длительное существование, создающее впечатление, будто данное государство есть неотъемлемая часть естественного порядка вещей. Историк и социолог Макс Вебер называл это традиционной легитимностью. Однако она может быть утрачена, если общество и экономика изменятся так, что государство станет восприниматься как архаичное (именно это произошло с монархией во Франции за несколько десятилетий до Революции).
Ещё один очевидный источник легитимности – эффективность или успех в выполнении задач, которые население считает действительно важными. Некоторые из этих целей неизменны: защита от внешних врагов и сохранение фундаментальной внутренней безопасности были задачами государства с тех пор, как оно впервые появилось в истории. Другие задачи со временем менялись: по крайней мере, на Западе, если не считать некоторые штаты в США, правильное соблюдение религиозных законов больше не является существенной функцией государства.
Одним из важных источников легитимности последние семьдесят лет была демократия, которой объяснялась терпимость к неудачам избранных правительств и согласие меньшинства с волеизъявлением большинства (или даже, как иногда происходит в Соединённых Штатах, согласием большинства с электоральной победой меньшинства, поскольку это допускается Конституцией).
Но, как обнаружили для себя многие демократические и полудемократические государства в прошлом столетии, одна лишь демократия не может бесконечно сохранять государство, если в обществе глубокий раскол и власти не добиваются целей, которые население считает жизненно важными. Для этого необходим более глубокий источник легитимности, коренящийся в общем чувстве национальной принадлежности. В современном мире величайшим и наиболее долговечным источником этих чувств и легитимности государства является национализм.
За исключением коммунизма в течение его непродолжительного революционного периода, ничто в современной истории не может сравниться с национализмом в качестве источника коллективных действий, добровольных жертв и, конечно, государственного строительства. Другие элементы личной идентичности могут быть важны для каждого человека в отдельности, но они не создают крупных и долговечных институтов[2] (за исключением мусульманского мира, где религия сохраняет сильные позиции).
В России именно возрождение национализма спасло страну от полного краха в 1990-е годы. После того, как в Китае была официально принята новая государственная экономическая стратегия, которую можно охарактеризовать как авторитарный социально-ориентированный рыночный капитализм, именно национализм пришёл на смену коммунизму в качестве идеологии, придающей легитимность государству. Это может сработать и для западных стран, поскольку либеральная демократия не решает главных задач увеличения благосостояния и безопасности для населения в целом. Подобно тому, как в Китае сохраняется коммунистическое государство, но с националистическим содержанием, так и на Западе демократия может сохраниться, если на смену либерализму придёт национализм. По крайней мере, в 2020 г. этот процесс изменения парадигмы идёт полным ходом в некоторых странах ЕС.
Опасения по поводу национализма в последние сто лет объяснялись мнением, будто он порождает войну. Предотвращение мировой войны было главной целью всех либеральных интернационалистских проектов с тех пор, как Иммануил Кант написал в 1795 г. философский очерк «К вечному миру». Казалось, что связь между национализмом и войной доказана раз и навсегда опытом двух страшных мировых войн, а также многочисленными конфликтами меньшей интенсивности в Европе. Лига наций, ООН и Европейский союз, а также другие менее успешные региональные объединения создавались в основном для предотвращения новых мировых войн.
Однако с 1945 г. мир сильно изменился[3]. Количество и масштаб войн между народами значительно уменьшились. Прямое столкновение великих держав стало маловероятным из-за появления ядерного оружия, и если США и СССР смогли избежать ядерной катастрофы, есть все основания полагать, что великим державам XXI века это тоже окажется под силу. Тот факт, что у Пакистана в 1998 г. появилось ядерное оружие, представляется очевидной причиной, почему Индия не отреагировала на теракты пакистанских группировок объявлением войны. В предыдущие эпохи с учётом подавляющего превосходства Индии в обычных вооружениях она была бы почти неизбежной.
После 1945 г. мы стали свидетелями большого числа гражданских конфликтов и восстаний, в которых внешние великие державы иногда принимали участие на той или другой стороне. Более 90% войн за 70 лет были внутренними. В большинстве случаев они являлись следствием слабости и развала государства, которое во многом хирело из-за неспособности сплотить нацию и укрепить в ней государственный национализм (хотя, конечно, нередко эти столкновения провоцировались сепаратизмом и этническим национализмом).
В свете такого подхода связь между национализмом и войной представляется совсем иной, нежели её изображают либеральные интернационалисты.
Более того, после окончания холодной войны, именно либеральные интернационалисты, взяв на вооружение американский империализм, чаще всего разжигали международные конфликты[4].
Национализм, современность и реформы
Помимо проблематики национализма и войны, вера прогрессивной общественности, что размывание таких понятий, как национализм и национальное государство, – позитивная тенденция, опирается на тройное заблуждение: как национализм связан с современным развитием, глобализацией, а также социально-экономическим и культурным прогрессом.
В течение двух веков после Французской революции национальные государства и идеология национализма были предвестниками современного развития сначала в Европе и США, а потом и в остальном мире. «Национальное измерение – неизбежный атрибут современной политической жизни»[5]. Эта связь между национализмом и современностью – главный тезис «конструктивистской» теории национализма, сформулированной историками Эрнстом Геллнером и Эриком Хобсбаумом (и бессознательно разделяемой либеральным истеблишментом и западными СМИ, даже когда они не догадываются о происхождении идеи), хотя её сторонники по-разному оценивают исторические события и социально-экономические конфигурации, породившие современный национализм.
Но, как указывал Том Нэйрн и другие учёные, представители данной школы не задумывались о логическом следствии этой точки зрения. Во-первых, национализм и национальное государство были и остаются «неотъемлемым принципом современности»[6]. Во-вторых, если освящённое религией монархическое правление над раздробленными территориями не могло быть более жизнеспособной формой государственного устройства по политическим или экономическим причинам, тогда единственная возможная альтернатива – политическое устройство, опирающееся на суверенитет граждан, спаянных принадлежностью к одной нации, проживающих на одной исторической территории, объединённых общими национальными чувствами. Это также единственная форма, в которой может быть организована эффективная демократия[7].
Если национализм внутренне связан с идеей современного государства, он неотделим и от конкретных попыток модернизации и усиления государств через экономические, политические, социальные и культурные преобразования. Эта связь особенно очевидна, если посмотреть на реформы, проводимые странами Азии, которые в XIX и XX веках стремились модернизироваться, чтобы защищать себя от империалистических западных держав, добиваясь активной, а не пассивной роли в капиталистической глобализации. Взятие на вооружение капитализма и западных социально-культурных моделей было необычайно болезненным и энергично осуждаемым процессом. Азиатам пришлось отказаться от своих древних культурных традиций, разрушить общественно-политические иерархии и радикально преобразовать всё – от одежды до регулирования отношений между полами.
Помимо культурного шока, эти перемены подвергли простых людей существенным материальным тяготам. Им пришлось платить более высокие налоги для строительства современной инфраструктуры, согласиться с воинской повинностью в армиях нового типа, основанных на массовом призыве, а также оставить свои земельные угодья и переселиться в городские трущобы, чтобы освободить место для нового международного коммерческого земледелия. Нравственные, политические и социально-экономические жертвы были огромны, а теперь, скорее всего, людям также придётся бороться с изменением климата и приспосабливаться к искусственному интеллекту. Поэтому неудивительно, что эти реформы натолкнулись на ожесточённое сопротивление и потерпели неудачу в большинстве стран Азии[8].
Можно уверенно сказать, что реформы прошли успешно лишь в тех странах, где государство смогло мобилизовать сильные националистические чувства, чтобы оправдать необходимые жертвы. В некоторых случаях карта национализма разыгрывалась с большим убеждением и энтузиазмом, дабы укрепить страну перед угрозой иностранного вторжения или господства. Япония – яркий пример успеха подобной стратегии в Азии, равно как и Турция Кемаля Ататюрка в мусульманском мире.
Вопиюще радикальные преобразования, проведённые в эпоху Мэйдзи в Японии с 1860-х гг. и далее, открыто оправдывались и легитимировались необходимостью усилить нацию и избежать участи других стран Азии, ставших жертвой европейского империализма. Как и в Турции, реформы проводились бывшими военными с соответствующим складом ума и характера. Официальный лозунг призывал людей повышать не своё благосостояние, а благосостояние страны: «Обогащайте страну, укрепляйте армию».
«Все усилия в направлении модернизации были явно связаны с главной проблемой повышения благосостояния и силы японского государства, и почти все крупные программы инициировались и продвигались национальным государством во имя достижения чётко сформулированных национальных целей»[9]. В сердце этих реформ и их обоснования лежало распространение обновлённого вида японского национализма через новую массовую систему образования[10]. Однако этот национализм не был создан с нуля, а перестроен и расширен на очень древних основаниях. На самом деле ранее существовавший национализм и Император как общепризнанный (хотя ранее и чисто символический) источник легитимности государства были ключом к успеху всего процесса перемен[11]. В Японии до эпохи Мэйдзи, при Сёгунате Токугава, «Император принимался народом как высший источник всей политической власти… Более того, существовала всеобщая приверженность национальным интересам. Отождествление с Японией как культурой и нацией то и дело всплывало в сознании народа, имея значительный потенциал для его объединения и сплочения перед лицом внешнего врага»[12].
Как писал либеральный японский реформатор 1880-х гг., «цель моей жизни – увеличить национальную мощь Японии. В сравнении с соображениями об укреплении страны вопрос внутреннего управления и того, в чьих руках оно окажется, не имеет никакого значения»[13].
Либеральная капиталистическая реформа в развивающихся обществах Европы XIX века сильно зависела от национализма для своей легитимации[14]. И поскольку либерализм XIX века был внутренне связан с национализмом, разрыв европейского либерализма с национализмом после окончания Первой мировой войны ознаменовал резкий отход от его истоков. И хотя либеральная реформа с целью создания свободного рынка означала снижение власти государства над экономикой, она зависела от государственной власти для сдерживания своих противников[15].
Европейский либерализм начала и середины XIX века невозможен без движений национального «освобождения» и/или преобразований ради укрепления нации перед лицом угрозы имперского доминирования или агрессии других государств. Отец современного либерализма Великобритании Джон Стюарт Милль также тесно увязывал либеральный прогресс с созданием сильных и однородных национальных государств.
Именно национализм был средоточием того, что философ Антонио Грамши впоследствии называл «гегемонией» буржуазных либеральных идей, включая капиталистические экономические реформы в Италии конца XIX века: их принятия большинством населения как разновидности «здравого смысла». Это помогало во все эпохи добиваться согласия большей части населения с правлением и политикой реформ элиты, даже когда эти реформы явно шли вразрез с краткосрочными интересами людей[16]. По словам чешского социолога Хайнца Циглера, «идея нации образует философский фундамент легитимации буржуазного общества. Она гарантирует… легитимность современных структур правления, подразумевая согласие народных масс с новым государством, и является одним из фундаментальных факторов управления процессом, при котором массы встраиваются в политическую расстановку»[17].
Во многих странах Европы либералы XIX века, чтобы протащить крайне болезненные реформы, должны были проявить неприкрытую элитарность (признавая ограничения избирательного права), нередко авторитарность и призвать на помощь национализм, поскольку он был единственной силой, способной достаточно крепко привязать население к либералам для поддержки реформ[18].
Современные либеральные реформаторы в ЕС и других регионах сохраняют элитарность и даже авторитаризм, свойственный их предшественникам XIX века, но забыли про национализм. Элитарно-авторитарное крыло либерализма в полной мере проявило себя в России 1990-х годов. Выставляя напоказ свою приверженность «демократии» перед западной общественностью, либеральная интеллигенция Москвы и Санкт-Петербурга совершенно открыто выражала презрение к простым россиянам. Они называли их «хомо советикус», и в этом термине сквозила почти расовая неприязнь, а отношение действительно напоминало расовую дискриминацию северо-итальянскими элитами консервативно настроенного крестьянства Юга Италии после воссоединения страны или отношение белых элит Латинской Америки к более темнокожим массам своих стран[19].
В последние годы подобное антидемократическое отношение, напоминавшее поведение либералов XIX века, снова возобладало среди либералов Европы и Северной Америки. Так они отреагировали на антилиберальные тенденции, такие как голосование по Брекзиту и массовое движение в поддержку Дональда Трампа. Как и в России 1990-х гг., либералы повели себя достаточно безрассудно, когда, ведя агитацию за себя среди народных масс, выражали им презрение (например, Хилари Клинтон с её разговорами о «безнадёжных»)[20].
Ошибка современных либеральных реформаторов заключалась в непонимании того, что единственный способ, с помощью которого их предшественники XIX века сумели убедить массы согласиться с их правлением и программой, была апелляция к национализму. Эта ошибка была особенно катастрофична в России, если говорить о многих российских либералах 1990-х гг., которые выступили не только как авторы ужасно болезненной программы экономических реформ, но и как апологеты гегемонии США над Россией – не слишком привлекательная предвыборная платформа для большинства российских избирателей. Находясь в России в 1990-е гг., я устал слышать от западных аналитиков и некоторых российских либералов, что российские «западники» XIX века были предтечами и образцом для современных российских прозападных реформаторов, веривших, что Россия должна стать услужливым союзником Соединённых Штатов. Западники XIX века, конечно, верили в либеральные реформы, но по другим причинам. Подобно своим собратьям в Китае и Японии, они считали, что эти реформы необходимы для усиления Российской империи, конкурировавшей с западноевропейскими соперниками. Однако у них не возникало мысли проводить реформы ради того, чтобы Россия стала вассалом Британской империи.
Поведение современных арабских либералов, поддерживающих авторитарное правление из страха перед консервативными массами мусульманского населения и надеющихся на проведение изменений авторитарными методами, полностью соответствует либерализму XIX века. Однако есть мнение, будто они действуют как американские вассалы, и это их ослабляет. Если у военного режима в Египте и была хотя бы призрачная возможность осуществления успешной программы «кемалистской» авторитарной реформы наподобие той, которую Ататюрк провёл в Турции в 1920–1930-х гг., шанс был упущен, когда Анвар Садат заключил мир с Израилем и договорился о том, что Египет будет сателлитом США.
Это проблема реформаторов во всём мусульманском мире, пытавшихся взять на вооружение кемализм в качестве модели для развития общества в своих странах. Радикальные западнические реформы Ататюрка легитимировались не просто национализмом, а победоносным военным национализмом[21]. Он прославился как полководец Османской империи, когда одержал победу над имперскими британскими войсками в Галлиполи. В 1919–1922 гг. националистическая турецкая армия разгромила не только греков и армян, но также и французов[22]. Победив Запад, Ататюрк получил националистическую легитимность для того, чтобы ему подражать.
Это интересный контраст с иранской династией Пехлеви, которая пыталась провести примерно такую же программу реформ, как и Ататюрк (Реза Шах имитировал кемалистов, запретив носить традиционную одежду). Но, поскольку династия сначала была вассалом Британской империи, а затем США, у неё отсутствовала националистическая легитимность, чтобы добиться согласия народных масс с проводимыми реформами.
Как пишет историк Прасенджит Дуара, «современные универсалисты склонны не верить в наделение предлагаемых ими трансцендентных или утопических истин символами и ритуалами священной власти… Но никакие социальные перемены не будут успешны без убедительного символизма и эмоциональной силы, способной вдохновить народ»[23].
В сегодняшнем мире и, возможно, ещё очень длительное время единственной по-настоящему популярной силой, сохраняющей привлекательность, а также дающей возможность перспективного мышления, является национализм. Ислам мог бы то же самое сделать в мусульманском мире, но пока он всё ещё находится в процессе выработки своего отношения к современности. Наверное, за исключением Ирана, где религия сочетается с сильной и древней национальной идентичностью, ислам, похоже, будет ещё долго поглощён внутренней борьбой, а значит, не станет силой, способной сформировать жизнеспособную современную культуру.
Свойство национализма проецировать свою суть на будущее тесно связана с его способностью опираться на прошлое (реальное или воображаемое), то, что профессор Энтони Смит называл «комплексом национальных мифов-символов»[24]. Отчасти этим объясняется способность национализма внушать идею жертвенности и борьбы.
Государственный национализм, иммиграция и интеграция
США всегда были открыты для иммигрантов (до 1960-х гг. в основном европейских) с полуофициальной идентичностью, основанной на лояльности идеологии и Конституции, но не на этнической лояльности (на принятии так называемого «кредо американца»). Конечно, это не сделало американский национализм слабым и «разбавленным». Однако потребовалось чрезвычайно сильное идеологическое и культурное воздействие через систему образования, средства массовой информации и массовую культуру (особенно Голливуд), направленное как на ассимиляцию иммигрантов, так и на их принятие существующим населением. Это не происходит само собой[25].
Термин «американский национализм» появился ближе к концу XIX века и прививался через школы и общественную символику – во многом как способ сплочения общей лояльностью и идентичностью более старого (белого) населения и новоприбывших (белых) иммигрантов. Не будучи реакционной силой, этот национализм был тесно связан с прогрессивным движением, направленным на укрощение дикого капитализма «позолоченного века», создание базовых социальных благ и модернизацию федерального правительства[26]. Этот национализм был фундаментом избирательной программы Теодора Рузвельта, когда тот стремился к переизбранию на пост президента как независимый кандидат, а впоследствии лёг в основу Нового курса Франклина Делано Рузвельта. «Безусловный и безоговорочный патриотизм позволяет американскому кредо просочиться в отношения и поведение иммигрантов, постепенно ориентируя их на ключевые убеждения, определяющие американскую идентичность… Патриотизм предшествует принятию доминирующей политической культуры; американское политическое сообщество принимается до того, как будет усвоен ценностный консенсус сообщества»[27].
Следовательно, было бы ошибкой думать, будто гражданский национализм непременно должен быть мультикультурным. Во-первых, в прошлом гражданский национализм, так же, как и этнический, настаивал на принятии государственного языка в качестве критерия гражданства. Джон Стюарт Милль считается величайшим пророком либерального индивидуализма, при этом он не был сторонником терпимости к разным национальным идентичностям внутри государства: «Свободные институты почти невозможны в стране, где соединены люди разных национальностей. Среди людей, не связанных братскими чувствами, особенно если они читают и разговаривают на разных языках, не может существовать единого общественного мнения, необходимого для работы представительного собрания или правительства».
Как отмечали Уолтер Рассел Мид, Майкл Линд, ваш покорный слуга и другие учёные, для большинства американцев среднего класса принадлежность к американскому сообществу никогда не означала только принятие американских политических ценностей, уважение к конституции и власти закона[28]. Существует целый ряд явных и неявных культурных требований, включая знание английского языка, американский патриотизм, трудовую этику, семью, религиозную веру (хотя со временем менялось представление о том, какой должна быть эта вера) и понимание сокровенных и сложных, но вместе с тем популярных и специфических для американцев ритуалов, таких как бейсбол. И этот подход срабатывал. Белый средний класс Америки успешно прививал свою культуру десяткам миллионов европейских иммигрантов и их потомкам, а сегодня он делает то же самое со многими миллионами азиатов, латиноамериканцев и иммигрантов иной расовой принадлежности.
Поэтому следует признать: в то время как «этнические» нации обычно имели формальные и неформальные средства ассимиляции лиц иной этнической принадлежности, «гражданские» нации примешивали к политическим требованиям культурные[29].
Национализм и социальные блага
С 1870-х до 1940-х гг. создание систем социального обеспечения тесно увязывалось с соображениями национальной безопасности и единства перед лицом вероятного конфликта в будущем и, в частности, с необходимостью набирать большие армии по призыву. Это требовало обеспечения лояльности всех солдат, чтобы им не пришло в голову повернуть оружие против своих офицеров и правителей. И означало необходимость базовых социальных гарантий и медицинского обслуживания для членов их семей[30].
Индустриализация и урбанизация привели к росту озабоченности по поводу физической готовности новобранцев. Такие тревоги вдохновили движение за снижение ужасающего уровня детской смертности в европейских городах конца XIX века[31]. В США импульс в направлении реформ принял форму прогрессивизма, призывающего к «национальной эффективности», и «нового национализма» Теодора Рузвельта, который помог заложить основы для Нового курса, предложенного его родственником Франклином.
Законы, направленные на то, чтобы положить конец самым уродливым формам промышленного капитализма (отмена детского труда, ограничение продолжительности рабочего дня), приняты в 1830-е годы. Однако первая систематическая программа государственного страхования была разработана Отто фон Бисмарком в 1880-е гг. с двумя родственными целями: предотвращение революции и укрепление национального единства[32]. Выступая перед Рейхстагом Германии, Бисмарк сказал: «Я достаточно много прожил во Франции, чтобы понимать, что преданность большинства французов своему правительству… по сути, связана с тем, что большинство получает пенсии от государства»[33].
Спустя десятилетие, по мере того, как Германия всё больше и больше опережала Британию в экономическом отношении, возможность войны с Германией становилась всё более реальной, а общественные волнения и протесты рабочих в Британии нарастали, часть британских интеллектуальных и политических элит начала присматриваться к немецкой модели[34]. В своих мемуарах (написанных после Первой мировой войны) бывший премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж оправдывал либеральный закон о государственном страховании 1911 г. угрозами со стороны других стран и внутренними волнениями, завершив словами: «Были ли мы готовы ко всем ужасающим непредвиденным обстоятельствам?»[35].
«Социальные империалисты» Британии были глубоко эклектичной группой, преимущественно выходцами из империалистического крыла Лейбористской партии. Но они также брали на вооружение мысли фабианских социалистов, включая писателей Герберта Уэллса и, между прочим, Джорджа Бернарда Шоу, идеи консерваторов «единой нации», бывших колониальных администраторов, таких как Лорд Мильнер и Джон Бьюкан, а также дальновидных представителей военной элиты и их союзников, таких как фельдмаршал Фредерик Робертс, Хэлфорд Макиндер и Редьярд Киплинг.
В свободный альянс их объединила вера в защиту Британской империи и убеждённость в высокой вероятности мировой войны, когда единство нации будет испытано на прочность. К этому следует добавить известное профессиональное презрение среднего класса к наследственным аристократам и профессиональным политикам, преобладавшим в британском правительстве, а также глубокий страх перед революцией, классовой враждой и распадом общества.
Стержнем такого мышления была вера в «национальную эффективность» – в то, что британское государство нужно реформировать и наделить дополнительными полномочиями, в том числе правом выстраивать экономику и руководить её развитием[36]. Герберт Уэллс назвал это «мятежом компетентных людей». По мнению Уинстона Черчилля, входившего тогда в либеральное правительство, «Германия организована не только для войны, но и для мира. Мы же не организованы ни для какого стоящего дела, кроме как для партийной политики»[37]. Планы социальных империалистов выходили далеко за пределы социального страхования, охватывая градостроительство, общественное здравоохранение и реформу образования[38].
Во всех западноевропейских странах успех различных программ социального империализма, осуществлённых до 1914 г., находил отражение в необычайной стойкости и самопожертвовании их армий. В то время как неспособность российского империалистического государства обеспечить минимальное социальное благополучие своих граждан во многом способствовала краху сначала армии, а затем государства в 1917 году.
Социальные империалисты в целом верили в необходимость новой управляемой «национальной экономики», более высокого прогрессивного налогообложения для оплаты социальной реформы и военных приготовлений. Они также верили в ограничение свободной торговли для защиты британской промышленности и имперского экономического единства («имперские преференции»). Таким образом, они восстали против ортодоксии свободного рынка, на котором настаивали обе политические партии до отмены Хлебных законов шестьюдесятью годами ранее (законы о пошлине на ввозимое зерно, действовавшие в Великобритании с 1815 по 1846 гг., являлись барьером, который защищал английских фермеров и землевладельцев от конкуренции с дешёвым иностранным зерном – прим. ред.). Интересная параллель с нынешним временем заключается в том, что их мысль развивалась в контексте упадка британской промышленности перед лицом растущей конкуренции на мировом рынке и резкого роста относительной значимости лондонского Сити и финансовых услуг.
В Британии социальный империализм, хоть и под другими названиями, укрепился и, в конце концов, восторжествовал вследствие войн, особенно Второй мировой, когда консерваторы и лейбористы вместе работали в правительстве[39]. В ходе этой войны лейбористы стали глубоко патриотичными людьми, а консерваторы соглашались с жёстким руководством экономикой со стороны государства. Создание Министерства здравоохранения в 1921 г. стало следствием Первой мировой войны. Доклад экономиста Уильяма Генри Бевериджа в 1942 г., заложивший основы государства всеобщего благоденствия после 1945 г., стал следствием Второй мировой. И сам Беверидж во многом мыслил категориями социального империализма[40].
В США тот же импульс, который в Британии породил социальный империализм, привёл к возникновению Прогрессивного движения и к появлению концепции «нового национализма» Теодора Рузвельта и Герберта Кроули, хотя в ней сравнительно меньше внимания уделялось благосостоянию и больше – регулированию капитализма и национальной эффективности.
Подобно британским социальным империалистам, но в отличие от большинства современных социальных реформаторов, деятельность Кроули являлась глубоко националистической. Она была посвящена американским национальным интересам. Государству и населению, особенно иммигрантам и их детям, внушалась новая национальная идея: «Таким образом последствия претворения судьбы нашей американской нации в национальную идею становятся революционными. Когда обетование американской жизни воспринимается как национальный идеал, достижение которого – вопрос искусного и напряжённого труда, следствием этого становится, по сути, отождествление национальной идеи с социальной проблемой»[41].
Сегодня, когда американское общество шатается под ударами расовых и культурных проблем, экономической депрессии и растущего неравенства, ключевой вопрос для будущего Америки: удастся ли снова мобилизовать общее понимание национальной идеи для проведения необходимых реформ? В обозримом будущем геополитическая конкуренция в мире будет в меньшей степени касаться военной силы и в большей – разворачиваться вокруг сравнительной национальной эффективности. Причём судить об этой эффективности придётся не столько с точки зрения экономического роста и технологических возможностей, сколько в терминах общественной солидарности и гармонии. Как и в прошлом, достижение новых форм эффективности будет мучительным и болезненным для крупных и могущественных сегментов общества. И так же, как и в прошлом, выраженный государственный национализм будет необходим для успеха национального строительства.
Данная статья частично основана на новой книге Анатоля Ливена «Изменение климата и национальное государство: доводы реалиста» (Climate Change and the Nation State: The Realist Case). Она опубликована издательством Penguin в Великобритании и типографией Оксфордского университета в США.
СНОСКИ
[1] Perre Manent. A World Beyond Politics? A Defence of the Nation State (translated by Marc LePain, Princeton University Press, Princeton NJ 2006). P. 1.
[2] Другой взгляд – Amartya Sen, Identity and Violence: The Illusion of Destiny (W.W. Norton and Co., New York 2006).
[3] Miller. On Nationality. P. 119; Collier, Exodus. P. 263.
[4] See John J. Mearsheimer. The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities (Yale University Press, New Haven 2018); Walt, The Hell of Good Intentions; Andrew J. Bacevich, Twilight of the American Century (University of Notre Dame Press, Notre Dame IN 2018).
[5] Will Kymlicka. “The Sources of Nationalism”, in McKim and McMahan, Morality of Nationalism. P. 57.
[6] Liah Greenfeld. Nationalism: Five Paths to Modernity (Harvard University Press, Cambridge MA 2013). P. 491.
[7] Nairn. Faces of Nationalism. PP. 65-67; Manent, World Beyond Politics. PP. 51-59.
[8] Tom Nairn. “The Curse of Rurality” in John A Hall (ed), The State of the Nation: Ernest Gellner and the Theory of Nationalism (Cambridge University Press 1998). P.108.
[9] Delmer M Brown. Nationalism in Japan: An introductory historical analysis (University of California Press, Berkeley, 1955). PP. 91, 104.
[10] См. “The Imperial Rescript on Education” (1890) in William Theodore de Bary et al. (eds), Sources of Japanese Tradition, vol. two, part two (Columbia University Press, New York, 2006). PP. 108-110; Barrington Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the making of the Modern World (Penguin, London 1966). P. 246.
[11] Kevin M. Doak. A History of Nationalism in Modern Japan: Placing the People (Brill, Boston Mass, 2007). PP. 36-45, 113-126.
[12] James W.White. “State Building and Modernisation: The Meiji Restoration”, in Gabriel A. Almond et al. (eds), Crisis, Choice and Change: Historical Studies of Political Development (Little, Brown and Co., Boston Mass. 1973). PP. 502-503; Sources of Japanese Tradition. PP. 117-118.
[13] Fukuzawa Yukichi, quoted in W.G.Beasley. The Meiji Restoration (Oxford University Press, Oxford 1973). P. 377.
[14] См. Erica Benner “Nationalism: Intellectual Origins” in John Breuilly (ed). The History of Nationalism (Oxford University Press New York 2013). PP. 36-51; James J Sheehan, German Liberalism in the Nineteenth Century (Methuen, London 1982). PP. 274-283.
[15] Immanuel Wallerstein. The Modern World-System IV: Centrist Liberalism Triumphant, 1789-1914 (University of California Press 2011). P. 9.
[16] Barrington Moore, op cit. P. 493. Eugen Weber. Peasants Into Frenchmen: The Modernisation of Rural France 1871-1914 (Chatto and Windus, London 1977).
[17] Heinz Ziegler. Die Moderne Nation (Tuebingen 1931), quoted in Tibi, op cit. P. 33.
[18] Francesco Trinchero. Quoted in Nelson Moe, The View from Vesuvius: Italian Culture and the Southern Question (University of California Press, Berkeley 2002). P. 145. For the authoritarian and military character of Italian liberalism after unification, see Moe, op cit. PP. 126-183; Dennis Mack Smith, The Making of Italy 1796-1870 (Macmillan, London 1968). PP. 371-394. For the Bronte revolt and its suppression, see Lucy Riall, Under the Volcano: Revolution in a Sicilian Town (Oxford University Press, Oxford 2013).
[19] Francesco Trinchero. Quoted in Nelson Moe, The View from Vesuvius: Italian Culture and the Southern Question (University of California Press, Berkeley 2002). P. 145. По поводу подхода российских либералов к массам см. Lieven, Tombstone of Russian Power. PP. 153-155.
[20] См. Chua, Political Tribes. PP. 161-173; Mounk, People Versus Democracy. P. 10.
[21] О кемалистской идеологии и реформах Ататюрка см. Sevket Pamuk. “Economic Change in Twentieth Century Turkey”, Cambridge History of Turkey, volume IV (Cambridge University Press, Cambridge, 2008) pages 266-300; Hugh Paulton, Top Hat. Grey Wolf and Crescent: Turkish Nationalism and the Turkish Republic (Hurst and Co., London 1997). PP. 92-129; Carter Vaughn Findley. Turkey, Islam, Nationalism and Modernity (Yale University Press, New Haven CT 2010); William Hale. The Political and Economic Development of Modern Turkey (St Martin;s Press, New York 1981).
[22] См. Hasan Kayali. “The Struggle for Independence” and Andrew Mango, “Ataturk”, in Resat Kasaba (ed), The Cambridge History of Turkey. PP. 112-146, 147-174; Nicole and Hugh Pope. Turkey Unveiled: Ataturk and After (John Murray, London 1997). PP. 50-69.
[23] Prasenjit Duara. The Crisis of Global Modernity: Asian Traditions and a Sustainable Future (Cambridge University Press, New York 2014). P. 282.
[24] Anthony D. Smith. Nationalism and Modernism (Routledge, London 1998). PP. 181-187.
[25] См. Anatol Lieven. America Right or Wrong: An Anatomy of American Nationalism (second edition, Oxford University Press, New York 2012). PP. 37-46; Will Kymlicka. “The Sources of Nationalism”, in McKim and McMahan. P. 58.
[26] См. Herbert Croly. The Promise of American Life (1909, reprinted with an introduction by Franklin Foer, Princeton University Press, Princeton NJ 2014); Richard Hofstadter, The Progressive Movement, 1900-1915 (Spectrum, New York 1963), Sean Dennis Cashman, America in the Gilded Age: From the Death of Lincoln to the Rise of Theodore Roosevelt (New York University Press, New York 1984). PP. 354-380.
[27] John C. Harles. Politics in the Lifeboat: Immigrants and the American Democratic Order (Westview Press, Boulder, CO 1993). P. 100.
[28] Walter Russell Mead. Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the World (Knopf, New York 2001). PP. 226-237; Lieven, America Right or Wrong. PP. 37-46; Lind. PP. 270-274, 285-287.
[29] Michael Walzer, in Charles Taylor (ed). Multiculturalism and the Politics of Recognition (Princeton University Press, Princeton NJ 1994). P. 101; Kymlicka, Politics in the Vernacular.
[30] Michael B. Katz. In the Shadow of the Poorhouse: A Social History of Welfare in America (Basic Books, New York 1986), quoted in Skocpol, op. cit. page 24.
[31] Bernard Semmel. Imperialism and Social Reform: English Social-Imperial Thought, 1895-1914 (Allen and Unwin, London 1960). PP. 12-16, 209. Michael B. Katz. In the Shadow of the Poorhouse: A Social History of Welfare in America (Basic Books, New York 1986); Theda Skocpol. Protecting Soldiers and Mothers: The Origins of Social Policy in the United States (reprinted Harvard University Press, Cambridge Mass 1995). For these fears in Britain, see Anna Davin, “Imperialism and Motherhood”, in Frederick Cooper and Ann Laura Stoler (ed), Tensions of Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois World (University of California Press, Berkeley 1997). PP. 87-151.
[32] Gerhard A Ritter. Social Welfare in Germany and Britain (Berg Publishers, Leamington Spa, 1986); David Blackbourn and Geoff Eley. The Peculiarities of German History (Oxford University Press New York 1984), pa91-94; Gordon Craig. Germany 1866-1945 (Oxford University Press, Oxford 1981). PP. 150-152; Albin Gladen. Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland (Steiner Verlag, Stuttgart 1974). PP. 1-85; Hans-Ulrich Wehler. Bismarck und der Imperialismus (1969, reprinted KiWi Bibliothek Cologne 2017). P. 459.
[33] Quoted in Hans-Ulrich Wehler. The German Empire 1871-1918 (Berg Publishers, Dover NH 19850. P. 132.
[34] См. E.P.Hennock. “The Origins of British National Insurance and the German Precedent, 1880-1914”, in W.J.Mommsen (ed). The Emergence of the Welfare State in Britain and Germany 1850-1950 (Routledge, London 1981). PP. 84-106; George Dangerfield. The Strange Death of Liberal England, 1910-1914 (reprint Transaction Publishers, London 2011). PP. 219-221.
[35] David Lloyd George. War Memoirs, quoted in Semmel, op. cit. P. 245.
[36] G.R. Searle. The Quest for National Efficiency Study in British Politics and Political Thought, 1899-1914 (Blackhall Publishing, London 1999).
[37] Quoted in Hennock. P. 88.
[38] См. Sidney Webb. Twentieth Century Politics: A Policy of National Efficiency (Fabian Tract no.108, 1901, London); George Bernard Shaw, Fabianism and Empire: A Fabian Manifesto (Grant Richards, London 1900); Benjamin Kidd. Individualism and After (Herbert Spencer Lecture 1908, reprinted Cornell University Library 2009); Karl Pearson. Social Problems: Their Treatment, Past Present and Future (University of London Press, London 1912); Alfred Milner. The Nation and the Empire (Constable, London 1913); George Dangerfield. The Strange Death of Liberal England 1910-1914 (Serif reprint, London 2012); John Buchan. A Lodge in the Wilderness (1906, republished independently London 2018).
[39] См. Richard Titmuss. “War and Social Policy”, in Titmuss, Essays on ‘The Welfare State’. Reprinted Policy Press, London 2018). PP. 44-53.
[40] “Social Insurance and Allied Services”, report by Sir William Beveridge to Parliament, November 1942, at https://sourcebooks.fordham.edu/mod/1942beveridge.asp; Sir William H. Beveridge. The Pillars of Security; and other wartime essays and addresses (reprinted Routledge, London 2015); Sir William H. Beveridge. Full Employment in a Free Society (reprinted Routledge, London 2015). For the role of the Second World War in driving health and social welfare reforms in Japan, see “War and Welfare”.
[41] Там же.

РОЖДЁННЫЕ ПАНДЕМИЕЙ
ОКСАНА СИНЯВСКАЯ
Заместитель директора Института социальной политики Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики».
СТАНУТ ЛИ КОРОНАВИРУС И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС РОДИТЕЛЯМИ НОВОЙ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА?
Нет никакого смысла рушить старую систему,
если взамен неё ты не можешь предложить лучший мир…
Знания требуют перемен в сознании,
но никто не любит пересматривать своё ограниченное видение мира.
Бернар Вербер. Завтрашний день кошки, 2017
Пандемия коронавируса 2020 г. – событие глобального значения, достаточно масштабное для того, чтобы изменить философию социальной роли государства или по меньшей мере ослабить доминирование устаревшей неолиберальной модели.
Драматичность изменений в обыденной жизни, обрушившихся на нас за последние месяцы, так и подталкивает к тому, чтобы воскликнуть: «Мир уже никогда не будет прежним!». Мы наблюдаем, как во многих странах во имя спасения человеческих жизней правительства вводят режимы изоляции, останавливают деятельность целых секторов экономики и направляют значительные ресурсы на поддержку бизнеса и населения. Впервые здоровье граждан стало вопросом национальной безопасности, и это серьёзное основание надеяться на то, что государства задумаются, как подготовиться к похожим стрессам в будущем.
Государственная активность, казалось бы, контрастирует с неолиберальной риторикой последних десятилетий, когда социальные государства сравнивались с «дырявым ведром», через которое утекают деньги налогоплательщиков, «раздутые» социальные расходы рассматривались как подрыв стимулов работать и инвестировать[1]. В этом контексте неудивительно, что, начиная с 1980-х гг., всё более настойчиво звучали призывы сократить социальные расходы как главный тормоз экономического развития и переложить ответственность за благосостояние с государства на население. А правительства консерваторов, наиболее яркими представителями которых были Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган, проводили реформы, направленные на приватизацию не только государственных компаний, но и социальных программ, ужесточение критериев адресности и необходимости предоставления социальной помощи, сокращение охвата, включая государственные гарантии в здравоохранении.
В условиях пандемии те самые социальные государства, закат которых предрекали ещё двадцать-тридцать лет назад, выступают в роли макроэкономического стабилизатора – эдакой подушки безопасности, не только защищающей людей, но и спасающей экономику от краха. По данным Всемирного банка, к середине июня 2020 г. те или иные антикризисные меры социальной защиты были приняты в 195 странах[2]. По сравнению с 20 марта 2020 г. количество таких стран выросло более чем в четыре раза, а число принятых в ответ на пандемию мер социальной защиты – увеличилось в десять раз, превысив тысячу. Объём денежных выплат населению в среднем в мире составляет около 30% месячного ВВП – варьируя от 21% в странах с доходами выше среднего до 47% в низкодоходных странах. Ради поддержки пострадавших секторов экономики и доходов населения богатые страны распаковывают стабилизационные и резервные фонды, увеличивают государственный долг, бедные – наращивают долг внешний.
Означает ли это, что закончилась эпоха торжества неолиберализма с его критическим отношением к социальным функциям государства и реформами, направленными на сокращение социальных расходов? Можно ли ожидать, что пандемия окажет такое же трансформирующее влияние на социальное развитие, каким было в своё время воздействие Второй мировой войны? Последняя привела в 1942 г. к появлению знаменитого доклада лорда Уильяма Бевериджа и расцвету универсальных социальных государств в развитых странах Европы и за её пределами.
Социальное государство как антикризисный управляющий
Ответ на первый вопрос, на мой взгляд, с высокой вероятностью отрицательный. Когда угроза массовой гибели граждан отступит, а экономические трудности, наоборот, обострятся, во имя спасения государственных бюджетов и экономики правительства многих стран вновь заговорят о необходимости урезать социальные расходы, ужесточая доступ к социальным программам, сокращая размеры пособий и повышая их адресность. Радикальность этого разворота во многом будет зависеть от докризисного уровня развития страны и того, насколько эффективно ей удалось справиться с коронавирусом.
Подобная схема разворачивалась в ходе финансового кризиса 2008–2009 годов. Именно тогда социальные государства впервые столь последовательно, в том числе на международном уровне, исполнили роль «антикризисного управляющего» для быстрой стабилизации экономики[3]. Расширение социальных расходов, пусть и не такое значительное как сейчас, затронуло страны не только с высоким, но и со средним уровнем дохода. Была увеличена поддержка наиболее уязвимых слоёв населения через инструменты социальной помощи, облегчён доступ к пособиям по безработице, в ряде стран – к программам субсидирования неполной занятости, повышен уровень минимальной заработной платы, расширены активные программы на рынке труда и тому подобное[4].
В ноябре 2009 г. Международная организация труда выпустила Глобальный пакт о рабочих местах[5], подчёркивающий важность для преодоления кризиса политики, направленной на создание рабочих мест и поддержку доходов населения, для преодоления кризиса. Созданные до 2008 г. социальные программы позволили странам легче справиться с кризисом[6]. И тем не менее уже в 2010 г., с появлением первых признаков того, что кризис удалось преодолеть, страны вернулись к политике фискальной консолидации и сокращению социальных расходов[7]. Причём это сокращение затронуло не только наиболее развитые страны, но и страны со средним и низким уровнем развития. Поскольку нынешний спад, по прогнозам МВФ, окажется намного глубже и продолжительнее кризиса 2008–2009 гг., необходимость «затянуть пояса» будет, видимо, стоять более остро.
Вопреки распространённым представлениям о том, что кризис «обнуляет» прежние договорённости и создаёт пространство для радикальных общественных преобразований, меры быстрого реагирования на полные неопределённости ситуации кризиса, как правило, опираются на действующие решения и программы[8]. Например, в США, где рынок труда отличается гибкостью, а социальные программы фокусируются на адресной поддержке бедных, и в 2008–2009 гг., и сейчас принимаются решения, облегчающие получение пособий по безработице и увеличивающие благосостояние лиц с наименьшими доходами.
В странах континентальной Европы, наиболее типичным (и богатым) представителем которой является Германия, антикризисные социальные меры опираются на существующие программы социального страхования и направлены на сохранение неполной занятости посредством субсидирования зарплат. В условиях пандемии подобные программы поддержки занятости с высокими уровнями компенсации зарплаты – до 60–90% – введены в большинстве стран ЕС и в Великобритании.
В скандинавских странах, например, в Швеции и Дании и в кризис 2008–2009 гг., и сейчас наряду с программами сохранения занятости фокус направлен на активные действия на рынке труда, включая облегчённый доступ к субсидируемому образованию для взрослых («народные школы») и переобучению. В России привычной является категориальная модель социальной поддержки (в кризис 2008–2009 гг. объектом помощи были пенсионеры, в настоящее время – семьи с детьми) и «адресная», на основе регулярно пересматриваемых списков пострадавших отраслей и системо-образующих предприятий, помощь бизнесу через снижение налогов и страховых платежей.
При этом меньше новых мер по поддержке населения принимается в Германии и скандинавских странах. Созданные там социальные государства с множеством программ, охватывающих все слои населения и позволяющих поддерживать достойный уровень жизни в различных обстоятельствах, не нуждаются в экстраординарных мерах в условиях кризиса. А чем слабее было социальное государство до начала пандемии (и особенно – если оно отсутствовало), тем больше решений приходится принимать в авральном режиме, отвечая непосредственно на кризис.
Могут ли пандемия и кризис стать родителями новой модели социального государства?
Итак, наиболее вероятный сценарий ближайшего будущего – опора на действующие подходы в социальной политике и краткосрочное увеличение социальных расходов. А сразу по завершении острой фазы пандемии – реформы, направленные на сокращение социальных обязательств. Но, несмотря на такой весьма вероятный «регресс» в бюджетных расходах, наиболее трансформирующее влияние нынешний кризис, скорее всего, окажет на страны, где до начала пандемии социальные программы отсутствовали или имели ограниченный охват. Для них важны, во-первых, осознание, что меры поддержки населения могут использоваться в целях экономической политики, а во-вторых, опыт разработки и реализации программ. На приобретённые административные компетенции можно будет опираться в дальнейшем.
В богатых странах, обладающих зрелым социальным государством, изменения, скорее всего, будут минимальны и, по крайней мере, не все из них связаны с пандемией. С одной стороны, это следствие инерционности самих социальных программ, охватывающих практически всё население, – многие обязательства, например, в пенсиях или долговременном уходе, выданы на несколько десятилетий вперёд; выплаты при наступлении определённых жизненных ситуаций давно стали частью индивидуальных и семейных стратегий. С другой стороны, пандемия – как любое чрезвычайное событие – непредсказуема. А социальные государства имеют дело с предсказуемыми на макроуровне и относительно массовыми рисками, ставшими актуальными при переходе к индустриальному обществу, – такими, как безработица или утрата трудоспособности в результате болезни, инвалидности или старости.
Не случайно, источниками создания или трансформации социальных государств становятся вызовы, растянутые во времени: вначале – индустриализация, изменившая характер труда и семейный уклад, сейчас – старение населения и очередное изменение характера занятости, вызванное технологической революцией и развитием сектора услуг. Знаменитый доклад лорда Бевериджа 1942 г., повлиявший на облик послевоенных социальных государств, был ответом не столько на события Второй мировой войны, сколько на повторяющиеся ситуации экономической турбулентности – после Первой мировой, затем в Великую депрессию и, наконец, во Вторую мировую войну[9]. Их следствием становилась массовая безработица и потеря доходов широкими слоями населения.
Как справедливо отмечает профессор Фрэнсис Каслз, новые институты создаются тогда, когда есть уверенность в том, что обстоятельства, при которых эти институты будут востребованы, повторятся в будущем[10]. Следовательно, если появятся веские основания считать, что нынешняя пандемия с нами надолго или вспышки болезней, подобные COVID-19, будут регулярно повторяться в будущем, это может стать катализатором изменений в системе здравоохранения и социальной защиты. Источником трансформации в средне- и долгосрочной перспективе способна выступить и сама пандемия, если она существенно изменит контекст, в котором действуют нынешние социальные государства.
Социальные вызовы пандемии и посткоронавирусное будущее
Первый, лежащий на поверхности, вызов, с которым столкнулись большинство развитых стран, обусловлен неспособностью систем здравоохранения справляться с быстро распространяющейся вирусной инфекцией. С одной стороны, на протяжении десятилетий здравоохранение в этих странах перестраивалось на работу с пациентами всё более старшего возраста и их хроническими неинфекционными заболеваниями (сердечно-сосудистыми, эндокринными, онкологическими и прочими). В этом мире большинство опасных инфекций было побеждено, и потребность в эпидемиологах и инфекционистах закономерно упала. С другой стороны, под влиянием неолиберальных идей здравоохранение на протяжении последних тридцати лет неуклонно коммерциализировалось и оптимизировалось, да и сокращение социальных расходов после кризиса 2008–2009 гг. в наибольшей степени коснулось именно здравоохранения[11].
Пандемия побуждает реформировать действующие системы здравоохранения, направляя туда больше, чем прежде, средств.
В условиях более высокой вероятности повторяющихся инфекций, характер и точное время прихода которых трудно предсказать, очевидно, что система здравоохранения должна стать более гибкой, способной быстро перестраиваться и перераспределять ресурсы. Одним из инструментов медицины будущего станут, по-видимому, информационные технологии, позволяющие как создавать единые информационные системы, объединяющие все уровни здравоохранения, так и развивать телемедицину – дистанционное предоставление медицинских услуг, актуальность которого возрастает в условиях эпидемий.
Кроме того, системам здравоохранения стареющих стран придётся развивать два направления: эпидемиологическое и связанное с возрастзависимыми хроническими неинфекционными заболеваниями. Высокая смертность людей с коронавирусом от осложнений, ассоциированных с разнообразными хроническими заболеваниями, ставит под сомнение эффективность сложившейся в конце XX века модели увеличения продолжительности жизни. В нынешних условиях уже недостаточно поддерживать жизнь людей с нарастающими проблемами здоровья. Важно научиться отодвигать начало этих заболеваний и сохранять здоровье граждан до как можно более преклонного возраста. Поэтому появившееся менее трёх десятилетий назад направление антивозрастной медицины, занимающейся выявлением, превенцией и коррекцией возрастзависимых заболеваний, может получить мощный импульс к развитию.
На этом пути наибольшие опасности подстерегают страны, которым пандемию удалось преодолеть без большого числа смертей. В этом случае возникает большой соблазн, не углубляясь в профессиональную диагностику факторов, способствовавших такому развитию событий, поверить, что система здравоохранения, выстоявшая под напором коронавируса, не нуждается в реформировании. Излишняя фокусировка на показателях смертности от коронавируса способна обесценить вторичные потери от пандемии – масштабы ухудшения качества жизни и состояния здоровья людей, не получивших вовремя медицинскую помощь в связи с другими болезнями из-за того, что все ресурсы здравоохранения были брошены на борьбу с вирусом.
Однако самая главная проблема, которую обнажила эта пандемия, связана с высокой социальной ценой неравенства. Казалось бы, перед лицом вируса равны все, что подтверждают случаи заболевания среди политиков, известных актёров, спортсменов, представителей шоу-бизнеса и других элитных слоёв общества. Однако это скорее исключения, не меняющие общего правила: низшие слои общества больше подвержены рискам заразиться, не получить вовремя надлежащее лечение и умереть, это очевидно. И чем выше уровень доходного и имущественного неравенства в стране, чем селективнее в ней охват социальными программами и медицинскими услугами, тем, скорее всего, эти различия будут более выраженными, о чём свидетельствуют, например, последние данные из США.
Причин здесь несколько. Во-первых, высокое экономическое неравенство, как правило, сопровождается значительным неравенством в плане здоровья и смертности. Разность социальных статусов зачастую прослеживается с детского возраста[12]. И естественно, что по мере взросления хронических заболеваний у людей с низким социальным статусом будет больше.
Во-вторых, представители нижних слоёв чаще заняты в сфере обслуживания и персональных услуг: они работают в общественном питании, торговле, курьерами, таксистами, помощниками по хозяйству, сиделками, нянями и так далее. Следовательно, в период эпидемии они либо продолжили работать, подвергая себя высокому риску заразиться, либо потеряли единственный источник дохода. Поскольку зачастую их работа осуществляется неформально, то доступность для них медицинских услуг и социальных выплат во многом зависит от того, насколько готово их замечать государство.
В результате общество, допускающее существование такого острого неравенства, скорее всего, заплатит высокую цену за выход из кризиса, порождённого пандемией. Большим числом смертей и, скорее всего, глубоким социальным и экономическим кризисом. Столкновения на расовой почве в США – не только отражение традиционно сложных межрасовых отношений, но и проявление социального конфликта, обусловленного высоким неравенством и снижением возможностей социальной мобильности для представителей низших слоёв населения. Исследования Дэвида Груски и других социологов показывают, что рост неравенства в развитых странах в последние десятилетия привёл к снижению межпоколенческой социальной мобильности, в том числе – в значительной мере – и в Соединённых Штатах[13].
Неравенство усугубляет негативные последствия пандемии, а пандемия становится источником дальнейшего углубления неравенства. Качество жизни в период карантинных мер несравнимо выше в верхних социальных группах, где люди имеют и просторное, часто загородное, жильё, и сбережения, и возможности дистанционной занятости, и выше вероятность того, что пожилые представители верхушки общества не окажутся в тех домах престарелых, где старики массово заражаются и умирают.
Коронакризис показал, как легко и внезапно может быть нарушена работа целых секторов экономики – индустрии развлечений, общественного питания, туризма, аиаперевозок и так далее. Восстановление деловой активности, прежде всего в секторе услуг, займёт не один год. И это значит, что определённая часть людей окажется без работы. Под удар попали многочисленные нестабильные и плохо оплачиваемые рабочие места в сфере обслуживания, предполагающие непосредственный личный контакт с клиентами. Те, кто вернутся в этот сектор, будут трудиться в более тяжёлых условиях. Нестабильность их занятости может ещё больше ограничить возможности их детей не повторить судьбу родителей и подняться выше по социальной лестнице. И, напротив, профессионалы из непострадавших в кризис секторов, имеющие возможность работать дистанционно, сохранили заработную плату даже в период карантина.
Вместе с тем спровоцированный пандемией массовый переход к дистанционной занятости только на первый взгляд открывает работникам больше возможностей.
С высокой вероятностью он усугубит тенденцию ухудшения условий труда и повышения его интенсивности за счёт стирания грани между работой и отдыхом.
Если XX век сопровождался прогрессом в сфере защиты права на отдых и его достижением был переход к восьмичасовому рабочему дню, то XXI век возвращает нас к истокам раннего капитализма: современные средства связи, обеспечивая постоянную доступность человека, нарушают его личное пространство и по сути уничтожают право на отдых: за право включать в рабочее время задачи, связанные с организацией личной и семейной жизни, высококвалифицированный пролетариат «новой экономики» расплачивается тем, что работает уже не только вечерами или ночами, но и в выходные дни и во время отпуска.
Пандемия и её последствия потенциально могут стать источником межпоколенческих конфликтов. С одной стороны, есть лежащее на поверхности противоречие между рисками тяжёлого течения коронавируса и смертности от него у людей старшего возраста и экономическими потерями от карантина у трудоспособных поколений. С другой стороны, хотя это и менее очевидно, благосостояние пожилых людей также неразрывно связано с ситуацией на рынке труда и трудовыми доходами. Сокращение рабочих мест и зарплат означает меньше поступлений в пенсионный фонд и бюджеты и, соответственно, меньше возможностей поддерживать прежние выплаты для стариков. И ещё большие проблемы для развития дополнительных социальных программ, направленных на повышение качества их жизни – социальное обслуживание и уход, инициативы по созданию дружественной среды и тому подобное. В условиях возросшей конкуренции за рабочие места и под видом заботы о здоровье пожилых может произойти усиление проявлений возрастных стереотипов – эйджизма, которое ограничит возможности этой социальной группы трудиться.
В поисках новой справедливой модели социального государства
Уязвимость огромного числа людей перед социальными и экономическими последствиями пандемии спровоцировала дискуссию о необходимости вернуться к идее универсальной социальной защиты, охватывающей неформально занятых и прекариат. Вновь зазвучали голоса в поддержку универсального безусловного базового дохода – инструмента, который ещё недавно был предметом активных дискуссий в контексте смягчения последствий новой технологической революции.
Однако пока к этой подкупающей своей простотой концепции остаётся много вопросов, ответы на которые могут иметь различные последствия с точки зрения влияния на благосостояние и неравенство, мотивацию людей и соответствие представлениям о социальной справедливости. Например, в какой степени он будет дополнять, а в какой замещать существующие социальные программы? И какие из них? Что станет источником его финансирования? В какой степени он будет поддерживать перераспределение ресурсов в пользу наименее обеспеченных и защищённых, а в какой – направлять ресурсы тем, кто и без них живёт неплохо? Большой риск увлечения концепцией базового дохода состоит в том, что он подаётся как универсальная таблетка от всех болезней современных социальных государств. Тогда как растущее разнообразие обществ и индивидуальных жизненных траекторий требует, напротив, разнообразия ответов и многообразия социальных программ.
Социальные государства XX века, сформировавшиеся как ответ на вызовы индустриализации и социально-экономических потрясений первой половины прошлого столетия, заложили основу новых взглядов на права граждан, социальную справедливость и роль государства. Стандарты условий труда и относительно низкая дифференциация заработков в промышленности были залогом стабильной работы институтов социального страхования. В 1950–1960-е гг. женщины в большинстве развитых стран были мало представлены в сегменте оплачиваемой занятости, а в странах социалистического блока, поддерживавших женскую занятость, ещё существовало старшее поколение женщин – «бабушек», готовых нести на своих плечах не только хозяйство и воспитание детей, но и уход за больными родственниками. Это позволяло социальным государствам в большей степени фокусироваться на монетарных инструментах поддержки, приоритетом которых было, во-первых, перераспределение доходов в пользу наименее обеспеченных, а во-вторых – сохранение доходов граждан в случае болезни, безработицы, инвалидности или старости.
Во многом сложившаяся в то время модель социальной справедливости нашла отражение в работах американского философа Джона Ролза[14], описывавшего ситуацию справедливого неравенства как такую, которая не ущемляет права наименее обеспеченных и, более того, позволяет увеличить их благосостояние. Второй принцип справедливости Ролза относится к обеспечению равенства возможностей при занятии должностей, что, по сути, требует равенства возможностей в образовании для всех граждан независимо от уровня их благосостояния. Идеи Ролза описывают причины существования многих сложившихся на тот момент институтов социальных государств. Прежде всего, программ, гарантирующих определённый минимум доходов всему населению, и программ социального страхования, участие в которых приобретает смысл в условиях «завесы неведения».
Однако модели социальной справедливости и социальные институты, адекватные условиям семидесятилетней давности, не соответствуют новым рискам и потребностям современных обществ. Изменения затронули все сферы. Здесь и гендерная революция в публичной сфере, и меньшая распространённость и стабильность браков, подрывающая возможности семьи нести бремя ухода за детьми и стариками, и проблема бедности в ситуации потери трудового дохода единственным родителем, и меньшая стабильность занятости и заработков, и распространение нестандартных условий занятости, и большая поляризация занятости в секторе услуг, чем это имело место в промышленности, и старение населения, заставляющее задуматься о будущем пенсионных систем, а одновременно – о важности производительности труда в условиях стареющей рабочей силы. Пандемия и следующий за ней экономический кризис не изменили ни одно из этих условий – напротив, лишь усугубили проблему ограниченности «хороших» рабочих мест и стабильной занятости.
В этом контексте идеи нобелевского лауреата Амартии Сена о том, что социальная политика в конечном счёте должна способствовать расширению возможностей (capabilities) людей, становятся актуальными не только для бедных, но и для богатых стран[15]. Социально справедливое государство XXI века не просто перераспределяет ресурсы в пользу бедных, но создаёт условия, при которых снижаются риски потери занятости и дохода[16].
В европейских странах движение к этой модели социальной справедливости началось около двадцати лет назад. В настоящее время новая парадигма социальной политики получила название «государства благосостояния, основанного на социальных инвестициях» (social investment welfare state). В основе – представление о том, что программы, создающие возможности для трудоустройства и роста производительности труда, способствуют экономической устойчивости государства. Таким образом, социальное государство из бремени превращается в ресурс экономического развития.
Социальные государства, действующие в парадигме социальных инвестиций, развивают направления, позволяющие создавать и сохранять человеческий капитал – всеобщее здравоохранение, образование, программы образования и профессиональной подготовки на протяжении всей жизни. Наряду с этим они создают поддерживающие занятость инструменты в виде отпусков по уходу за детьми, развития дошкольного образования, создания системы долговременного ухода. В социальной защите они опираются на инструменты социального контракта, обусловливающего получение социальных выплат с трудоустройством. Получение пособий, хотя и увязанное с занятостью, не стигматизируется. Это не наказание, а поддержка благосостояния семей.
Приверженность парадигме социальных инвестиций объясняет реакцию европейских государств на пандемию. Центральный элемент их антикризисных программ связан с тем, чтобы, с одной стороны, поддержать доходы людей в период карантина, а с другой – максимально сохранить их возможности вернуться на прежние рабочие места по его завершению. Некоторые государства при этом рассматривают ещё и возможности предложить тем, кто всё-таки потеряет работу, перспективу переобучения.
И здесь мы возвращаемся к вопросу о том, где и в какой степени коронакризис способен стать источником появления новых взглядов на социальную политику и трансформации социальных государств. Большинство социальных последствий пандемии находятся в русле вызовов, ранее стоявших перед социальными государствами, но в какой-то мере делают их проявления ярче. Поэтому изменения, скорее всего, затронут прежде всего здравоохранение. В остальном они продолжат следовать концепции социальных инвестиций, уже доказавшей свою эффективность.
Для всех стран возможность использовать социальные программы в качестве ответа на чрезвычайный вызов пандемии – важный аргумент в пользу их сохранения, развития и шире – признания социальных функций государства важным инструментом решения экономических и политических проблем. И в этом видится значимое на глобальном уровне и в долгосрочной перспективе следствие пандемии.
Наибольшая неопределённость сохраняется в отношении будущих траекторий социального развития средних по доходу стран, включая Россию. Их бюджеты зачастую не позволяют им иметь такие универсальные по охвату и уровню выплат или качеству услуг программы, которые существуют в богатых странах. Значительные масштабы неформальной занятости тормозят создание или разрушают программы социального страхования. Но для преодоления ловушки среднего уровня развития именно этим странам нужны дополнительные усилия, направленные на повышение качества человеческого капитала, выравнивание возможностей широких слоёв населения, которое невозможно без снижения избыточного и неправомерного неравенства. Одним из наиболее успешных инструментов достижения этих целей выступает модель социальной политики, основанная на парадигме социального инвестирования. Однако по-прежнему открыт вопрос о том, насколько для руководителей и населения этой группы стран очевидно, что следование неолиберальной парадигме маленьких социальных государств и максимального перекладывания ответственности за формирование благосостояния на плечи граждан и их семей тормозит их будущее экономическое развитие и выступает фактором политической нестабильности. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы будущее государства стало основанием для критического отношения к неолиберальному шаблону, который по-настоящему выгоден только его создателям.
Прогрессивный национализм
Анатоль Ливен
Фундаментальная слабость Европейского союза в сравнении со странами – членами ЕС в том, что в глазах большинства европейцев он так и не добился настоящей легитимности, будучи квазигосударственным образованием.
Подробнее
СНОСКИ
[1] Lindbeck, A. (1986). Limits to the welfare state. Challenge, 28(6), 31–36. Offe, C. (1982). Some contradictions of the modern welfare state. Critical Social Policy, 2(5), 7–16.
[2] Gentilini, U., Almenfi, M., Orton, I., & Dale, P. (2020). Social Protection and Jobs Responses to COVID-19. [Электронный ресурс]. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33635
[3] Starke, P., Kaasch, A., Van Hooren, F., & Van Hooren, F. (2013). The welfare state as crisis manager: Explaining the diversity of policy responses to economic crisis. The Palgrave Macmillan.
[4] Verick, S., & Islam, I. (2010). The Great Recession of 2008-2009: Causes, consequences and policy responses (IZA Discussion Paper No. 4934). Bonn, Germany: Institute for the Study of Labor (IZA).
[5] Глобальный пакт о рабочих местах: согласованность политики и международная координация. Международное бюро труда. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_116834.pdf
[6] Verick, S., & Islam, I. (2010). The Great Recession of 2008-2009: Causes, consequences and policy responses (IZA Discussion Paper No. 4934). Bonn, Germany: Institute for the Study of Labor (IZA).
[7] Van Kersbergen, K., Vis, B., & Hemerijck, A. (2014). The Great Recession and Welfare State Reform: Is Retrenchment Really the Only Game Left in Town? Social Policy & Administration, 48(7), 883–904.
[8] Starke, P., Kaasch, A., Van Hooren, F., & Van Hooren, F. (2013). The welfare state as crisis manager: Explaining the diversity of policy responses to economic crisis. The Palgrave Macmillan.
[9] Hemerijck, A. (2020). Correlates of Capacitating Solidarity. Housing, Theory and Society, 1–11.
[10] Castles, F. G. (2010). Black swans and elephants on the move: the impact of emergencies on the welfare state. Journal of European Social Policy, 20(2), 91–101.
[11] Lucchese, M., & Pianta, M. (2020). The Coming Coronavirus Crisis: What Can We Learn? Intereconomics, 55, 98–104. Navarro, V. (2020). The Consequences of Neoliberalism in the Current Pandemic. International Journal of Health Services, Vol. 50(3), 271–275.
[12] Case, A., & Deaton, A. (2020). The Epidemic of Despair: Will America’s Mortality Crisis Spread to the Rest of the World. Foreign Aff., 99, 92. Deaton, A. (2003). Health, income, and inequality. National Bureau of Economic Research Reporter: Research Summary. Retrieved August, 15, 2009. Lynch, J. W., Smith, G. D., Kaplan, G. A., & House, J. S. (2000). Income inequality and mortality: importance to health of individual income, psychosocial environment, or material conditions. Bmj, 320(7243), 1200–1204.
[13] Chetty, R., Grusky, D., Hell, M., Hendren, N., Manduca, R., & Narang, J. (2017). The fading American dream: Trends in absolute income mobility since 1940. Science, 356(6336), 398–406. Mitnik, P. A., Cumberworth, E., & Grusky, D. B. (2016). Social mobility in a high-inequality regime. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 663(1), 140–184.
[14] Ролз, Д. (2010). Теория справедливости. ЛКИ.
[15] Сен, А. (2004). Развитие как свобода/Пер. с англ. под ред. и с послеслов. РМ Нуреева. М.: Новое Издательство.
[16] Hemerijck, A. (2020). Correlates of Capacitating Solidarity. Housing, Theory and Society, 1–11.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























