Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Мирное столкновение
США и КНР: за какой моделью будущее?
Резюме: В ближайшие годы, примерно до начала 2020-х, Китай будет стремительно и динамично догонять Соединенные Штаты, а затем наступит перелом. Опираясь на новейшие технологии и разработки, в следующем десятилетии США вместе с Японией и «тиграми» Юго-Восточной Азии могут вновь серьезно потеснить КНР.
Когда-то император Наполеон назвал Китай «спящим гигантом» и предупредил, что когда гигант проснется, то он потрясет мир. Похоже, что предсказание сбывается. В начале XXI века Китай всерьез претендует на роль «индустриальной мастерской мира», а Соединенные Штаты предлагают ему совместно управлять миром в рамках G2. И хотя Пекин отказывается от формата «Большой двойки», он постепенно усиливает свое экономическое и политическое влияние во многих странах.
В 2010 г. Китай располагал государственными облигациями США на сумму более чем 800 млрд долларов, являясь их крупнейшим кредитором, а недавно пообещал скупать государственные облигации Греции, Ирландии, Португалии и других проблемных стран ЕС. В мире все больше говорят и пишут о китайском вызове, о возможностях и перспективах китайской модели экономического и социально-политического развития. При этом оценки и прогнозы будущей роли Китая радикально расходятся. Одни авторы прочат ему через 10–20 лет статус самой мощной экономической и политической державы мира. Другие полагают, что Китай в 2020-е гг. (а возможно, и раньше) ожидают крупные социальные и политические потрясения, которые его серьезно ослабят.
Существует распространенная точка зрения, согласно которой Китай быстро эволюционирует в направлении либеральной демократии. Но даже если это так, китайская модель развития, основанная на конфуцианстве и уникальном трехтысячелетнем опыте государственного строительства, еще долгое время будет существенно отличаться от американской или европейской. И это затруднит взаимодействие между КНР и США, Китаем и Евросоюзом по некоторым важным вопросам. Следует также учитывать, что Соединенные Штаты и Китай принадлежат к двум разным цивилизациям – западной и дальневосточной (конфуцианской). У них разные традиции, ценности и институты. Однако процессы финансовой, экономической, информационной глобализации вынуждают воспринимать одни и те же технологии, технические инновации, формы организации финансов, производства и торговли. Кроме того, Китай, как и Америка, развивает рыночную экономику, а наличие преимущественно мусульманского Синьцзян-Уйгурского автономного района с его сепаратистскими тенденциями заставляет Пекин выступать против исламского фундаментализма и международного терроризма. Поэтому наиболее вероятным сценарием является не лобовое «столкновение цивилизаций» по Самюэлю Хантингтону, а их интенсивное взаимодействие, которое вовсе не исключает достаточно острой конкуренции и борьбы за сферы влияния и даже столкновения интересов Вашингтона и Пекина, которое уже проявляется в подходах ко многим политическим и экономическим проблемам. Тайвань, конфликт на Корейском полуострове, статус Тибета, иранская ядерная программа, отношения между Китаем и Индией, обменный курс юаня, свободный доступ иностранных фирм на китайский рынок, экспорт технологий и эмбарго на поставки оружия в целый ряд стран, программа КНР по строительству авианосцев, которая может нарушить монополию США на море... Список можно продолжить.
Старый завет Дэн Сяопина китайскому руководству «не высовываться» уже не работает. Важным фактором является также значительный рост военного бюджета Китая на протяжении последних 20 лет. В стране сформировался мощный военно-промышленный комплекс, который имеет собственные интересы и активно участвует в формировании внешней и внутренней политики.
Какая модель – американская или китайская – окажется в ближайшие десятилетия более динамичной, гибкой и в конечном счете более перспективной? От ответа на этот вопрос зависит многое, в том числе перспективы развития Европейского союза и России, их экономическая и внешнеполитическая ориентация. Попробуем подойти к ответу на этот вопрос по возможности непредвзято, научно и объективно, основываясь на фактах, а не на идеологических суждениях и ценностных предпочтениях. Прежде всего необходимо определить основные преимущества и недостатки каждой из моделей, взвесить их сильные и слабые стороны. В нашу задачу не входит детальный разбор американской и китайской моделей как таковых, нас интересует сопоставление их возможностей и оценка перспектив будущего развития.
Сильные и слабые стороны американской модели
В таблицах 1 и 2, а также на рисунке 1 приведены важнейшие макроэкономические показатели США и Китая в 2008 году. Очевидно, что пока Соединенные Штаты намного опережают КНР по размерам ВВП, хотя темпы роста ВВП Китая значительно превосходят темпы роста ВВП США на протяжении длительного периода времени. В то же время по размерам инвестиций Китай почти догнал США, а норма накопления в Китае значительно выше.
Таблица1. Важнейшие макроэкономические показатели США и Китая в 2008 г.

Подсчитано по The 2011 Statistical Abstract of the United States, China Statistical Yearbook 2009.
Таблица 2. Важнейшие инновационные и социально-экономические показатели США и Китая в 2008 г.
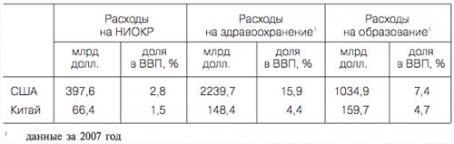
Подсчитано по The 2011 Statistical Abstract of the United States, China Statistical Yearbook 2009.
Рисунок 1. Темпы годового прироста ВВП США и Китая в 1990–2010 гг., %
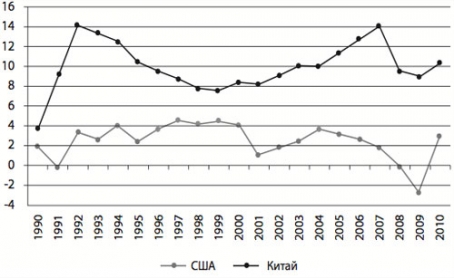
Подсчитано по The 2011 Statistical Abstract of the United States, China Statistical Yearbook 2009.
Значительный интерес представляют данные об уровне и распределении доходов среди различных групп населения (таблица 3). I дециль соответствует 10% населения с наиболее низкими доходами, а X дециль – 10% населения с наиболее высокими доходами. Приведенные данные показывают, что степень имущественного расслоения (соотношение X и I дециля) в США и в Китае примерно одинаковая, но при этом доходы самых богатых 10% населения КНР лишь ненамного превышают доходы самых бедных 10% населения США. Правда, при этом следует также учитывать уровень цен, который в Китае в целом заметно ниже, чем в США.
Как известно, после Второй мировой войны и особенно после распада Советского Союза в 1991 г. Соединенные Штаты являются мировым финансовым, экономическим, политическим и военным лидером. Как бы ни относиться к внешней и внутренней политике США, следует констатировать, что это положение страна в немалой степени занимает за счет универсализма, гибкости и высокого динамизма своей модели экономического и социально-политического развития. Универсализм проявляется уже в самом формировании американской нации как сообщества эмигрантов из множества стран. Благодаря этому Соединенные Штаты на протяжении многих лет эффективно используют опыт, способности и навыки людей из всех стран мира, разрабатывают и совершенствуют разнообразные технологии, социальные институты, законы, средства воздействия на сознание людей (взять хотя бы кинофильмы, производимые в Голливуде, или американское телевидение). Вместе с тем благодаря присущей Америке философии и практике прагматизма американцы проявляют гибкость и реагируют на многочисленные вызовы, быстро мобилизуя ресурсы для достижения определенных целей и объединяясь для противодействия возникающим угрозам. Стратегическими преимуществами США, которые обеспечивают им особое, исключительное положение, являются огромные вложения в образование, медицину, науку и в НИОКР (см. таблицу 2), сохраняющийся статус доллара как мировой резервной валюты, военная мощь (сейчас они значительно превосходят все остальные страны по силе своей армии и военно-морского флота). Важным элементом является развитая система политических и военных союзов, прежде всего НАТО.
Таблица 3. Распределение ежемесячных доходов на душу населения в 2008 г.по децилям (1), долл. (2)
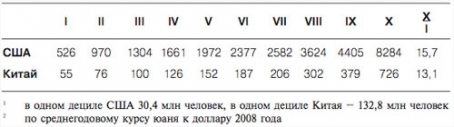
Подсчитано по World Development Indicators 2010.
Гибкость и динамизм американской модели проявились в том, что Соединенные Штаты успешно преодолели такие серьезнейшие испытания, как Гражданская война Севера и Юга 1861–1865 гг., мировой кризис и Великая депрессия 1930-х гг., Вторая мировая война, поражение во Вьетнаме и кризисная эпоха 1970-х годов. Во второй половине XX века во многом преодолен раскол американского общества по расовым и этническим признакам. Президент Барак Обама, несмотря на значительное сопротивление, пытается осуществить ряд новых важных реформ. Разумеется, из этого не следует, что США автоматически справятся с сегодняшними и будущими кризисными явлениями в экономике, социальной сфере, во внутренней и внешней политике. Это свидетельствует лишь о том, что американская экономическая и политическая система до сих пор обладала высокой способностью привлекать и мобилизовать ресурсы (прежде всего интеллектуальные и финансовые) для преодоления возникающих кризисов и потрясений.
В чем слабые стороны американской модели? Как это нередко бывает, некоторые недостатки являются продолжением достоинств. Открытое для эмигрантов из разных стран американское общество вынуждено бороться с массовой нелегальной иммиграцией, особенно из Мексики и других стран Латинской Америки. Вдоль границы с Мексикой пришлось даже построить «великую американскую стену». В результате массовой миграции из стран Латинской Америки и снижения рождаемости среди белого населения происходят значительные демографические, социальные и культурные изменения, которые быстро меняют структуру и идентичность американского общества. Другая проблема – соблазн преодолевать возникающие экономические трудности за счет различных манипуляций на финансовых рынках (например, за счет выпуска деривативов) и печатания долларов, такая тактика ведет к надуванию различного рода финансовых пузырей. На протяжении многих лет Америка гораздо больше импортирует, чем экспортирует, а возникающее отрицательное сальдо компенсирует за счет эмиссии долларов и привлечения капиталов со всего мира. Но вряд ли так может продолжаться до бесконечности: необходимость реформы финансовой системы и сокращения бюджетного дефицита США признают многие, в том числе президент Обама.
Однако более серьезной проблемой является размежевание, даже поляризация американского общества. При этом, как отмечают американские специалисты, линии разлома проходят не только по социальному или партийно-политическому признаку, но и по географическому (Север против Юга, центр против периферии). К тому же в последние годы политическая элита и более широкие слои общества разделены на радикальных неоконсерваторов («неоконов») и сторонников более умеренного и взвешенного курса. Массовое движение «чайников», телевизионные программы бывшего кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Сары Пейлин, растущее недовольство линией Барака Обамы служат тревожными признаками усиливающейся социально-политической поляризации. По мнению некоторых историков и социологов, подобные явления свидетельствуют о неоднократно наблюдавшихся в прошлом «перепроизводстве» элит и образовании враждующих элитных группировок, конкурирующих за власть и ресурсы.
Вместе с тем в истории страны подобные явления уже происходили, например, в 1920-е и в 1970-е годы. И каждый раз американская политическая и экономическая система менялась, но в целом оказывалась достаточно прочной. По-видимому, в течение 10–15 лет американская система в очередной раз изменится, но вряд ли произойдет ее крушение. Наиболее серьезные испытания ожидают социально-политическую систему в середине XXI века – где-то в 2040–2050-е гг., когда заметно изменится этнический состав нации и в мире произойдут значительные демографические, экономические и политические сдвиги.
Сильные и слабые стороны китайской модели
Китайская модель экономического и социально-политического развития имеет целый ряд крупных преимуществ. Это огромные ресурсы дешевой рабочей силы, высокие и относительно стабильные темпы роста (см. рисунок 1), хороший инвестиционный климат, наличие во многих странах китайской диаспоры (хуацяо), играющей значительную роль в экономической жизни азиатских стран, растущая и потенциально очень большая емкость внутреннего рынка с числом жителей около 1,3 млрд человек. Более того, с 1 января 2010 г. Китай участвует в зоне свободной торговли, охватывающей всю Восточную Азию, активно проникает на рынки США, ЕС, Латинской Америки, Австралии и Африки. Пекин расширяет свое экономическое присутствие и в странах СНГ, особенно в России (в 2010 г. Китай стал крупнейшим внешнеторговым партнером России, потеснив с первого места Германию) и в странах Центральной Азии. В частности, КНР осваивает природные богатства Восточной Сибири и российского Дальнего Востока, а также Казахстана и Туркмении.
Еще одним важным преимуществом Китая является наличие мощного государства, которое способно переживать самые драматические события, включая даже временный распад страны. В истории было множество ситуаций, когда единая империя распадалась на несколько враждующих друг с другом государств. Тем не менее затем единое государство восстанавливалось, причем его территория, как правило, увеличивалась. Происходило это во многом благодаря способности государства эффективно взаимодействовать с обществом и вместе с тем воспринимать важные нововведения, сохраняя при этом традиции и преемственность.
Следует, однако, учитывать, что современный Китай начал свое бурное экономическое развитие с весьма низкой отметки, и до сих пор уровень жизни большинства китайцев (а следовательно, и емкость внутреннего рынка) остается не слишком высокой (см. таблицу 3). В последние годы в этом отношении происходят сдвиги, формируется китайский средний класс, численность которого составляет, по некоторым оценкам, не менее 200–300 млн человек. Для Европы или Соединенных Штатов это очень много, но для КНР мало. В целом же Китай похож на велосипедиста, который крутит педали изо всех сил, но любая остановка или серьезное препятствие грозит падением.
Слабые стороны китайской модели обнаруживаются в недостаточной способности создавать принципиально новые технологии. Китайцы искусно копируют и успешно дорабатывают заимствованные технику и технологии, но сами пока не в состоянии создать действительно новые, оригинальные технологии. Это обстоятельство способно заставить КНР развиваться по пути «догоняющей модернизации» и повторить судьбу Японии. Как известно, Япония бурно развивалась в 1950–1970-е гг., но затем «споткнулась». Причиной пробуксовки японской экономики в 1990-е и 2000-е гг., наряду с другими факторами, стала недостаточная способность генерировать принципиально новые идеи, которые легли бы в основу разработки новых технологий и, соответственно, принципиально новых товаров и услуг. Одной из причин такого положения стала японская система воспитания, которая не терпит «выделяющихся» и не поощряет индивидуальное новаторство. Китай отчасти находится в таком же положении, хотя китайская система образования и воспитания проявляет большую гибкость, чем японская. КНР уже сейчас вкладывает огромные средства в науку, образование и НИОКР. Так, по расходам на НИОКР страна уже вышла на второе место в мире после США и поставила перед собой весьма амбициозные задачи. Можно сказать, что Китай предпринимает отчаянную попытку технологической модернизации за счет экономии на социальных расходах (в том числе пенсионных), которую не могут себе позволить развитые страны с высоким уровнем социальной защиты.
Кроме того, внутри самого Китая существуют значительные диспропорции в уровне доходов между различными слоями населения, между городом и деревней, а также между более развитыми восточными провинциями и менее развитыми западными. Политика ограничения рождаемости создала проблему значительной гендерной асимметрии. Хотя китайское государство осуществляет политику, направленную на ускоренное развитие наиболее отсталых провинций, разрыв в уровне жизни и в экономическом развитии продолжает сохраняться. Еще одной, пожалуй, наиболее серьезной и острой проблемой остается экологическая ситуация. Загрязнение атмосферы, которое вызывает рост болезней дыхательных путей, является в КНР самым значительным в мире. К этому добавляется загрязнение воды и почв. В последние годы регулярно происходят аварии на химических предприятиях, которые приводят к выбросу огромного количества вредных, токсичных для человека и животных веществ.
К тому же одна из главных проблем Китая в перспективе – сырьевые ресурсы. Чтобы обогнать Соединенные Штаты и обеспечить высокий уровень потребления хотя бы половине своего огромного населения, КНР могут потребоваться ресурсы всей планеты. Уже в первом пятилетии XXI века зависимость Китая от импорта составляла по железной руде и бокситам – 50%, по меди – 60%, по нефти – 34%. По ряду прогнозов, если не переломить существующие тенденции, в ближайшие 30 лет сырьевые и топливные потребности Китая в несколько раз превысят возможности собственного производства. Таким образом, дальнейший рост возможен только за счет природных ресурсов всего мира. Но выдержит ли это планета? И захотят ли все страны мира обеспечивать Китай своими ресурсами?
Перспективы США и Китая: наиболее вероятные сценарии
Итак, и американская, и китайская модели развития имеют свои сильные и слабые стороны. Каков будет баланс сил и какая модель окажется наиболее перспективной в ближайшие десятилетия? Как уже отмечалось в начале статьи, разные авторы, даже в самих Соединенных Штатах, по-разному отвечают на этот вопрос.
Во-первых, существует несколько возможных вариантов трансформации как американской, так и китайской модели. Во-вторых, само экономическое и политическое развитие двух стран в ближайшие десятилетия, скорее всего, будет неравномерным и нелинейным, включающим колебания и зигзаги. В результате на одном временном отрезке более динамично может развиваться одна модель, а на другом – вторая. В-третьих, и США, и Китай в разное время могут столкнуться с различными внутренними и внешними кризисами. Все это делает задачу определения перспектив американской и китайской модели весьма сложной.
Однако задача несколько упрощается, поскольку нас интересует не развитие Америки и Китая как таковых, а сравнительная динамика моделей. Иными словами, в данном случае важны не детали внутреннего развития Соединенных Штатов и КНР или отношений между ними, а то, какая из двух держав сможет более эффективно внедрить новейшие технологии, обеспечивающие мировое лидерство. В то же время весьма вероятно, что в ближайшие годы бурное экономическое развитие Китая почти наверняка продолжится, поскольку страна располагает достаточными людскими и материальными ресурсами. Кроме того, необходимо учесть, что период 2010–2020-х гг. имеет сходные черты с кризисным периодом 1970-х годов. А в такие времена развивающиеся экономики растут более динамично, чем развитые. Отсюда число наиболее вероятных сценариев резко уменьшается. Выбор остается всего лишь между двумя сценариями.
Суть первого сценария заключается в том, что в ближайшие десятилетия Китай, несмотря на отдельные экономические и социальные потрясения, в целом будет развиваться более высокими темпами, постепенно догоняя США по производству ВВП (но не по производству ВВП на душу населения и не по вложениям в науку, образование, медицину). В этом случае Соединенные Штаты вплоть до 2030–2040-х гг. сохранят свое финансовое, технологическое, политическое и военное лидерство, но будут вынуждены все больше считаться с растущей экономической и политической мощью Китая. Более того, в кризисный период 2008–2020 гг. США, вероятнее всего, будут в большей степени, чем Китай, испытывать финансовые и экономические трудности. Такая ситуация может подтолкнуть Пекин к широкой экономической и политической экспансии в различных регионах мира, прежде всего в стратегически важном для мировой экономики и политики регионе Восточной Азии. Однако после 2020 г. в результате внедрения новейших технологий Соединенные Штаты снова получат преимущество над Китаем, и их развитие станет более быстрым и динамичным. При этом КНР в 2020-х гг., а возможно и раньше, вероятно, столкнется с рядом внутренних социальных потрясений (некоторые признаки проявляются уже сейчас), которые способны ослабить его и несколько замедлить его развитие. США же серьезные социальные и демографические проблемы ожидают позже, где-то в 2040–2050-е годы.
Согласно второму сценарию, Америку уже в ближайшие десятилетия подстерегает целый ряд внутренних социальных и политических проблем, связанных с упомянутым выше «перепроизводством элит», а также с внутренними политическими расколами и размежеваниями. Это даст возможность Китаю конкурировать с Соединенными Штатами в области внедрения новейших технологий и даже превзойти их в отдельных важных отраслях. Более того, при определенных условиях США придется отчасти «поделиться» с Китаем своим мировым лидерством. В таком случае возможен новый вариант биполярного мира, но без холодной войны. Соединенные Штаты и КНР будут не только конкурировать, но и тесно взаимодействовать, сотрудничать во многих областях экономики, финансов и политики.
Если взвесить все рассмотренные сильные и слабые стороны американской и китайской модели, более вероятным все же представляется первый сценарий. Роль ключевых факторов здесь выполняют способность разрабатывать и внедрять принципиально новые технологии, а также широкая система экономических, политических и военных союзов. Преимущество США и в том и в другом случае очевидно. Однако еще раз обратим внимание, что в ближайшее десятилетие, т.е. примерно до 2020 г., Китай, скорее всего, будет развиваться более динамично. Это создает видимость того, что Китай догоняет и обгоняет Америку в экономике, политике и военной сфере. Иными словами, развитие двух стран в ближайшие десятилетия (до 2040-х гг.) будет нелинейным и неравномерным, то ускоряющимся, то замедляющимся. Это создаст трудности как для оценки перспектив мирового развития, так и для осуществления разными странами их политического и экономического курса.
Выводы для Европы и России
Таким образом, наиболее вероятным выглядит сценарий, согласно которому в ближайшие годы (примерно до начала 2020-х гг.) Китай, несмотря на отдельные социальные и экономические потрясения, будет стремительно и динамично догонять Соединенные Штаты, а затем наступит перелом. Опираясь на новейшие технологии и разработки, после 2020-х гг. США вместе с Японией и «тиграми» Юго-Восточной Азии могут вновь серьезно потеснить Китай, который к тому же, скорее всего, будет сталкиваться с целым рядом внутренних проблем, в том числе с социальными и экологическими кризисами.
Однако в любом случае в ближайшие годы и десятилетия страны Европейского союза и Россия вынуждены будут считаться с растущей финансовой, экономической и политической мощью Китая. При этом особенный напор Китая наиболее вероятен в период до начала 2020-х годов. В настоящее время Китай уже осваивает природные богатства России – в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Экономика Германии, ведущей страны ЕС, уже сейчас во многом зависит от заказов из Китая, китайские товары все больше завоевывают европейский рынок, а в недалеком будущем Китай, скупающий государственные облигации «неблагополучных» европейских стран, может стать фактическим кредитором объединенной Европы. Последствия такого «тихого» проникновения КНР в экономику Евросоюза и России пока трудно оценить в полной мере. Ясно лишь, что чрезмерная экономическая зависимость от Китая чревата деградацией многих предприятий и отраслей, а также утратой возможности принимать стратегические решения в сфере экономики и политики.
Кроме того, в перспективе (в начале 2020-х гг.) чрезмерная зависимость экономики европейских стран и России от Китая может привести к тому, что они будут испытывать негативные последствия социальных и экономических потрясений в самом Китае. Иными словами, не исключена ситуация, при котором ЕС и Россия, будучи привязанными к экономике Китая, окажутся не в состоянии в полной мере внедрить новейшие технологии, которые появятся в Соединенных Штатах или в других странах. Пока что это выглядит фантастикой, но мир быстро меняется, и то, что еще вчера казалось невероятным, сегодня становится реальностью.
Наиболее серьезным испытанием станет период до 2020 года. Прежний мировой порядок будет стремительно меняться благодаря переходу к новым технологиям, изменению ситуации на Большом Ближнем Востоке, крупным потрясениям в Азии, Африке и Латинской Америке, изменениям в международных экономических и политических институтах (в МВФ, Всемирном банке, НАТО, ООН и др.). Еще одним фактором станет сильный напор Китая и ряда других азиатских стран. В переходный период вероятны многочисленные вызовы. Это кризисные явления в зоне евро, нестабильная экономическая ситуация в России из-за колебания цен на энергоносители, дальнейшие революции и перевороты на Ближнем Востоке, дестабилизация в Центральной Азии, усугубление положения в Афганистане и Пакистане, рост исламского фундаментализма и международного терроризма, социальные конфликты в странах Африки и Латинской Америки.
Отсюда следует вывод: странам Европейского союза и России придется проявлять большую гибкость и высокий динамизм, адаптируясь к быстро меняющейся ситуации. Период 2012–2020 гг., скорее всего, станет ярко выраженной «эпохой турбулентности». Важную роль будет играть согласованность внешней политики ЕС и России, акцент не на взаимных претензиях и различиях в ценностях, а на общих интересах. Основная проблема заключается в том, что в условиях стремительного роста двух гигантов – США и Китая – объединенной Европе и России придется мобилизовать все силы и ресурсы для сохранения своих экономических и политических позиций в мире, обеспечения самостоятельного и стабильного развития. Достижение этой цели требует координации действий между европейскими странами, имеющими развитые технологии, и Россией, обладающей значительными природными ресурсами. С этой целью России и странам Евросоюза стоило бы создать специальные инструменты и институты, обеспечивающие более быстрое, согласованное и эффективное решение многочисленных экономических и политических проблем современной эпохи. К сожалению, и в России, и на уровне ЕС бюрократия часто работает не слишком быстро и эффективно. Поэтому необходимы новые формальные и неформальные каналы взаимодействия политических лидеров, государственных и надгосударственных институтов, а также бизнеса, научных структур и других неправительственных организаций. В противном случае все может потонуть в бюрократической волоките, мелких взаимных претензиях, а необходимые решения, как это неоднократно бывало в прошлом, не будут своевременно воплощаться в жизнь.
Александр Дынкин, Владимир Пантин
США, несмотря на возражения России, намерены защищать своих европейских партнеров, сообщила помощник министра обороны по глобальным стратегическим вопросам Мадлен Кридон, передает Bloomberg. Американские власти продолжают настаивать на том, что ПРО в Европе призвана защитить от возможной атаки Ирана.
"Мы продолжаем искать путь к тому, как развенчать все опасения России", - заявила Кридон. По ее словам, лучший способ решения проблем - это сотрудничество, а не конфронтация. Спецпосланник США по противоракетной обороне Эллен Тошер на совещании с Кридон отметил, что не видит серьезных препятствия для того, чтобы не договориться по установке ПРО в намеченные сроки.
В Москве также уверены, что Россия и США обязательно договорятся по проблематике противоракетной обороны. "На ПРО надо шире смотреть. Наша оценка ясна. Нам надо совместно определить угрозы. Мы отдаем должное Обаме, который в тех конкретных условиях, когда ее замышляли, ее пересмотрел. До 2018 года еще время есть. Уверен, что мы договоримся", - сообщил агентству РИА "Новости" источник в Кремле. Собеседник отметил, что легче всего будет договориться по ПРО с действующим президентом Бараком Обамой, но даже в случае победы на выборах в США другого кандидата, по его словам, "категориями холодной войны в любом случае думать не стоит"
Проблема ПРО остается одной из самых острых в отношениях между
Москвой и Вашингтоном. Несмотря на то, что Россия и НАТО договорились сотрудничать по проекту ЕвроПРО на саммите в Лиссабоне в 2010 году, переговоры зашли в тупик из-за отказа США предоставить юридические гарантии ненаправленности развертываемой системы против российских сил ядерного сдерживания. В ноябре прошлого года президент Дмитрий Медведев объявил о ряде военно-технических и дипломатических мер, которые Россия примет в ответ на развертывание ЕвроПРО. В апреле 2012 года глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков заявил, что в связи с планами США по развертыванию ПРО в Европе и активизации НАТО Россия вынуждена идти на дальнейшее сближение с Белоруссией.
Межконтинентальными баллистическими ракетами большой дальности и технологией их создания располагают лишь официально признанные ядерные державы, заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Игорь Сергун, передает РИА "Новости". Этими державами являются Китай, Франция, Россия, США и Великобритания - постоянные члены Совета Безопасности ООН.
Он отметил, что такие страны как Израиль, Индия, Иран, Северная Корея и Пакистан, "которые имеют развитые ракетные программы, претендуют на региональное лидерство и не входят в состав официальных ядерных держав", обладают ракетами только средней дальности.
Индия, тем временем, стоит на пути к продвижению ядерного потенциала. Так, в апреле 2012 года в стране были прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты дальностью 5 тысяч километров "Агни-5", которая вполне может долететь до Китая или Европы. Эта ракета является главным достижением "Комплексной программы разработки управляемых ракет" и считается ответом на угрозу, которая может возникнуть со стороны Китая. Более ранние модели "Агни" могли долететь до Западного Китая и Пакистана. В последние годы Индия укрепилась на мировом рынке в качестве крупнейшего импортера оружия и уже давно надеется на постоянное представительство в Совбезе ООН и, таким образом, зачисление в список официально признанных ядерных держав.
В том же месяце Северная Корея, также претендующая на это звание, провела испытания ракеты-носителя, которая, по заявлениям властей страны, должна была вывести на орбиту спутник. В то же время США, Южная Корея и Япония высказывали предположения, что под видом запуска ракеты-носителя Пхеньян проводил испытания баллистической ракеты. Результаты оказались для КНДР неудовлетворительными - через несколько минут после старта ракета упала в Тихий океан.
"Атомстройэкспорт" рассчитывает запустить иранскую АЭС "Бушер" на полную мощность 23 мая, сообщает РИА "Новости". Сейчас электростанция работает на 75% мощности.
Ранее был успешно выполнен подъем мощности ядерной паропроизводящей установки до 90% от номинальной, но потом мощность вновь снизили.
Все испытания перед вводом станции в эксплуатацию проводятся тщательно и с выполнением всех необходимых требований, подчеркнул вице-президент по сооружению АЭС в Иране и проектам ВВЭР-ТОИ ЗАО "Атомстройкэспорт" Владимир Павлов.
Российская компания достраивает АЭС за немецким концерном Kraftwerk Union A.G. (Siemens/KWU), который начал проект еще в 1974 году, но разорвал контракт из-за дипломатических разногласий между Тегераном и западными странами. Стройка россиянами фактически стартовала в 1998 году. В 2009-2010 годах прошли гидравлические испытания оборудования АЭС и испытания стальной защитной оболочки.
В декабре 2011 года министр энергетики Ирана Маджид Намджу обещал, что "Бушер", выйдя на плановую мощность, начнет выдавать в национальную электросеть тысячу мегаватт уже 20 марта 2012 года.
Обама взял в предвыборный штаб Бен Ладена
Президент США отчитался об афганских успехах
Игорь Крючков
Президент США Барак Обама совершил вчера неожиданный визит в Афганистан. Обама подписал со своим афганским коллегой Хамидом Карзаем соглашение о стратегическом партнерстве между США и Афганистаном. Не факт, что подписанное стратегическое соглашение будет ратифицировано. Однако можно сказать наверняка, что афганская поездка заставит американских избирателей вспомнить за полгода до президентских выборов успехи Обамы в деле борьбы с терроризмом.
Не объявленное заранее появление Обамы в Афганистане было эффектным. Помимо подписанного с Карзаем долгожданного соглашения, переговоры о котором шли 7 лет, президент США выступил с программной речью. В ней Обама объяснил, как он в принципе видит американскую миссию в Афганистане.
Визит состоялся в годовщину уничтожения главы «Аль-Каиды» Усамы Бен Ладена, который организовал нью-йоркские теракты 11 сентября 2001 года. Афганская кампания США началась как глобальный акт возмездия международным террористам за совершенное злодеяние.
«Мы прожили более чем десятилетие под мрачным облаком войны, — торжественно говорил Обама американским военнослужащим на базе в Баграме. — Но теперь в предрассветных афганских сумерках мы видим на горизонте свет нового дня».
По словам Обамы, его стремление вывести контингент США из Афганистана в 2014 году остается неизменным и твердым. Однако выводить солдат слишком рано было бы безответственным, считает президент США.
«Обама в этом смысле находится между двух огней. С одной стороны, вывода войск из Афганистана требуют и американский, и афганский народы. Кроме того, это развяжет США руки в конфликте с Ираном и ближневосточными режимами «арабской весны», — заявил «МН» директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. — С другой стороны, остаться в Афганистане на более долгий срок США вынуждают региональные политические проблемы. Не только внутри страны, но и в Пакистане, и Индии».
Стратегическое соглашение с Афганистаном открывало возможность для Вашингтона не сжигать мосты в этой стране после 2014 года, считает заведующий сектором Афганистана ИВ РАН Виктор Коргун. Документ позволит оставаться некоторым подразделениям ВС США на афганских базах после 2014 года. Виды и численность этих войск должны быть определены другими, еще не заключенными договорами.
«Подписанный текст стратегического соглашения до сих пор можно называть только проектом документа, — заявил Коргун в интервью «МН». — Дело в том, что теперь этот текст необходимо принять в афганском парламенте, и далеко не факт, что он его примет в нынешнем виде».
По словам эксперта, Карзай использует свое влияние в парламенте, чтобы ратифицировать соглашение. «Для ратификации в афганском парламенте есть большинство, но это большинство шаткое. Четких фракций нет, и каждый депутат может передумать в последний момент», — считает Коргун.
Владимир Евсеев считает, что расплывчатость текста подписанного соглашения подчеркивает, что нынешний афганский визит был важнее для Обамы в предвыборном смысле.
«Перед президентскими выборами в США Обаме нужно вселить уверенность в электорат. И видимость успехов на внешнеполитической арене сейчас очень важно для политика», — считает эксперт.
Предвыборный штаб Обамы сделал все, чтобы годовщина уничтожения Усамы Бен Ладена дала возможность американским СМИ поговорить об успехах нынешней администрации США на афганском направлении.
За неделю до визита Обамы в Афганистан в интернете появился ролик, рассказывающий о победе над «Аль-Каидой». Видео длиной 1,5 минуты убеждает зрителя, что Обама принял тяжелое и правильное решение, приказав спецназу высадиться 2 мая прошлого года в пакистанском военном городе Абботабад и штурмовать здание, где, по оперативным данным, скрывался Бен Ладен. Одна из важнейших боевых задач армии США — устранение террориста номер один — была выполнена, утверждают авторы видео.
Не каждый президент решился бы отдать такой приказ, вторит этой мысли бывший президент и демократ Билл Клинтон, который появляется в ролике. В конце агитационного видео появляются цитаты из прошлых речей Ромни, осуждающих политику Обамы на Ближнем Востоке, а также его призывы забыть о поисках Бен Ладена. Умение принимать решение — именно ради этого качества американцы выбирают своего президента, убеждает Билл Клинтон в финале ролика.
Видео вызвало противоречивые чувства среди американского электората. Часть СМИ, в том числе ряд либеральных, оценили ролик как слишком нескромный. Арианна Хаффингтон, владелец ведущего либерального интернет-издания Huffington Post, заявила, что президент не должен спекулировать своими полномочиями верховного главнокомандующего ВС США в ходе предвыборной кампании.
Республиканский национальный комитет, осуществляющий руководство партией на федеральном уровне, опубликовал в качестве официальной реакции на ролик заявление сенатора от штата Аризона Джона Маккейна. «Бараку Обаме должно быть стыдно за то, что он посмеялся над трагедией 11 сентября и уничтожением Усамы Бен Ладена, используя их как дешевую политическую агитку, — гласил текст. — Никто не сомневается, что президент заслуживает уважения за приказ начать операцию (по уничтожению Бен Ладена. — «МН»), но политизировать ее — это верх двуличности».
Впрочем, заявление Маккейна позволило СМИ обвинить в двуличности самих республиканцев. Так, интернет-блог Slate, принадлежащий изданию The Washington Post, вспомнил о том, что в 2004 году, когда Джорджу Бушу на президентских выборах в США противостоял демократ Джон Керри, республиканская администрация использовала тот же прием. Поводом была война не в Афганистане, а в Ираке, развязанная Бушем в 2003 году.
В среду в Кабуле министр торговли и промышленности Афганистана Анвар уль-Хак Ахади и посол Ирана Абольфазл Зохреванд подписали соглашение об использовании иранского порта Чабахар для транзита афганских товаров.
Стоит отметить, что Чабахар является единственным портом ИРИ, имеющим доступ к морю. Благодаря данной особенности Афганистан получит новые возможности развития внешнего рынка своих товаров, сообщает телеканал «Толо».
Как сообщил прессе Анвар уль-Хак Ахади, первая стадия выполнения соглашения предполагает создание неподалёку от порта перевалочного пункта для афганских товаров. Под строительство зданий выделена территория площадью 50 гектаров. Ожидается, что афганские предприниматели смогут использовать пункт в течение года.
«Результат данного соглашения не только благоприятно сказывается на отношениях между Афганистаном и Ираном, – отметил, в свою очередь, Абольфазл Зохреванд. – Мы также ожидаем, что это поспособствует сотрудничеству афганских и иранских предпринимателей в деле освоения рынков Среднего Востока и Азии».
Как отмечают афганские обозреватели, в последнее время в отношениях между Ираном и Афганистаном намечается потепление, что проявилось также в недавнем заключении соглашения об экстрадиции заключённых.
Генеральный директор компании Иранские железные дороги (ИЖД) Абдолали Сахеб Мохаммади во время встречи с послом Казахстана в Иране Багдадом Амреевым затронул вопрос о сотрудничестве между Ираном, Туркменистаном и Казахстаном в области строительства железной дороги Горган – Инче-Барун – Этрек – Берекет – Узень и заявил, что названная железная дорога послужит росту товарооборота между тремя странами, сообщает агентство «ИРИБ ньюз».
А.С.Мохаммади подчеркнул, что со строительством этой железной дороги через Иран пройдет маршрут для транзита грузов в Казахстан и Туркменистан.
Далее глава ИЖД выразил надежду на то, что железнодорожный участок Горган – Инче-Барун на территории Ирана будет открыт для движения поездов уже к сентябрю этого года.
Багдад Амреев в свою очередь сообщил, что в самое ближайшее время в Иран прибудет с визитом глава Казахстанских железных дорог с целью обсуждения вопросов дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами в области железнодорожного транспорта.
Строительство железной дороги Горган – Инче-Барун – Этрек – Берекет – Узень общей протяженностью в 928 км ведется при тесном взаимодействии между тремя странами, Ираном, Туркменистаном и Казахстаном.
Губернатор провинции Хорасане-Резави Махмуд Салахи на совещании с участием глав представительств Ирана в странах Западной Азии (Пакистан и Афганистан) заявил, что провинция готова активизировать торговлю с Пакистаном и Афганистаном, сообщает агентство «ИРИБ ньюз».
Губернатор подчеркнул необходимость укрепления связей со странами Западной Азии в области политики, экономики и культуры.
Махмуд Салахи заявил о том, что следует расширять экспортные поставки необходимых названным странам товаров из провинции Хорасане-Резави, а также увеличивать импорт товаров из этих стран.
По словам губернатора, в повестку дня необходимо также включить вопрос о возобновлении деятельности приграничного рынка Догарун и об организации транзитных и экспортных поставок.
Далее Махмуд Салахи отметил, что из мешхедского аэропорта «Хашеминежад» уже совершаются международные авиарейсы в 25 пунктов назначения по всему миру и необходимо организовать воздушное сообщение между Мешхедом и Гератом, Кандагаром и Кветтой.
Заместитель генерального директора компании Иранские железные дороги (ИЖД) по вопросам эксплуатации и организации движения Фулади заявил, что на текущий год запланировано перевезти железнодорожным транспортом 38,3 млн. т грузов, сообщает агентство «ИРИБ ньюз».
По словам Фулади, в случае выполнения поставленной задачи рост объема грузовых перевозок составит около 16% по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, в текущем году железнодорожным транспортом должно быть перевезено 33,6 млн. пассажиров.
Запланирована также реконструкция 9-ти железнодорожных станций и прокладка второй колеи на железнодорожных участках Тезердж – Бендер-Аббас (провинция Хормозган), Мохаммадие (провинция Казвин) – Доруд (провинция Луристан), Бафк – Йезд (провинция Йезд), Ардакан – Бадруд – Кашан – Мохаммадие.
Фулади сообщил, что в прошлом году движение примерно 33% грузовых составов осуществлялось по графику. В текущем году этот показатель запланировано довести до 60%. До сих пор во многих случаях из-за отсутствия грузов, нехватки локомотивов или занятости путей грузовые составы отправляются вне графика.
Планами ИЖД предусматривается реконструкция и ремонт железнодорожных путей, осуществление планового ремонта и обслуживания подвижного состава, строительство ограждений вдоль железнодорожных путей. Все это позволит повысить уровень безопасности и снизить аварийность на железных дорогах.
Генеральный директор компании Иранские железные дороги (ИЖД) Абдолали Сахеб Мохаммади заявил, что более 90% товарных и 50% пассажирских вагонов производится на отечественных предприятиях, сообщает агентство «ИРИБ ньюз».
Глава ИЖД подчеркнул, что отечественная промышленность обладает большим потенциалом и ей следует оказывать всяческую поддержку.
А.С.Мохаммади отметил, что в Иране впервые начал свою производственную деятельность специализированный завод по выпуску железнодорожных локомотивов, на котором применяются самые современные технологии, успешно освоенные иранскими специалистами.
По словам А.С.Мохаммади, в течение нескольких последних лет одна из важных целей ИЖД состояла и состоит в развитии национального производства. Выпуск железнодорожных локомотивов с национальным двигателем, новой железнодорожной техники, электрического оборудования и путевых и сигнальных знаков, а также экспорт инженерно-технических услуг в области железнодорожного транспорта – все наглядно свидетельствует о широких возможностях железнодорожной промышленности Ирана и о серьезных намерениях специалистов отрасли выйти на уровень самодостаточности и выполнить задачи, поставленные перед железнодорожным транспортом в программе перспективного развития страны.
Секретарь Ирано-Иракского Штаба экономического развития Хасан Каземи Куми в интервью агентству ИРНА после совещания по вопросам экспорта из провинции Илам через пограничный терминал Мехран заявил, что в прошлом году объем товарооборота между Ираном и Ираком составил 9,7 млрд. долларов и в текущем году этот показатель увеличится еще на 20%.
По словам Х.К.Куми, на текущий год объем торговли между двумя странами запланирован в размере 12 млрд. долларов, и около 3 млрд. долларов из названной суммы должен составить экспорт инженерно-технических услуг.
Х.К.Куми сообщил, что в прошлом году Иран и Ирак заключили соглашение о транспортных перевозках грузов и пассажиров, которое вступит в силу в самое ближайшее время. Благодаря этому соглашению повысится уровень безопасности перевозок, будет обеспечена сохранность грузов, снизятся транспортные расходы и сократятся сроки перевозки грузов и пассажиров.
Х.К.Куми отметил, что Ирак представляет собой выгодного партнера для Ирана с точки зрения формирования регионального сотрудничества. Между Ираном, Ираком и Сирией достигнуто соглашение, в соответствии с которым Иран будет поставлять через иракскую территорию свою продукцию в Сирию. Такое взаимодействие представляет собой хорошую возможность для создания экономических блоков и содружеств.
При поддержке со стороны иракского правительства, а также с улучшением ситуации в Ираке после вывода из этой страны иностранных войск и со стабилизацией политической обстановки со всей очевидностью проявляется тенденция дальнейшего сближения Ирака с Ираном, и в этих условиях Иран наверняка сможет добиться своих экономических целей.
Начальник порта Хорремшехр Адель Дерис на торжественном заседании в память о погибших сотрудниках Организации портов и мореходства страны, которое состоялось в конференц-зале пассажирского терминала «Халидже Фарс» главного управления портов и мореходства Хорремшехра, рассказывая о порте Хорремшехр, заявил, что это старейший и самый крупный иранский порт в северо-западной части Персидского залива, сообщает агентство «Фарс».
Названный порт располагается в торгово-промышленной свободной экономической зоне «Эрвенд» и находится в непосредственной близости от границы с Ираком.
У порта Хорремшехр имеются прочные торговые связи со странами Персидского залива. Одна из важных особенностей порта состоит в быстром доступе к железнодорожному и автомобильному транспорту, который используется для транзитных перевозок. Кроме того, поблизости располагается международный аэропорт Абадана. Все это позволяет с наименьшими расходами отправлять грузы в пункты назначения как в самом Иране, так и в странах Средней Азии, в Турции, России и Ираке.
С целью укрепления двусторонних связей и расширения сотрудничества Иран и Ливан подписали четыре меморандума и одно совместное заявление, сообщает агентство ИРНА.
Упомянутые меморандумы были подписаны министрами двух стран после совместного заседания высокопоставленных представителей Ирана и Ливана, а совместное заявление подписали первый вице-президент Ирана Мохаммед Реза Рахими и премьер-министр Ливана Наджиб Микати.
Затем в присутствии М.Р.Рахими и Н.Микати были подписаны меморандум о взаимопонимании по поводу сотрудничества в области промышленности, протокол о взаимном признании сертификатов соответствия, меморандум о взаимопонимании в области стандартизации, итоговый протокол заседания представителей министерств энергетики Ирана и Ливана.

Постсоветский интеграционный прорыв
Почему Таможенный союз имеет больше шансов, чем его предшественники
Е.Ю. Винокуров – доктор экономических наук, директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития.
А.М. Либман – доктор экономических наук, профессор международной политэкономии Франкфуртской школы финансов и менеджмента и старший научный сотрудник Института экономики РАН.
Резюме За несколько лет постсоветская интеграция из преимущественно бумажного проекта и набора риторических конструкций превратилась в реальный фактор, влияющий на экономическое развитие. Однако дальнейшие перспективы не предопределены.
После распада СССР прошло два десятилетия, за которые между бывшими союзными республиками подписано огромное число соглашений, договоров и инициатив. Все они, однако, продемонстрировали неспособность «постсоветской интеграции» обеспечить реальное сотрудничество государств региона. Факт достаточно очевидный всем и в первую очередь самим участникам процесса. Тем более неожиданным для сторонних наблюдателей стало кардинальное изменение ситуации в последние три года. Таможенный союз (ТС) России, Белоруссии и Казахстана, запущенный в 2010 г., стал первой интеграционной группировкой, в рамках которой партнеры выполняют взятые на себя обязательства, не считаясь со значительными затратами. Намерение создать Евразийский экономический союз к 2015 г., обнародованное в ноябре прошлого года, представляется намного более реалистичным, чем большинство подобных постановлений, принятых ранее. Что изменилось на постсоветском пространстве, чтобы подобные проекты стали осуществимыми? Стоит ли рассчитывать на устойчивость новых инициатив? И, с другой стороны, достаточны ли их цели в контексте проблем, стоящих перед постсоветскими странами, и возможностей экономического развития, которыми грех не воспользоваться?
На пути к реальной интеграции
Прежде всего кратко напомним хронологию появления нового поколения интеграционных структур на постсоветском пространстве. Первые призывы к бЧльшему «прагматизму» в сфере интеграции и отказу от нереалистичной риторики прозвучали еще в начале 2000-х годов. Тем не менее вплоть до недавнего времени настоящее сотрудничество наблюдалось лишь в отдельных областях, где нужно решать вопросы общей инфраструктуры, созданной еще в советский период – например, железнодорожных путей или электроэнергетики. Попытки вдохнуть жизнь в существующие структуры сопровождались лишь ростом противоречий. Первыми ласточками изменений можно считать две организации, созданные в 2006 г. – Евразийский банк развития (ЕАБР) и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ. В отличие от предыдущих инициатив, целью новых стала поддержка конкретных проектов (либо в вопросах развития инфраструктуры и экономики, как банк, либо в начинаниях в сфере культуры и образования, как фонд), а не общие нормы и координация политики. Четкая ориентация на конкретные прикладные задачи сотрудничества позволила избежать превращения этих организаций в очередные бумажные структуры.
Однако подлинный прорыв принесло, казалось бы, неожиданное обстоятельство – мировой экономический кризис 2007–2009 годов. Вместо того чтобы принимать все более жесткие односторонние протекционистские меры (как это нередко бывает в условиях глобальных потрясений), постсоветские государства, напротив, попытались наладить более эффективное сотрудничество. Крупным решением, напрямую связанным с кризисом, стало создание в 2009 г. Антикризисного фонда ЕврАзЭС с капиталом в 8,513 млрд долларов. На фонд возложена двойная функция: во-первых, предоставлять стабилизационные кредиты, исполняя функции своего рода «регионального МВФ», компенсировать дефициты платежного баланса и бюджета, а также поддерживать национальную валюту, и, во-вторых, укреплять региональное сотрудничество в качестве кредитора крупных инвестиционных проектов. На данный момент займы фонда предоставлены Таджикистану и Белоруссии. Постсоветская интеграция стала финансово привлекательной, по крайней мере для некоторых стран.
В 2010 г., как упомянуто выше, вступил в силу ТС – самое впечатляющее на сегодняшний день достижение постсоветской интеграции. Главные элементы – это общие пошлины по отношению к третьим странам и общий таможенный кодекс, регулирующий большинство торговых вопросов стран-участниц. Таможенный союз действует по схеме пропорционального голосования, но до сих пор все решения принимались на основе консенсуса. Участникам пришлось внести серьезные изменения во внешнеэкономическое регулирование. Казахстан, например, повысил 45% таможенных тарифов и снизил 10%. Помимо отношений с третьими странами, ТС повысил возможности и для взаимодействия между странами-участницами, причем не только в сфере торговли: в приграничных районах некоторые российские компании рассматривают вариант перехода под юрисдикцию Казахстана с более низким налоговым бременем.
Однако еще больший эффект от либерализации инвестиционных потоков можно ожидать в связи с вступлением в силу с 1 января 2012 г. пакета соглашений о Едином экономическом пространстве (ЕЭП). В настоящий момент ЕЭП уже включает 17 соглашений, еще 55 находятся в стадии подготовки. Они касаются свободы передвижения капитала и труда, общей политики конкуренции (включая естественные монополии, закупки и субсидии), координирования макроэкономической политики, торговли услугами, технических стандартов, а также доступа к газо- и нефтепроводам, электросетям и железнодорожным сетям. Для координации ЕЭП в феврале 2012 г. создана Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – наднациональный орган с широкими полномочиями. Интересно, что «нижняя палата» ЕЭК – коллегия – построена по образцу комиссии ЕС и состоит из чиновников, отвечающих за конкретные функциональные направления интеграции, а не выступающих исключительно в роли представителей своих стран. К последующим мерам, направленным на создание Евразийского экономического союза, относятся, к примеру, утверждение с 2013 г. единого железнодорожного тарифа на грузы и национальный режим государственных закупок для всех компаний трех стран-участниц, начиная с 2014 года.
«Интеграция снизу» и глобальный кризис
Успех ТС и ЕЭП представляется тем более неожиданным, что он, казалось бы, противоречит логике развития постсоветского пространства. Двадцать лет назад бывшие республики СССР были гораздо более тесно связаны между собой с экономической точки зрения – а их интеграция (в том числе и в форме рублевой зоны) полностью провалилась. Достижения постсоветской интеграции последних лет, вероятно, связаны с двумя обстоятельствами – ростом реальной интеграции «снизу» в 2000-е гг. и глобальным экономическим кризисом.
Во-первых, описывать все двадцатилетие после распада СССР как период постоянно углубляющейся фрагментации было бы некорректно. Действительно, многие старые «советские» связи оказались разорваны – однако с начала 2000-х гг. им на смену пришли новые формы взаимозависимости. Экономический рост России и Казахстана с 1999–2000 гг. резко увеличил аппетиты нарождающихся транснациональных корпораций этих стран, приступивших к интенсивному освоению постсоветского пространства. Уже сегодня российский бизнес, например, доминирует в сфере мобильной сотовой связи в большинстве стран СНГ; российские компании играют важную роль и во многих других отраслях. Казахстан являлся лидером в инвестициях в банковском секторе стран СНГ до 2008 года. Другая форма новой взаимозависимости – трудовая миграция. Если в 1990-е гг. миграционные потоки в СНГ носили преимущественно характер постоянного переселения и были связаны, например, с оттоком русскоязычного населения из новых независимых государств, то в последнее десятилетие наблюдался экспоненциальный рост временной миграции, основанной на преимущественно экономических факторах. В результате денежные переводы трудовых мигрантов стали в некоторых странах СНГ основой экономического роста. В России же трудовые мигранты производят, по оценкам экспертов, около 6% ВВП страны.
Представление о безусловном росте взаимозависимости постсоветских стран было бы, конечно, тоже большим упрощением. Процессы регионализации по-разному проявляются в различных сферах взаимодействия (они, например, гораздо менее затратны в сфере взаимной торговли) и в неравной степени затрагивают разные страны. По оценкам Системы индикаторов евразийской интеграции ЕАБР – набора показателей, характеризующих экономическую взаимозависимость постсоветских стран за последнее десятилетие – можно говорить о формировании своеобразного интеграционного ядра России, Белоруссии и Казахстана уже с 2004–2005 гг., «интеграция снизу» шла быстрыми темами. Возможно, создание ТС во многом и стало следствием роста взаимосвязей в пределах этого ядра.
Во-вторых, то обстоятельство, что ТС и ЕЭП возникли вскоре после того как постсоветское пространство накрыла волна глобального кризиса – больше чем совпадение. Логика регионализма здесь в корне отличается от «стандартной», хорошо изученной в мировой литературе. Как правило, стартовой площадкой интеграции служит существование нескольких обособленных в экономическом плане стран, для которых интеграционные процессы, как минимум в краткосрочной перспективе, связаны со значительными издержками: региональная интеграция требует изменений в законодательстве и адаптации к новым стандартам, она сопровождается ростом конкуренции. Неудивительно, что политики скорее склонны поддерживать региональную интеграцию в более благополучные периоды (когда эти издержки не столь заметны) и в гораздо меньшей степени склонны затевать интеграционные проекты в момент кризиса – достаточно вспомнить период стагнации в развитии европейской интеграции в 1970-е годы.
На постсоветском пространстве ситуация противоположная. Между странами сохраняется взаимозависимость, унаследованная от советского периода. Поэтому выбор дезинтеграционного курса, для чего требуется создание новых отраслей промышленности и поиск других способов интеграции в глобальное разделение труда, зачастую обходится дороже. Поэтому именно в периоды кризисов региональная интеграция представляется более приемлемой альтернативой – в «тучные годы» страны, напротив, могут экспериментировать с различными вариантами политики автаркии или с поиском новых партнеров. Иначе говоря, шок от глобальной нестабильности (нанесший болезненный удар и по Казахстану, первым на постсоветском пространстве ощутившему волну кризиса уже в 2007 г., и по Белоруссии, двумя годами позже вынужденной пойти на масштабную девальвацию своей валюты, и по России) сблизил постсоветские страны.
Проблемы и противоречия
Реальная ситуация, конечно, не столь безоблачна. ЕЭП и ТС сталкиваются с рядом серьезных проблем, решение которых и определит будущее этих организаций. В краткосрочной перспективе главные сложности носят технический характер. Нормы таможенного кодекса ТС нередко, хотя и лишь отчасти, противоречат нормам национального законодательства, далеко не всегда отработан порядок их правоприменения. Для ЕЭП механизмы реализации базовых соглашений еще только предстоит создать. Подобного рода проблемы неизбежны при осуществлении столь крупных проектов, но способны оказаться фатальными, особенно в условиях неэффективной бюрократии, делая интеграционную структуру непривлекательной для бизнес-структур. Необходимо отметить, что комиссия ТС приняла целый ряд важных мер, призванных исправить положение дел в этой области.
Трудности связаны прежде всего с дисбалансом преимуществ и издержек между странами ЕЭП. Для Казахстана и Белоруссии ТС предполагает значительное увеличение пошлин на импорт, и как следствие – рост цен и искажение структуры торговых связей. Для России неясно, например, каким образом фитосанитарные стандарты, принятые властями отдельных стран, будут реализовываться и контролироваться на территории ТС. В принципе, по существующим оценкам (а на сегодняшний день крупные исследования, посвященные ТС и ЕЭП, опубликованы Всемирным банком и Центром интеграционных исследований ЕАБР), новые интеграционные структуры способны содействовать росту своих членов за счет большей емкости внутреннего рынка и интенсивной конкуренции, но лишь при реализации ряда условий, и в первую очередь устранении нетарифных барьеров. Пока что процесс установления общих технических и фитосанитарных норм на территории ТС идет медленно.
В среднесрочной перспективе перед ЕЭП встает хорошо известная по европейскому опыту дилемма «расширения или углубления». Одна из причин успеха ТС заключается в том, что, в отличие от предыдущих проектов региональной интеграции с нереалистичными амбициозными программами, Таможенный союз сосредоточился на четко очерченной и достаточно узкой цели. При этом членство в ТС намного более однородно, чем во многих других региональных соглашениях бывшего Советского Союза, и в данном конкретном случае круг участников подобран удачно (в отличие от других проектов). Способен ли союз «тройки» выйти за пределы первоначальной повестки дня? Вступление в силу пакета соглашений ЕЭП показывает, что да. Но тут же правомерен следующий вопрос: не представляет ли столь быстрое движение всего за два года (переход от формата ТС с не полностью еще разрешенными техническими проблемами к ЕЭП) значительный риск с точки зрения перспектив углубления интеграции? Неудачи способны подорвать доверие к ЕЭП со стороны населения и бизнеса, а государственный аппарат может попросту не справиться с заданным темпом. Однако особенность постсоветского пространства (в отличие, скажем, от европейского опыта) состоит в том, что взаимосвязи в области движения факторов производства (для стран ТС речь идет о капитале, а для других стран СНГ и ТС – рабочей силе) развиваются гораздо более динамично, чем в сфере торговли. С этой точки зрения останавливаться на формате ТС нецелесообразно – он лишь косвенно затрагивает взаимодействие в областях, где «интеграция снизу» идет действительно интенсивно. Парадоксальным образом в постсоветском мире (как, возможно, и в ряде других группировок развивающихся стран) реального успеха может добиться лишь достаточно глубокая форма интеграции.
Вопрос расширения ТС в настоящее время активно обсуждается в первую очередь в связи с двумя странами: Украиной и Киргизией. Членство Украины в ЕЭП – вопрос довольно проблематичный, несмотря на все усилия «тройки» (особенно России) и тесные экономические связи. Вхождение Украины в ЕЭП с последующим технологическим сближением, по экспертным оценкам, обеспечит в долгосрочной перспективе положительный эффект до 6% ВВП (таков результат совместного проекта ЕАБР с Институтом народно-хозяйственного прогнозирования РАН и Институтом экономической политики НАНУ). Однако чрезвычайно сильны политические факторы, препятствующие интеграции. Даже такой нейтральный и не требующий принципиального выбора вопрос, как вступление Украины в акционеры ЕАБР, пробуксовывает, несмотря на очевидные выгоды для Киева.
Что касается Киргизии, то вхождение в состав ЕЭП и ТС весьма вероятно, что, впрочем, связано с уязвимым экономическим положением страны. Киргизская экономика в последние годы росла прежде всего за счет превращения в перевалочную базу реэкспорта китайских потребительских товаров в страны СНГ и Центральной Азии, что стало возможным по причине крайне либерального внешнеторгового регулирования. Оказавшись вне пределов ТС, Бишкек больше не в состоянии обеспечивать эту роль в связи с ростом таможенных барьеров на границе с Казахстаном, куда и направляются китайские товары; вступив в Таможенный союз, Киргизия будет вынуждена ужесточить свой внешнеторговый режим, что также частично закроет «окно» для торговли с Китаем. Расчеты разных коллективов (Центр интеграционных исследований ЕАБР, НИСИ Кыргызстана) показывают, что баланс преимуществ и недостатков – в пользу вступления в Таможенный союз. Еще одной проблемой является членство Киргизии в ВТО: вступление в ТС предусматривает повышение тарифов, причем некоторых из них – до уровня, противоречащего требованиям ВТО. Безусловно, ожидаемое вступление России и Казахстана в эту организацию облегчит решение данной проблемы.
В долгосрочной перспективе, наконец, существует ряд факторов, сдерживающих развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве, с которыми раньше или позже придется столкнуться и Евразийскому экономическому союзу. Во-первых, доминирование ресурсного сектора в экономике двух из трех государств ЕЭП делает ограниченной отдачу от интеграционного взаимодействия – ключевые нефтегазовые отрасли России и Казахстана все равно ориентированы на внешние рынки. Следовательно, успех интеграции требует диверсификации экономики и сокращения сырьевой зависимости – задача, примеров успешного решения которой в мире практически нет. Во-вторых, прогресс постсоветской интеграции зависит и от успехов в области модернизации институтов и общества постсоветских стран – еще одна крайне сложная задача.
От постсоветской к евразийской интеграции
Проблемы, однако, не ограничиваются взаимодействием, собственно, постсоветских стран, они затрагивают и характер их отношений с остальным миром. Для многих (в том числе и для России) ЕС является более важным торговым партнером, чем ближайшие соседи. В Центральной Азии, а в последние годы – в Белоруссии и Украине медленно, но верно растет роль Китая как источника инвестиций и займов. И игроки, и наблюдатели, похоже, едины в том, что постсоветская интеграция и европейский интеграционный вектор принципиально несовместимы, и страны Восточной Европы – Украина, Белоруссия, Молдавия – должны сделать однозначный выбор в пользу того или иного направления. Мы вправе усомниться, насколько такое представление соответствует действительности, но пока оно доминирует и оказывает ярко выраженное негативное воздействие на динамику интеграции в Северной Евразии. Поэтому особенно важно еще раз подчеркнуть – потенциал интеграционных проектов на постсоветском пространстве сможет полностью реализоваться, только если они будут осуществлены как часть более широкой трансконтинентальной интеграции с участием внешних игроков.
Прежде всего это касается инфраструктурных сетей. Географическое положение постсоветских стран между Европой и Азией позволяет государствам СНГ извлекать большую выгоду из своего транспортного потенциала – но только если он увязан с трансграничными транспортными проектами, реализуемыми в других частях Евразии, например, Евросоюзом или Азиатским банком развития. В области электроэнергии общий рынок бывшего Советского Союза, главным образом унаследованный от объединенных энергосистем СССР, был бы более эффективен, будь он замкнут и на энергетические рынки других стран, например, ЕС, Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана и Китая. Точно так же преимущества открытых границ с внешними игроками относятся к торговле и инвестициям, где подобный «открытый регионализм» позволяет избежать конфликтов между интеграционными проектами. Вообще при конструировании новых интеграционных проектов необязательно жестко следовать границам бывшего СССР – напротив, нет ничего более естественного, чем поиск новых партнеров за их пределами, особенно в Европе и Восточной Азии.
Способ организации взаимодействия с внешними игроками различается на западном и восточном флангах постсоветского пространства. На западе приоритетом можно считать структурирование Евразийского экономического союза таким образом, чтобы участие в нем совмещалось с сотрудничеством с ЕС. Например, унификация стандартов, технических и фитосанитарных норм. Конечно, речь идет не об одномоментном решении. Унификация связана со значительными издержками, но оптимальный вариант развития – это принципиальный поиск решений, совместимых с европейскими. В торговой сфере это, вероятно, углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (DCFTA) ТС и ЕС, учитывающая не только торговые аспекты как таковые, но и единые стандарты, защиту инвестиций, вопросы миграции и визового режима. Говорить о таком сценарии можно и нужно, даже если сегодня он сложнореализуем. В условиях кризиса модели объединения Евросоюз может стать более автаркичным, понадобится время на то, чтобы решить внутренние проблемы фискальной интеграции.
В Азии ситуация, казалось бы, несколько проще – интеграционные проекты носят более гибкий характер и затрагивают ограниченный круг вопросов, так что конкуренция интеграционных инициатив отсутствует, и вовлечение игроков во взаимодействие с постсоветской интеграционной группировкой связано с меньшими институциональными сложностями. Но и здесь немало проблем.
Во-первых, крайне важно избежать превращения постсоветских соглашений в гигантские структуры, включающие огромное количество часто несовместимых игроков – стоит вспомнить опыт АТЭС, оказавшегося жертвой собственного успеха (последовательное применение принципа открытого регионализма привело к росту числа членов организации и их разнородности и в конечном счете значительно снизило дееспособность организации). Во-вторых, и в Азии заметен дефицит доверия – тот же Китай вызывает немалые опасения у элит и населения постсоветских стран (хотя порой это скорее результат мифотворчества, а не реальных рисков). Поэтому в идеале взаимодействие Евразийского экономического союза с азиатскими странами могло бы опираться на ряд комплексных двусторонних зон свободной торговли (желательно включая дополнительные соглашения по безвизовому перемещению и миграции рабочей силы), а также на «функциональные» проекты по эффективному объединению транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктур.
* * *
За несколько лет постсоветская интеграция из преимущественно бумажного проекта и набора риторических конструкций, к которым отдельные страны прибегали для нужд внутренней политики, превратилась в реальный фактор, влияющий на экономическое развитие. Однако дальнейшие перспективы не предопределены. С одной стороны, именно текущий формат, сосредоточенный на небольшой группе стран и преследующий конкретную цель (торгово-экономическое сближение), стал основой успеха ТС. С другой стороны, действительно крупного успеха можно добиться, только переступив через нынешние границы – как географические, например, за счет углубления взаимодействия с Китаем и Европейским союзом, так и функциональные – охватив вопросы движения факторов производства, обеспечив единые правила игры (техническое регулирование, доступ к услугам монополий) и гарантировав координацию макроэкономической политики. Наконец, постсоветский регионализм ни в коем случае не является альтернативой глобальной интеграции, например, в рамках Всемирной торговой организации (как порой утверждается). Преимущества от членства в ВТО для стран ЕЭП значительны, поэтому региональный проект должен рассматриваться как процесс, параллельный с глобальной экономической интеграцией.

Новое Средневековье
Как способы управления миром отстают от реальности
Резюме: Наступающее новое Средневековье вовсе не должно считаться постоянным чистилищем неопределенности – как ни странно, но во многих отношениях оно вселяет надежду, что наше нынешнее положение может разрешиться Возрождением, а не мировой войной.
Данная статья представляет собой выдержку из книги «Как управлять миром», выходящей в издательстве АСТ, которое любезно предоставило нам текст. Публикуется в журнальной редакции.
Дипломатия XXI века начинает напоминать ту, что господствовала в Средневековье: в сферу ее интересов входят и нарождающиеся державы, и многонациональные корпорации, и влиятельные семьи, и гуманисты, и религиозные радикалы, и университеты, и наемники. Успех в этом новом мире мегадипломатии зависит от того, сумеют ли ключевые игроки – правительства, бизнес и организации – объединиться в коалиции и оперативно направить глобальные ресурсы на решение локальных проблем. Это вовсе не «дедовская» дипломатия, и нынешнее «поколение Y» интуитивно чувствует перемены.
Дипломатия умерла! Да здравствует дипломатия!
Не реже чем раз в столетие человечество погружается в пучину войны, после которой пытается установить прочный мир. К счастью, холодная война закончилась без ядерной катастрофы, но образовавшийся в два последних десятилетия вакуум должен смениться новой мировой системой, отражающей быстро меняющиеся реальности в сфере власти и влияния. Если в XIX веке миром правили несколько ведущих держав, следивших за порядком в своих колониях, то в XX этим занимались блоки. Однако в нынешнем столетии веке осуществлять контроль над мировым порядком «сверху» уже не получится.
Прошедшее десятилетие, начавшееся террористическим актом в США 11 сентября 2001 г. и завершившееся мировым финансовым кризисом, показало хрупкость взаимозависимого мира и неизбежность катастрофы при сохранении внешнего лидерства. Многие опасаются разрушения существующего мирового порядка, но разве не более пугает то, что он уже несколько лет как не существует? Именно наши времена имел в виду Карл Поппер, говоря, что уничтожение существующего мироустройства и создание нового с нуля может привести к появлению более работоспособной системы. А по словам Генри Киссинджера: «Новый мировой порядок не устанавливается как чрезвычайная мера. Но для появления нового мирового порядка нужны чрезвычайные обстоятельства».
Насколько плохо обстоят дела? Сегодня державы, которым надлежит поддерживать мир, продают основную массу оружия. Банки, вместо того чтобы стимулировать накопления, поощряют жизнь не по средствам. Пищу доставляют голодающим после их смерти. Мы безудержно мчимся к катастрофам энергопотребления, демографического взрыва, нехватки воды и продовольствия, которые не пощадят ни бедных, ни богатых. Постоянно растущий перечень кризисов включает финансовую нестабильность, СПИД, терроризм, крах государств и многое другое. Любой из кризисов способен спровоцировать обострение другого, создавая нисходящую спираль для отдельных наций и регионов. Не исключено, что в предстоящие 20 лет мы столкнемся с перерастанием имеющихся разногласий в полномасштабную войну между Америкой и Китаем, с крушением слабых государств, с обострением конфликтов из-за морских месторождений газа и нефти, с потоком беженцев, гонимых из Центральной Африки засухой и голодом, и с уходом под воду тихоокеанских островов.
Глобализация ввергла нас в эру хаоса, а ведущие державы и институты только делают вид, что способны преодолеть его. Американцы верят, что могут возглавить «многопартнерский» мир; европейцы считают, что укротят мир «гражданской силой»; Китай стремится скупить его на корню; большинство других государств желают иметь статус, но не хотят никакой ответственности, а ООН упоминается все реже и реже. Идея оси «Большой двойки» между Соединенными Штатами и Китаем – последнее по времени заблуждение относительно возможности установления простого глобального мироустройства. Она совершенно не учитывает тот факт, что эти державы не в силах договориться относительно валюты, цензуры, воздействия на климат и многих других вопросов. К тому же немногие страны – если таковые вообще найдутся – желают следовать воле Америки или Китая.
Нет никаких сомнений в том, что для противостояния вызовам необходима глобальная перестройка, причем новая конструкция должна не просто реагировать на кризисы, но и решительно их предотвращать. Однако сегодня глобальная политика зашла в тупик: Запад настаивает на вмешательстве во внутренние дела других государств под флагом защиты прав человека; Восток предпочитает суверенитет и невмешательство; Север напуган терроризмом и распространением ядерного оружия; Юг нуждается в продовольственной безопасности и справедливой торговле. Для стран, чье богатство основано на капитале, самое главное – биржевые курсы, а для стран, богатых ресурсами, – товарные цены. Американцы настороженно относятся к китайским компаниям, принадлежащим государству, а китайцы не менее настороженно – к американским регуляторам. Судя по всему, выработка нового консенсуса представляется сейчас столь же далекой перспективой, что и раньше.
В 2004 г. британский историк Энтони Сэмпсон опубликовал восторженно встреченную книгу «Кто здесь правит?». Он задался простым вопросом: «Кто подотчетен кому, и в каких вопросах?». В книге приведены нарисованные им от руки диаграммы Венна, описывающие «Истеблишмент». На них круги власти, накладывающиеся друг на друга, демонстрируют взаимодействие весьма сомнительной общественной ценности. Субъекты власти представлены премьер-министром, бухгалтерами, пенсионными фондами, монархией, корпорациями, лоббистами, богачами, аристократией, дипломатами, разведкой, казначейством, парламентом, научным сообществом, церковью, политическими партиями, адвокатами, военными, страховщиками, телевидением, издателями, профсоюзами… И это только в одной Великобритании.
Сэмпсона тревожила судьба британской демократии, но в международных отношениях такого понятия не существует. Сегодня мы имеем дело с постоянной борьбой за власть и легитимность между различными режимами, компаниями, неправительственными организациями (НПО), религиозными группами и сверхвлиятельными людьми – все они преследуют собственные интересы и ведут борьбу без правил. Объединенные общими интересами группы – вовсе не диковинная часть некоей «реал-политик», а самая что ни на есть политика.
Как ни удивительно, но именно тщеславие часто мешает осознать эту реальность. Поскольку такие проблемы, как «климат» и «экономика», носят системный характер, мы часто ищем ответ в высокопарных и тривиальных фразах типа «Америка должна взять на себя инициативу» или «повысить роль ООН». Однако нет ни одной нации, и нет ни одной организации, способной править миром. Некоторые эксперты предлагают стратегии по «приведению мира в порядок», но их утопические схемы столь же слабы в теории, сколь и неосуществимы на практике. Раздается немало призывов «спасти мир» посредством «великих сделок». Но управление миром не сводится к тому, чтобы находить отдельные разовые решения.
«Дипломатия» – вот выраженное одним словом решение проблемы управления миром, и ключ к этому – совершенствование глобальной дипломатической структуры.
Дипломатия – «вторая древнейшая профессия», но она так же естественна для людей, как и первая. В шумерских городах-государствах правители извещали о воле богов. Как известно из уникального «Тель-Эль-Амарнского архива» (собрания переписки на глиняных табличках, датируемого вторым тысячелетием до н.э.), дипломатия предусматривала довольно сложный кодекс поведения для купцов и послов, которыми зачастую были одни и те же люди. Во времена афинян дипломатия представляла собой прочную систему торгового и политического диалога и даже обеспечивала «олимпийское перемирие». Византийцы возвели дипломатический обман в ранг высокого искусства и скрывали свою слабость, изолируя иностранных послов в роскошных палатах, чтобы те не имели возможности соприкоснуться с реалиями разложения и упадка. Такая тактика позволила отодвинуть крушение империи на четыре столетия. Венецианцы привнесли византийскую практику в Европу и направляли своих дипломатов-шпионов в другие страны, откуда те слали шифрованные донесения. Эти послания позволяли Венеции вырабатывать эффективную тактику противодействия своим конкурентам – городам-государствам Генуе и Милану, а также Папе Римскому. В самый разгар этого бурного периода в начале XVI века Макиавелли написал свой знаменитый трактат «Государь», в котором утверждал, что искусство управлять основано на дипломатии и умении вести войны. В XVII веке кардинал де Ришелье основал самое большое в мире министерство иностранных дел, а голландская и британская ост-индские компании действовали как мощные корпоративные инструменты имперской экспансии, насильно учреждая однородное сообщество государств, империй и территорий. Османская империя, Китай, Япония и Россия были вплетены в глобальную дипломатическую паутину. Британский историк Арнольд Тойнби восхищался тем, как западное искусство войны, технических достижений и дипломатии «объединило буквально весь мир, под которым понимается вся обитаемая и доступная поверхность планеты». Дипломатия обрела своеобразный облик: горстка белых людей переделывала мир по своему усмотрению, и это было тайной салонной игрой надменных государственных мужей, говорящих с сильным акцентом.
С тех времен договариваться о том, как управлять миром, было поручено дипломатам. Дипломатия остается неотъемлемой частью всего, что мы делаем. Однако и во времена вавилонян, и во времена Наполеона, и во времена Сталина война и дипломатия часто были двумя сторонами одной монеты. Дипломатия использует войну как угрозу, а война использует дипломатию, чтобы выиграть время. Американская дипломатия создала широкую коалицию (даже с участием арабских стран) для первой войны с Ираком в 1990 г., но в 2003 г. это не удалось. Дипломатия, таким образом, – оборотная сторона антидипломатии.
Сейчас роль дипломатии велика как никогда. Во времена, когда Америка не может навязывать свою волю миру и вынуждена со всеми договариваться, когда военная мощь выигрывает сражения, но не войны, когда в силу масштабности глобальных проблем их не способна решить ни одна современная организация, мы должны перенести центр тяжести на дипломатию.
Нам хорошо известно, как в результате научно-технического прогресса орудия войны – луки и стрелы – сменились роботами и лазерами, а полевые армии – повстанческими сообществами, но мы редко отдаем себе отчет в том, как сильно изменилась и сама дипломатия. Более двух столетий назад Томас Джефферсон размышлял: «Вот уже два года мы не получали никаких вестей от нашего посла в Испании. Если и в этом году от него ничего не будет, придется написать ему письмо». В середине XIX века, получив в Уайтхолле первое телеграфное сообщение, лорд Пальмерстон воскликнул: «Дипломатии пришел конец!». В 70-х гг. XX века канадский премьер-министр Пьер Трюдо заметил, что все министерство иностранных дел вполне можно заменить подпиской на «Нью-Йорк таймс». Современные средства связи делают с дипломатией то же, что и с печатными СМИ: деморализуют и ставят под угрозу само их существование, но вместе с тем и напоминают, какую важную роль играют и СМИ, и дипломатия.
Научно-технический прогресс, капитализм и продвижение таких нравственных ценностей, как права человека, резко расширили круг игроков на дипломатическом поле. Ныне дипломатией занимается любой мало-мальски значимый человек. Около 200 государств в мире поддерживают отношения друг с другом. Порядка 100 тыс. транснациональных корпораций имеют постоянные контакты с правительствами и друг с другом. Не менее пятидесяти тысяч НПО консультируют по вопросам международного права и присутствуют в зонах конфликтов для оказания помощи властям и населению. Благодаря деньгам, компетентности или статусу все эти деятели наделены достаточной властью, чтобы быть влиятельными. Мировое информационное пространство пронизано виртуальной дипломатией: Швеция, Бразилия и другие страны открыли виртуальные консульства в киберпространстве, где бывший заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью Джеймс Глассман вступил в дискуссию с египетскими блогерами. Сенатор Джон Керри даже предложил назначить посла для представления интересов страны в киберпространстве. Теперь, когда Google и УППОНИР (Управление перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ) Министерства обороны США совместно разработали первые портативные универсальные «переводчики», дипломатом стал каждый.
Вперед, в прошлое!
Казалось бы, нет темы, которая осталась бы без внимания ООН. Но как может организация, занимающаяся решением проблем внутри государств, решать проблемы мира без границ? Относится ли пандемия к сфере здравоохранения или безопасности? Является ли терроризм политическим или экономическим явлением? Как быть с тем, что из-за глобального потепления высокогорья подвергаются нашествию вредных насекомых, уничтожающих урожаи? Чья это компетенция? Программы ООН по окружающей среде или продовольственной и сельскохозяйственной комиссии ООН? Не вызывает сомнений, что рост населения оборачивается ухудшением экосистемы и бедностью – надо ли создавать три отдельных органа, чтобы заниматься этим? Как быть с тем, что количество беженцев от экологических катастроф вдруг сравнялось с численностью политэмигрантов? Кто должен о них заботиться? Технократы, сидящие на другом краю света, зачастую просто не способны постичь взаимосвязанность этих проблем, а бюрократические попытки комплексного подхода обеспечивают заведомо недостаточное привлечение ресурсов для их решения. В действительности невозможно добиться устойчивого улучшения положения дел в отдельно взятой сфере. Нельзя остановить эпидемию, не решая проблему перенаселенности; нельзя преодолеть неравенство и кризис власти, не обуздав коррупцию; нельзя защитить биологическое разнообразие, если люди голодают.
Однако основная масса чиновников в международных организациях больше занята формулированием задач и целей, созданием новых дорогостоящих структур, нежели оказанием реальной помощи в поиске решений. Недавно вопросом безопасности было объявлено буквально все – продовольствие, климат, здравоохранение, бедность. Это продиктовано стремлением международных бюрократов вновь продемонстрировать, насколько они значимы, и добиться еще большего финансирования бессмысленной деятельности с нулевым результатом.
ООН – вовсе не высшая суперструктура, парящая над всеми: она в лучшем случае пытается подложить мелкие камушки под существующее мироустройство, чтобы оно не рухнуло в пропасть. Подобно Советскому Союзу, международная система сегодня рушится не физически, а организационно. Согласно прогнозу Национального совета по разведке США, к 2025 г. само понятие единого «международного сообщества» канет в Лету. Не останется ни всемирного левиафана, ни глобального парламента всего человечества, ни американской гегемонии. Вместо этого нас ожидает разделенный, раздробленный, неуправляемый, многополярный или бесполярный мир. Все эти прилагательные указывают на возникновение нового Средневековья.
Тысячу лет назад – в до-атлантическую эру – мир был одновременно по-настоящему и западным, и восточным. На западе Европой номинально правила Священная Римская империя, а обширная и многонациональная Византийская империя с центром в Константинополе постоянно враждовала с соседями. На самый мрачный период в Европе приходится расцвет Китая и Индии. Времена династий Сун, Юань и сменившей ее Мин ознаменованы зенитом китайской культуры и исследований, а Могольская империя занимала всю южную и центральную часть Азии и активно торговала с Восточной Африкой. В период халифатов Омейядов и Аббасидов ислам распространился на огромной территории от Андалузии до Персии и ничем по значимости не уступал христианству.
В Средние века европейцы, китайцы и народы, населявшие территории между ними, постоянно общались, образуя тем самым первую в истории человечества мировую систему. После крестовых походов такие путешественники, как араб Ибн Баттута и венецианец Марко Поло, прошли по Великому шелковому пути и рассказали своим цивилизациям о величии других. Оживленная современная торговля, которой занимаются и арабские коммерсанты в китайском Уси, и китайские бизнесмены на африканском континенте, напоминает о великих караванах и ярмарках XIII века в Шампани и Самарканде. Более того, наблюдаемые в последнее десятилетие попытки примирить религии восходят к признанию важности изучения ислама для западной мысли еще английским философом Роджером Бэконом и его призывам к Папе Римскому заниматься не крестовыми походами, а всемирным просвещением. Следует помнить: границы империй – отнюдь не что-то застывшее. Они меняются, и чем больше появляется государств, тем более открытым становится мир.
Что это означает для Америки, переставшей контролировать процесс глобализации? В отличие от обычных сравнений с Древним Римом или Россией XIX века, гораздо уместнее аналогия со средневековой Византийской империей. С помощью шпионажа, подкупа и альянсов Византии удалось сохранить влияние и растянуть процесс упадка на весь средневековый период. Даже после утраты Константинополем возможности навязывать свою волю хаотичному средневековому миру Византия все еще оставалась могущественной военной, экономической и культурной державой.
После десятилетия бессмысленных интервенций, возглавляемых Америкой, трудно представить, что Соединенные Штаты вновь обретут статус, которым обладали после Второй мировой войны или окончания холодной войны. Да, Америка по-прежнему находится в центре внимания всего мира, но ее влияние и интерес к ней сводятся к довольно узкому кругу вопросов. Где сейчас проводятся военные операции? Во что вкладывают капиталы ее компании? Какое лобби формирует политику в отношении той или иной страны? Именно это, а не пустые рассуждения относительно ее «исключительности» – показатель истинной роли Америки, утратившей былое влияние.
Эра, наступившая после холодной войны, войдет в историю как стремительно образовавшееся постмодернистское Средневековье: мир без правящих им держав. Запад не заменит Востока, Китай не заменит Америки, а Тихий океан – Атлантики. Все эти центры власти и географические понятия будут сосуществовать в сверхсложной экосистеме. В Средние века завоевать умы и сердца, контролировать территории, ресурсы, торговлю и инвестиции пытались все: империи, города, корпорации, церкви, племенные орды и наемники. В наши дни мы наблюдаем ту же картину. Глобализация придала сил транснациональным террористическим сетям, организованной преступности и торговле наркотиками, но вместе с тем еще больше ослабила отдельные и без того слабые государства, а транснациональные корпорации и НПО стали могущественнее и влиятельнее. Быстро растет число разных групп и сообществ, облеченных властью – наши карты мира перестали отражать положение дел в реальности.
В таких сложных условиях власть не является жестко фиксированной и достаточно мобильной. Армии и ядерные арсеналы утратили былое значение в количественном выражении, и теперь важна лишь их способность решать конкретные задачи, такие как сдерживание, оккупация и вторжение. Ресурсы и идеология по своей значимости не уступают военной и финансовой мощи. Если власть, которой вы обладаете, не дает возможности получить требуемое, значит, она бесполезна. На заре прошлого тысячелетия епископы, формально подчиненные императору, призывали под свои знамена вассалов и рыцарей, монастыри возводили крепости и рыли рвы, герцогствами и замками управляли военные, бароны пользовались полнотой власти в своих поместьях. Сегодня мы повсюду наблюдаем аналогичную разобщенность: и в Майами, и в Боготе, и в Лондоне, и в Бангалоре появляется все больше и больше сообществ, которые огораживаются от окружающих высокой стеной и выставляют свою охрану. Возникают частные военизированные компании для защиты банков, судов, шахт и элитных поселков.
Ученые глубокомысленно рассуждают о сущности «государства», как будто оно – нечто единообразное и унифицированное. Но Гегель был абсолютно прав, утверждая, что государство – это «произведение искусства», ибо двух одинаковых государств не существует. Есть страны с выраженным статусом нации (Америка, Бразилия). Есть империи, выдающие себя за государства (Китай). Есть государства, ведущие себя как империи (Россия, Иран). Есть империи, состоящие из государств (Европейский союз). Какие-то государства ориентируются на добычу сырья (Катар), и какие-то представляют собой страны-рынки (Объединенные Арабские Эмираты), где иностранцев больше, чем граждан. Существуют квазигосударства (Палестина, Курдистан) и государства только на бумаге (Демократическая Республика Конго). Государство – вовсе не естественное явление. Какие-то из них сохранятся, а какие-то сменятся новыми формами организации людей посредством технологии, ресурсов, идеологии и финансов.
После финансового кризиса 2008 г. мы, вне всякого сомнения, наблюдали «возврат сильного государства», когда для стимулирования экономического развития правительства ведущих стран потратили три триллиона долларов, что составляет почти пять процентов мирового ВВП. Некоторые страны не упускают возможности поиграть мускулами: государственные компании Китая скупают природные ресурсы по всей Африке; арабские государственные инвестфонды решают, каким странам и компаниям прийти на выручку и что попросить взамен; русские нефтяные бароны и саудовская национальная нефтяная компания «Сауди Арамко» навязывают цены на нефть и направления нефтепроводов. Но и сильные государства не могут похвастаться последовательным единообразием своей политики. В Саудовской Аравии есть две разные внешние политики: одну проводит Дом Сауда, а другую – радикальные ваххабиты и исламские фонды. Калифорния (которая сама по себе входит в десятку самых мощных экономик мира) эффективно осуществляет собственную политику в сфере иммиграции, климата и энергетики, а большая часть провинций Индии и Китая имеют свои торговые представительства за рубежом. Министры канадских провинций Онтарио и Квебек, земли Рейнланд-Пфальц в Германии и Страны Басков в Испании разъезжают по миру, чтобы привлечь инвестиции в свои регионы. Они не настолько наивны, чтобы терпеливо дожидаться, пока за них начнет хлопотать центральное правительство.
Мы должны осознать, что мир сейчас не управляется отдельными государствами, что вместо эффективных правительств мы имеем дело с «очагами управления», и что – совсем как в Средние века! – эти очаги – вовсе не страны, а города. В настоящее время в сорока городах-регионах сосредоточено две трети мировой экономики. Их власть базируется на деньгах, знаниях и стабильности. Экономика одного только Нью-Йорка сопоставима с тем, что производится в Африке к югу от пустыни Сахара. Портовые города и перевалочные пункты типа Дубая похожи на средневековую Венецию XXI века. Такие мегаполисы, как Рио-де-Жанейро, Стамбул, Каир, Мумбаи, Найроби и Манила – крупнейшие городские образования на территории своих стран и регионов, и каждый год их население прирастает за счет сотен тысяч новых скваттеров. Вновь приезжающие, составляющие низшие слои общества, живут не в трущобах и трудятся не в теневой экономике, а заселяют самоорганизованные и функциональные экосистемы, что ничем не отличается от стратификации населения в средневековых городах. Не нации, а именно города – как бедные, так и богатые – представляют собой строительный материал для глобальной экономической активности. Наш мир больше похож на целую сеть деревень, чем на одну мировую деревню.
Образуются союзы этих активных городов – совсем как средневековый Ганзейский союз. Они используют независимые инвестфонды для приобретения последних технологий на Западе, скупают сельскохозяйственные земли в Африке, где выращивают продовольствие для собственных нужд, и защищают свои вложения с помощью частных армий и шпионажа. Гамбург и Дубай создали партнерство с целью укрепления связей в области судоходства и в научных биологических исследованиях, самостоятельную коммерческую ось образовали и Абу-Даби с Сингапуром.
Мы должны не только начать мыслить категориями городов, а не стран, но и отличать государства от правительств. Во времена, когда международная торговля становится важнее фискальной политики, когда торговые барьеры едва позволяют нациям защитить свои рабочие места и промышленность, когда организованные в сети активисты могут дестабилизировать существующие режимы, многие правительства превратились в лучшем случае в фильтры между отечественными приоритетами и международными реалиями. Правительства играют скорее регулирующую роль: лучшие из них собирают справедливые налоги, обеспечивают эффективное судопроизводство и защиту правоохранительными органами, отстаивают права собственности и национальные границы, поддерживают экономическую стабильность и предоставляют определенные социальные гарантии. Сколько правительств действительно все это делают? Во многих частях света эти базовые услуги все больше и больше предоставляют гражданские группы, религиозные благотворительные организации и корпорации.
Упадок государства
На кого мы можем рассчитывать в столь разобщенном мире? На протяжении нескольких столетий, начиная с XIV века, флорентийская семья Медичи представляла собой архетип гибрида общественной и частной жизни. Она дала миру четырех пап, строила роскошные дворцы, покровительствовала художникам и архитекторам, породнилась с королевскими семьями по всей Европе. Сегодня мы наблюдаем размывание границ, совсем как во времена Медичи. Олигархи «Газпрома» контролируют Кремль; миллиардеры Берлускони в Италии и Таксин Чинават в Таиланде стали главами своих государств; королевские семьи Персидского залива одновременно управляют и полуофициальными министерствами, и инвестиционными фондами. Создание в Детройте новой железнодорожной системы массовых перевозок финансируется руководителем Pensce Corporation и владельцем хоккейного клуба «Ред Уингз». Сегодня основные бизнесы во Франции, Турции, Корее, Иордании и других странах сосредоточены в руках отдельных семей и членов гильдий и клубов типа «Организации молодых руководителей». Более того, семейные бизнесы и малые предприятия утверждают себя в качестве станового хребта реального сектора мировой экономики. Нельзя не упомянуть и о таких мультимиллиардерах-филантропах, как Билл Гейтс, финансирующий борьбу со смертельными недугами, Ричард Брэнсон, спонсирующий африканские школы, и Ратан Тата, управляющий городами сталелитейных производств. Они представляют интересы своих компаний и проектов, а вовсе не страны своей гражданской принадлежности, и от успеха их деятельности зависят жизни миллионов людей.
Сейчас в сферу дипломатии вовлечены те же игроки, что и тысячу лет назад. Слово «дипломатия» образовано от греческого diploma, что переводится как «складывать». Это слово означало разрешения на въезд в чужое государство, которые эмиссары возили сложенными и запечатанными в сдвоенных металлических дощечках. Сегодня их вполне заменяет визитная карточка бизнесмена. И в этом нет ничего необычного. В Средние века движущей силой дипломатии были купеческие сообщества, которые занимались переводом с одного языка на другой, обменивали валюту и торговали самыми разнообразными товарами по всей Евразии.
Что касается Соединенных Штатов, то до конца XIX века их дипломатический корпус был таким малочисленным и слабым, что «Нэшнл Сити банк» и «Стандарт ойл» приходилось содержать и использовать собственные дипломатические службы в Латинской Америке и Азии. Обеспокоенные отсутствием американских послов в этих регионах, они помогли профинансировать открытие Школы дипломатической службы Эдмунда Уолша при университете Джорджтауна – первой дипломатической академии, в которой сейчас курс «дипломатия международной торговли» является одним из самых востребованных. Недалек тот день, когда суперкорпорации начнут выдавать свои собственные паспорта с открытой визой во все страны.
Даже для больших держав – таких, например, как Канада и Индия – растущее экономическое присутствие представляет собой, по сути, присутствие дипломатическое: содержание то же, разве что без внешней атрибутики. Корпорации имеют столь же важные стратегии, что и государства. Торговцы оружием и нефтяные компании – наиболее наглядный пример того, как экономические эмиссары бороздят мир в поисках рабочей силы, топлива, продовольствия и потребителей. Из ста крупнейших экономических субъектов мира половина является компаниями. На ЭКСПО-2010 в Шанхае свои павильоны наряду со странами имели корпорации. У информационного агентства Bloomberg есть разветвленная сеть репортеров по всему миру, и они поставляют информацию на его собственные терминалы. Это, безусловно, крупнейшая в мире частная разведывательная структура, которая обрабатывает огромный объем информации, что позволяет клиентам выбирать необходимые данные из тысяч источников. По всему миру взаимные фонды акций инвестируют в сельскохозяйственные угодья, золото и другие ресурсы, предоставляя взамен основные виды услуг и выполняя функции доброжелательных посредников на переговорах с западными странами. Сегодня независимость государства в лучшем случае означает гибридный суверенитет над цепочками поставок, особыми экономическими зонами и проектами восстановления. Правительства могут пытаться заниматься мониторингом и регулированием корпораций, но контролировать их они не в состоянии.
В то же время словосочетание «корпоративное гражданство», некогда бывшее оксюмороном, превратилось в клише. Сегодня инициатива построить аэропорт или разработать новое лекарство исходит скорее не от правительств, а от компаний, которые считают это необходимым для завоевания рынка и потребителей. Один из крупнейших в мире банков HSBC имеет 20 тыс. отделений в 83 странах, 300 тыс. сотрудников и 150 млн клиентов. В мире, где банковский счет волнует людей ничуть не меньше, чем гражданство, такие банки жизненно важны для поддержания стабильности в стране. Технологии и финансы разорвали связь между границами и идентичностью. В древней Анатолии месопотамские купцы внедрялись в чужую среду, чтобы установить культурные и коммерческие связи. В наши дни торговые диаспоры снова играют ключевую роль в установлении экономических и политических связей: достаточно взглянуть на усиление китайского присутствия, простирающегося до Анголы и Перу, не говоря уже о 50 млн китайцев в странах Тихоокеанского бассейна. Китай начал активно поощрять своих бывших граждан, живущих за рубежом, осуществлять инвестиции на исторической родине – в скором будущем вполне возможно даже введение института двойного гражданства. Более 20 млн индийцев, живущих в Персидском заливе, Восточной Африке, Великобритании и Силиконовой долине, также образуют диаспору, чье этнополитическое и экономическое влияние постоянно растет. Более ста государств предоставляют своим диаспорам право голосовать, а в одиннадцати странах для них даже выделены места в парламенте. В 2009 г. ливанские политические партии доставили самолетами экспатриантов даже из Канады, чтобы те проголосовали на парламентских выборах. Диаспоры и иностранная экономическая зависимость могут вызвать непредсказуемые политические пертурбации. Как изменится политика арабских монархий, если правительство Индии начнет требовать политических прав для миллионов индийских гастарбайтеров, которых там в пять раз больше, чем местных жителей?
В неосредневековом мире возможно множество самоидентификаций по стране, профессии, религии, этносу и даже по аватару в социальных сетях. Отбор компаниями талантливых сотрудников – то же самое, что и предоставление гражданства маленькими государствами типа Катара, стремящегося заполучить выдающихся заокеанских спортсменов или инженеров, или же быстрая натурализация в США латиноамериканцев, сражающихся в Ираке. Дубай нанимает своих южноафриканских и австралийских экспатриантов для ведения торговых переговоров. Один из них недавно даже спросил: «Почему нельзя сделать всемирный паспорт для людей, которые не представляют какой-то отдельной страны и принадлежат всему миру?».
Вера – вот что в наши дни формирует принадлежность и объединяет скорее, чем деньги, власть или родство. Ислам сейчас распространяется с такой же скоростью, что и в VII и VIII веках. В Египте и Ливане ислам наделен и политической, и социальной составляющими. Христианство тоже набирает силу в Африке, Латинской Америке и даже Китае, а в Соединенных Штатах миллионы американцев становятся последователями евангелистских мега-церквей и исповедуют веру в мессианские пророчества.
Мы снова живем в век предрассудков, совсем как в Средневековье, когда церковь запрещала языческие и колдовские обряды, которые считала антирелигиозными или, напротив, слишком уж религиозными. В печально известном «Толедском письме» предсказывалось, что парад планет в 1186 г. будет означать конец света, и архиепископ Кентерберийский даже объявил трехдневный пост. (Похоже, тогда это сработало.) В наши дни быстрое распространение СПИДа, птичьего гриппа и прочих пандемий постоянно возрождает к жизни призрак новой «черной смерти». Если вы живете в небоскребе, то боитесь, как бы террористы не врезались в него на самолете. Если живете на побережье (как половина населения планеты), то боитесь погибнуть от цунами или ураганов, которые обрушиваются все чаще и чаще. В наши дни роль Нострадамуса играют такие авторы бестселлеров, как Экхарт Толле и Пауло Коэльо, которые проповедуют спасение через духовность и возводят самопомощь в космический ранг, напоминая, что «кризис всего и вся» требует от человечества «эволюции или гибели».
Мы повсеместно сталкиваемся с характерными симптомами Средневековья. За ширмой технологичной изощренности скрываются экономический хаос, социальные волнения, падение нравов, безудержные расходы и религиозная истерия. После отстранения Саддама Хусейна от власти в Ираке в 2003 г. стало быстро набирать силу варварское сектантство. После кризиса 2008 г. золото снова превратилось в самое надежное средство сбережений, а в Италии неаполитанская мафия вернулась к старой практике предоставления бизнесменам, испытывающим финансовые трудности, больших займов наличными; при этом в день погашения долга являются за деньгами с пистолетами в руках. В Соединенных Штатах банки продавали невозвращенные субстандартные кредиты коллекторским агентствам, которые преследовали бедных заемщиков с упорством «охотников за головами». В России от 10 до 20% экономики быстро перешло на бартерную систему, а экономическую политику страны по-прежнему характеризуют междоусобные войны современных «баронов-разбойников». По всему миру процветают преступность в сфере информационных технологий, мошенничества с ценными бумагами, изготовление подделок всего и вся – от фальшивых батарей до зубной пасты. Изнасилования, мародерство и резня – все такая же неотъемлемая часть конфликтов на африканском континенте в номинально суверенных странах, где алчность и недовольство оборачиваются контролем вооруженных формирований над природными ресурсами и рабами. В арабских и африканских странах проблема продовольствия постоянно грозит крестьянским восстанием, похожим на то, что привело к разграблению и опустошению Лондона в 1381 году.
НПО и транснациональные корпорации – новая форма колониализма; они представляют собой главную реакцию на возрождение Средневековья. В Средние века больными и беспомощными занимались вовсе не сюзерены, а церкви, и именно они заставляли университеты и купеческие гильдии выделять средства на благотворительность. В наши дни больницы, школы, лагеря беженцев содержат мощные неправительственные организации, такие как «Оксфам», «Корпус милосердия» и Международный комитет спасения. В двух с лишним десятках беднейших стран южнее Сахары международная гуманитарная организация «Врачи без границ» оказывает медицинскую помощь зараженным СПИДом, кормит голодающих детей и занимается реабилитацией беженцев. Сегодня прозябающими в нищете постколониальными странами управляют по сути сильные государства и влиятельные частные деятели. Примета нашего времени – постоянное противоречие между государственным строительством и необходимостью безотлагательного обеспечения безопасности, здравоохранения и образования, а также предоставления продовольствия и электроснабжения, с чем НПО зачастую справляются куда лучше правительств. Это привело к образованию нового типа суверенных гибридных государств, в которых правительство далеко не всегда самый влиятельный игрок на своей территории.
Вот почему представление о том, что правительства занимаются «высокой политикой», а НПО просто «заполняют ниши», – не просто устарело, но даже оскорбительно. НПО – это буксиры прогрессивной дипломатии, которые тащат за собой баржи правительств и международных организаций в нужном направлении, а именно: к правам человека и реакции на изменение климата. Именно группы гражданского общества настояли на выделении бедным микрокредитов и на запрете противопехотных мин, а ученые привлекли внимание к проблеме изменения климата. Что нужно делать, гораздо чаще «Оксфам» говорит британскому министерству международного развития, а не наоборот; приоритеты здравоохранения чаще определяются «Фондом Билла и Мелинды Гейтс», а не Всемирной организацией здравоохранения, треть бюджета которой оплачивается самим Гейтсом. НПО стали главными сторонниками реформирования раздутых и расточительных международных организаций вроде Всемирного банка. Именно НПО настаивают на социальной ответственности корпораций. Как выразился один немецкий дипломат, «гражданское общество занимается решением своих проблем, но его не менее важная роль заключается в контроле происходящего. Именно оно должно поднимать шум, если что-то идет не так». Даже после финансового кризиса НПО организовали сбор средств по всему миру и продолжают преуспевать, оказывая гуманитарную помощь быстрее, дешевле и лучше многих правительств.
Параллель со Средневековьем показывает всю сложность мира, в котором задействовано столько самых разнообразных деятелей. Считать Средневековье лишь самым мрачным периодом истории ошибочно. Ведь именно тогда происходило великое расширение торговых связей между Востоком и Западом, а также обращение к классическим ценностям. Новое Средневековье вовсе не должно считаться постоянным чистилищем неопределенности – как ни странно, но во многих отношениях оно вселяет надежду, что наше нынешнее положение может разрешиться Возрождением, а не мировой войной.
Параг Ханна – ведущий научный сотрудник фонда «Новая Америка» и Европейского совета по международным делам.

В ожидании штормовых порывов
Российская внешняя политика в эпоху перемен
Резюме: Российская недореволюция 2011–2012 гг. продемонстрировала индифферентность оппозиции к внешнеполитической проблематике. По сути, противники власти сохранили за Путиным монополию на определение и истолкование международной повестки.
Описание мировых процессов в терминах турбулентности стало широко распространенным. Росту популярности этого подхода способствовал мировой финансовый и экономический кризис, выход из которого и сегодня кажется не менее далеким, чем в 2008 году. Неуверенность в способности контролировать собственное будущее, о которой применительно к индивиду говорил Пьер Бурдьё на исходе XX века, сегодня распространяется на государства, их политические и экономические системы, а также транснациональные объединения. Ничего не исключено и не предрешено – вот та тревожная система координат, в которой мировым лидерам приходится принимать решения. Владимир Путин, продливший (но не гарантировавший) свое пребывание у власти до 2018 г., уже с основанием может считаться одним из старейшин среди них. Но мир и страна, в которой он третий раз становится президентом, радикально изменились по сравнению с тем временем, когда Борис Ельцин передал ему бразды правления. В том, что изменения оказались столь значительными, есть немалая заслуга самого Путина. Однако это не упрощает его будущую задачу.
О нашей недореволюции
Выбор российским руководством внешнеполитических опций в значительно большей степени, чем в начале прошлого десятилетия, будет определяться (или ограничиваться) внутриполитическими возможностями. В предыдущей статье в журнале «Россия в глобальной политике» (2011, № 3) автор уже высказывал предположение, что в период электоральных кампаний конца 2011 – начала 2012 гг. российская внешняя политика может оказаться заложницей неконтролируемого развития событий, которое связано с дефицитом легитимности власти, сформированной в результате выборов без реальной политической конкуренции. Теперь, когда драматический рубеж пройден, стоит задуматься о том, не превратится ли Россия в результате случившихся изменений в новый очаг мировой турбулентности. Но прежде нужно сказать несколько слов о том, что же все-таки произошло в период между 4 декабря 2011 г. и 4 марта 2012 года.
Наиболее уместным будет слово «недореволюция». В свое время такой термин использовали некоторые лидеры студенческих волнений 1968 г., оценивая масштаб воздействия молодежных протестов на социальный и политический строй в странах Запада.
Снижение электоральной поддержки правящей партии «Единая Россия» (согласно официальным результатам думских выборов) и особенно последовавшие за голосованием 4 декабря протестные выступления показали, что политический консенсус начала 2000-х гг. перестал существовать. Масштаб демонстраций на Болотной площади и проспекте Сахарова засвидетельствовал кумулятивный рост числа тех, кто имеет «стилистические» разногласия с существующей властью. Хотя детальный социологический портрет «людей с белыми ленточками» еще только предстоит создать, можно говорить о том, что система вертикали власти лишилась поддержки существенной части среднего класса крупных российских городов.
По всей видимости, осознание новой ситуации вызвало у правящего тандема Путин–Медведев определенную растерянность. Протестные выступления побудили дуумвират приступить к частичной политической либерализации, планы которой обсуждались задолго до декабрьских демонстраций. Одновременно произошли изменения в информационной политике государственных электронных СМИ, сопоставимые с прорывом к гласности в конце 1980-х годов.
Но уже в январе 2012 г. команда Путина изменила предвыборную тактику, перейдя к конфронтационной риторике по отношению к протестующим и сочувствующим им внешним силам (под раздачу попал и вновь назначенный американский посол Майкл Макфол). Тем самым удалось консолидировать новую базу электоральной поддержки Путина и создать предпосылки для существенного изменения соотношения сил на уровне политической элиты. Президентские выборы неожиданно оказались состязательными, но это было состязание власти с разнородной оппозицией, не представленной в избирательных бюллетенях. Уже в феврале пропутинские силы добились перевеса в масштабах митинговой активности. В итоге Владимир Путин впервые одержал победу в условиях политического противостояния, и этот факт будет иметь серьезные последствия для российской политики.
По всей видимости, для лидеров антипутинской оппозиции масштаб протестных выступлений оказался не менее неожиданным, чем для власти. Почти спонтанно возникла причудливая коалиция, объединяющая сторонников либеральных ценностей, левых радикалов и националистов. В этой конфигурации появление единого координирующего центра, способного сформулировать внутренне целостный набор политических требований, оказалось невозможным. Ради поддержания массовости демонстраций лидеры оппозиции упустили шанс своевременно дистанцироваться от сомнительных фигур и организаций, на начальном этапе присоединившихся к протестным выступлениям. В результате еще до выборов 4 марта протестная активность пошла на спад. В целом не только масштаб, но и интенсивность низовой поддержки оппозиционных выступлений оказались недостаточными для того, чтобы дестабилизировать режим. Однако ничего не кончено. Число противников системы, отождествляемой с Владимиром Путиным, не уменьшилось, и нельзя быть уверенным, что они будут спокойно дожидаться завершения его третьего президентского срока.
С момента инаугурации Владимир Путин окажется перед дилеммой – либо всячески укреплять прежнюю авторитарную модель власти, либо пойти на глубокие политические преобразования вплоть до конституционной реформы, которая, наконец, обеспечит встраивание института президентства в систему разделения властей, создаст гарантии независимости судов и средств массовой информации, сделает неизбежным проведение в полном смысле свободных выборов. Скорее всего, Путин и его окружение вначале попытаются консолидировать власть с учетом новых политических реалий. Недореволюция зимы 2011–2012 гг. выявила дисфункциональность прежней коалиции силовиков и системных либералов, на которую Путин опирался с 2000 года. В изменившихся условиях появится потребность в рекрутировании нового поколения управленческой и политической элиты, на которое Путин сможет опереться. В дальнейшем «новые люди» в нарастающей степени начнут определять будущее страны.
Практически все значимые шаги российской власти в ближайшее время будут делаться с оглядкой, поскольку высока вероятность очередного всплеска протестов. Политические противники Путина будут и впредь ставить под сомнение легитимность и его третьего президентского срока, и нынешнего состава Государственной думы. В случае новой волны экономического кризиса Путину вновь придется налаживать диалог с разными политическими силами, включая и сторонников либеральной демократии западного образца, и радикальных националистов. Задача политического руководства, очевидно, будет состоять в том, чтобы интегрировать в легальный политический процесс и тех и других, предоставив им возможность полноценного участия в региональных и муниципальных выборах, а затем и в электоральных кампаниях федерального уровня. Нормализации политических процессов мог бы способствовать недвусмысленный сигнал о том, что Путин и его окружение готовы ограничиться только шестилетним периодом президентства и не будут стремиться продлить его до 2024 года. В сущности, Путину уже сейчас следовало бы начать разрабатывать стратегию цивилизованного выхода из власти в определенные российской Конституцией сроки.
Российская недореволюция продемонстрировала индифферентность оппозиции к внешнеполитической проблематике. Реакция оппозиционеров на соответствующие высказывания Путина в период предвыборной кампании была довольно вялой, никто из них даже не пытался предложить какие-либо программные установки в этой области хотя бы в порядке реакции на статью кандидата, опубликованную в «Московских новостях». Маловероятно, что в сфере внешней политики существует широкий консенсус между сторонниками и противниками Путина. Нежелание оппозиционеров всерьез втягиваться в дискуссию по внешнеполитической проблематике было скорее связано с тем, что альтернативная платформа пока не выглядит достаточно привлекательной с точки зрения мобилизации электората и политических активистов. По сути дела, оппозиция сохранила за Путиным монополию на определение и истолкование российской внешнеполитической повестки.
Общественные процессы, разворачивающиеся в России с конца 2011 г., несомненно, соответствовали основным характеристикам политической турбулентности. Но если рассматривать выборы 4 марта 2012 г. как промежуточный рубеж, то к моменту его преодоления Россия все-таки избежала превращения в новый источник хаотизации мировой обстановки. Внешняя политика пока не превратилась в заложницу внутриполитических изменений, о чем свидетельствует хотя бы самостоятельная линия в сирийском вопросе в начале 2012 года. Тем не менее симпатии и антипатии основных внешних партнеров по отношению к акторам российского политического процесса уже обозначились. В будущем, особенно в условиях нарастания внутриполитической турбулентности, внешнее давление, направленное на поддержку тех или иных сил в России, будет усиливаться. В свою очередь, внешнеполитический выбор кремлевского руководства может оказаться производным от распознавания по принципу «свой-чужой», тогда как другие значимые факторы отойдут на второй план.
Евразийская (постсоветская) интеграция
В период нахождения у власти дуумвирата Путин–Медведев произошли значимые изменения в процессах межгосударственного взаимодействия на постсоветском пространстве. Фактически впервые с 1991 г. наметилась смена тренда. Конечно, слишком смело утверждать, что дезинтеграцию и строительство национальных государств окончательно сменил объединительный бум. Однако создание Таможенного союза и формирование Единого экономического пространства в составе России, Белоруссии и Казахстана все чаще рассматривается обозревателями как проект, шансы которого на успех уже отличны от нуля. Стоит заметить также, что именно Владимир Путин, в целом избегавший оспаривать внешнеполитические прерогативы Дмитрия Медведева, сыграл важнейшую роль в запуске этого начинания.
Почему это стало возможным? Внешние условия если и не благоприятствовали экономической интеграции России, Белоруссии и Казахстана, то, во всяком случае, фон был почти нейтральным. Мировой экономический кризис заметно снизил дееспособность ключевых мировых игроков на постсоветском пространстве. К тому же, как можно предположить, российско-американская перезагрузка включала неафишируемое сторонами понимание, что активность США в вопросах, связанных с политическим и экономическим развитием стран СНГ, будет меньшей, чем при президенте Джордже Буше. Не признавая за Россией права на зону привилегированных интересов, Соединенные Штаты при Бараке Обаме, видимо, не считали возможным слишком решительно препятствовать укреплению российских позиций на постсоветском пространстве. Что касается Европейского союза, то разработанная по инициативе Польши и Швеции программа «Восточное партнерство» так и не стала эффективным инструментом влияния на постсоветском пространстве. Таким образом, к 2012 г. Россия смогла добиться существенного продвижения интеграционной инициативы.
Эта инициатива, безусловно, остается преимущественно политическим проектом. Идея Евразийского союза, возрожденная к жизни Путиным осенью 2011 г., еще подпитывает политическую составляющую интеграционной активности. Однако в этом кроются и определенные опасности, чреватые подрывом объединительных усилий. Формирование в трехстороннем формате Таможенного союза и предполагаемое образование на его базе Евразийского союза – это проект трех персоналистских авторитарных режимов, из которых российский, особенно после бурной политической зимы 2011–2012 гг., оказывается наиболее мягким. Поэтому логично сконцентрировать усилия на максимальной экономизации проекта, позволяющей сделать интеграционный тренд необратимым и обеспечивающей устойчивость союзных структур вне зависимости от того, что будет происходить «после Назарбаева», «после Лукашенко» или «после Путина». Напротив, шаги в сторону пространственного расширения Таможенного союза и Евразийского союза, например, за счет Киргизии и Таджикистана едва ли способствуют укреплению экономической основы интеграции. Помимо увеличения экономической нагрузки это будет означать импорт нестабильности и конфликтов. В частности, учитывая напряженные отношения между Таджикистаном и Узбекистаном, было бы опрометчиво пойти на решительное сближение с Душанбе, тем самым значительно осложнив диалог с Ташкентом.
Создание крепкого и здорового (хотя бы экономически) интеграционного ядра постсоветского пространства – важнейшая задача на годы, если не десятилетия. За пределами «большой тройки» в составе России, Белоруссии и Казахстана оправдан выбор в пользу модели разноскоростной интеграции, позволяющей постепенно создавать экономические и политические предпосылки для более тесного сближения все большего числа стран постсоветского пространства. Оптимальный сценарий применительно к Украине мог бы состоять в ее нахождении во втором интеграционном эшелоне. Гипотетическое вхождение Украины в Таможенный союз, ЕЭП и далее – в Евразийский союз привело бы к значительному ослаблению интеграционного импульса, а в случае очередной смены власти в Киеве – и к деконструкции формирующихся объединений. Создается впечатление, что в Москве стремятся использовать слабость позиций нынешней украинской власти для решения задач, связанных с судьбой газотранспортной системы, а также для вовлечения Киева в какую-либо схему партнерских отношений, предотвращающую «окончательную переориентацию» Украины на Европейский союз. Однако развитие событий в соседней стране после «оранжевой революции» убедительно продемонстрировало невозможность там никаких «окончательных» решений. Для Москвы разумно исходить именно из этого понимания украинской специфики. И если всерьез рассматривать идею Большой Европы «от Лиссабона до Владивостока», то в таком европейском «концерте» у Киева могла бы быть скромная, но самостоятельная партия. России следовало бы признать это, и даже помочь Украине найти конструктивную роль связующего звена между Европейским и Евразийским союзом.
Европейский тупик
О том, что отношения между Москвой и Евросоюзом уже не первый год пребывают в тупике, не пишет разве ленивый. Усталость чувствуется даже у тех, кто еще готов предлагать рецепты преодоления застоя. России остается лишь наблюдать за тем, как ЕС будет искать выход из долгового и институционального кризиса. Безусловно, она может внести скромный вклад в решение долговых проблем, и в дальнейшем занять тактически выгодную позицию кредитора. В масштабах всего Европейского союза поддержка Москвы будет малозаметной, хотя и ощутимой для отдельных стран (например, Кипра). Возможно, что нынешний момент наиболее удобен для приобретения подешевевших европейских активов, но скупки на корню самых лакомых кусков, например, в высокотехнологичных отраслях, не произойдет.
В последней из своих предвыборных статей Владимир Путин дал ясно понять, что его симпатии на стороне той версии антикризисных реформ и институциональной трансформации, которую отстаивают Берлин и Париж. Точнее, дело даже не в самой версии, а в том, что ее реализация поможет закрепить германо-французское доминирование в единой Европе. Предполагается, что именно такая трансформация окажет благоприятное воздействие на отношения России и ЕС. Но если сдвиг и произойдет, то явно не в ближайшем будущем.
Долговой кризис Европы обнажил то, что и прежде было всем известно, но старательно камуфлировалось: если до кризиса экономическое лидерство Германии всячески прикрывалось механизмами консенсусного принятия политических решений (даже с известными коррективами, внесенными Лиссабонским договором), означающими распыление политической ответственности, то теперь Берлин просто вынужден брать на себя роль полноценного лидера. Осторожная канцлер Германии Ангела Меркель все еще пытается разделить бремя ответственности с Францией, но по сути это мало что меняет. Скорее всего, в момент наивысшей остроты кризиса большинство стран Европейского союза примут диктуемые Берлином условия выхода из долговой ямы, но укрепится и лагерь оппонентов, возглавляемый Лондоном. По мере выхода из кризиса число стран, готовых оспаривать ключевую роль Германии в решении разных проблем, будет возрастать. И здесь возможны разные варианты.
Один из них состоит в том, что механизм принятия решений в ЕС достаточно быстро приведут в соответствие с новыми экономическими реалиями, а принцип «Европа разных скоростей» закрепится на институциональном уровне. Это наиболее благоприятно для начала практических шагов в пользу реализации идеи «Европы от Лиссабона до Владивостока». Расслоение Евросоюза на несколько интеграционных эшелонов способствовало бы появлению дополнительных зон кооперации, служащих «мостиками» от Европейского союза (его основного ядра) к Евразийскому союзу. Реализация дифференцированной модели разноскоростной интеграции заложила бы основу нового мегапроекта с опорными точками в Париже, Берлине, Варшаве, Киеве и Москве. Пока, впрочем, такой сценарий выглядит чисто гипотетическим.
Другой вариант предполагает затягивание процесса переформатирования ЕС, при котором Берлину придется идти на уступки партнерам по второстепенным вопросам. Вероятно, одной из жертв окажется курс в отношении России и стран постсоветского пространства. Именно на восточном направлении симулякр единой внешней политики Евросоюза имеет шанс продлить свою жизнь. Тогда застой в отношениях между Москвой и претерпевающим внутреннюю трансформацию Европейским союзом затянется на годы. Европа будет заведомо неспособна всерьез обсуждать с Москвой вопросы стратегического партнерства, а самой России едва ли придется по душе бесконечное переминание с ноги на ногу у закрытого парадного подъезда европейского дома. Соответственно, партнерство Москвы с Брюсселем не станет значимым фактором, способствующим укреплению позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как о том писал Владимир Путин в своей предвыборной статье «Россия и меняющийся мир». Скорее, напротив, решительная активизация российской политики в АТР рано или поздно заставит страны ЕС по-новому взглянуть на перспективы взаимоотношений с крупнейшей страной Евразии.
Третий вариант может быть связан с резким обострением военно-политической ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также с его долгосрочными геополитическими и геоэкономическими последствиями. Кажущееся все более вероятным столкновение Израиля и США с Ираном актуализирует проблемы энергетической безопасности. Но долгосрочные вызовы связаны уже с последствиями этого столкновения – перспективой перекройки государственных границ на Ближнем и Среднем Востоке, потоками беженцев, борьбой Турции за реализацию амбиций регионального гегемона в Восточном Средиземноморье, на Южном Кавказе и в Центральной Азии, возрождением призрака суннитского халифата от Мекки до Касабланки. Осознание общности угроз, несомненно, является одним из самых мощных стимулов сближения государств.
Азиатско-тихоокеанское окно возможностей
Знаменательно, что приходящееся на 2012 г. председательство России в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества совпало с перемещением фокуса мировой политики в этот регион. Если определяющим фактором трансформации системы международных отношений становится борьба за глобальное лидерство между Соединенными Штатами и Китаем, то поле противостояния, очевидно, – пространство Восточной Азии и Тихого океана. Тем более что центр тяжести мировой индустриальной и финансовой активности сдвигается из Евро-Атлантики в АТР. Происходит перегруппировка сил, в которой Россия пока не принимает активного участия, избегая преждевременного встраивания в какую-либо политико-экономическую конфигурацию. Однако, несмотря на усиливающееся напряжение, связанное с этой перегруппировкой, АТР остается вполне стабильной и сравнительно экономически благополучной частью мира, присутствие в которой для Москвы есть важнейшее условие успешного развития в XXI веке. «Поворот на восток» сопряжен с рисками, но намного больше риск бездействия, когда окно возможностей просто-напросто захлопнется.
Радикальное изменение повестки российско-американских отношений вероятно только в том случае, если обе стороны сумеют совместно определить новый баланс интересов в АТР и именно его рассматривать в качестве контекстообразующего фактора для всего комплекса взаимодействий между Москвой и Вашингтоном. Во-первых, этот баланс интересов должен включать в себя экономическую кооперацию, в том числе формирование и развитие региональных зон свободной торговли. Во-вторых, он предполагает поддержку активного вклада России в обеспечение АТР энергоресурсами, включая широкую диверсификацию каналов и направлений этих поставок. Такое взаимопонимание в вопросах обеспечения АТР энергоносителями должно предполагать отход от конфронтационной политики в области европейской энергобезопасности, где до последнего времени США выступали в роли основного лоббиста альтернативных маршрутов поставок нефти и газа, позволяющих снизить зависимость Европы от России. В-третьих, для Соединенных Штатов и ориентированных на них стран АТР должны открыться широкие возможности участия в развитии Сибири и российского Дальнего Востока. По крайней мере такие же, как у КНР. В-четвертых, Россия могла бы признать, что существенное военное присутствие США в АТР не угрожает ее безопасности. Более того, перспектива дальнейшего наращивания американской военной мощи в регионе приемлема при условии, что она не будет вести к подрыву усилий самой России в области стратегической безопасности. Однако для этого и Соединенным Штатам придется продемонстрировать готовность учитывать интересы безопасности России на постсоветском пространстве, в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке.
Впрочем, шансы на позитивную «перезагрузку перезагрузки» российско-американских отношений не очень велики, по крайней мере в ближайшие годы. Отношения с Россией давно перестали быть в Вашингтоне предметом двухпартийного консенсуса. Вероятно, еще долгое время серьезные усилия по российско-американскому сближению будут блокироваться влиятельной группой американских законодателей, заинтересованных в голосах антироссийски настроенных выходцев из стран Центральной и Восточной Европы. Возможно, риторическая составляющая российско-американских интеракций даже усилится. В частности, предлагаемый Джоном Маккейном и рядом его коллег «размен» винтажной поправки Джексона-Вэника на «Акт Сергея Магницкого», не решив ни одной практической проблемы, усугубит недоверие между сторонами. История со случайным обнародованием разговора Барака Обамы и Дмитрия Медведева в Сеуле и последовавшая антиобамовская и одновременно антироссийская кампания со стороны Митта Ромни и прочих республиканцев – еще одна иллюстрация невозможности вырваться за рамки клише.
Вместо совместного поиска возможностей сотрудничества в АТР как основы новой повестки российско-американских отношений произойдет дальнейшая эрозия скромных достижений перезагрузки. Нынешняя повестка двусторонних отношений, в которой центральную роль играет проблема ПРО, окажется законсервированной до конца текущего десятилетия. И тогда, особенно в условиях нарастания внутриполитической напряженности в России либо в случае очередного обострения отношений с Западом, Москва может сделать шаг в пользу еще более тесного сближения с Пекином.
Нынешний уровень российско-китайских отношений в целом оптимален. Попытка поиска баланса интересов и новых механизмов сотрудничества России и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе могла бы позволить достичь большего равновесия, избежать односторонней зависимости от КНР. Москве равным образом опасно втягиваться и в антикитайские, и в антиамериканские альянсы. Просто сейчас было бы оправданно уменьшить диспропорцию в пользу Китая за счет активизации сотрудничества с Соединенными Штатами. Такое восстановление равновесия стало бы наиболее удобной платформой для дальнейшего продвижения интересов России в АТР.
К ним в первую очередь относятся возможности экономического взаимодействия и развития торговли. После вступления России в ВТО актуальна задача выбора партнеров для установления режимов свободной торговли. Уже сейчас обсуждаются соглашения о свободной торговле стран Таможенного союза с Новой Зеландией, Вьетнамом, Монголией (за пределами АТР консультации ведутся с государствами Европейской ассоциации свободной торговли). Переговоры могут послужить моделью для будущих более масштабных диалогов, нацеленных на установление взаимоотношений с существующими или формирующимися зонами свободной торговли или даже полноправное участие в одной из них. В отличие от Евросоюза, многосторонние структуры экономического сотрудничества и свободной торговли в АТР продолжают формироваться. Здесь возможно не только принятие выработанных ранее и другими условий сотрудничества, но и участие в определении правил игры.
В АТР пока нет лидирующего проекта многостороннего экономического сотрудничества, но имеет место конкуренция различных проектов. В конечном счете выбор заключается в том, какой проект предпочесть – с участием США или Китая. Эта ситуация не будет долговечной, но сейчас Россия имеет возможность рассматривать различные варианты. Режим свободной торговли – вещь далеко не безобидная, особенно для такой однобокой экономики, как российская. Тем не менее имеет смысл очень серьезно проанализировать существующие опции, прежде всего – возможность сближения с Транстихоокеанским партнерством (ТТП). Поскольку в этой формирующейся экономической группировке будут доминировать Соединенные Штаты, зондаж на предмет тесной кооперации с ТТП станет проверкой возможностей «перезагрузки перезагрузки» на основе баланса интересов Вашингтона и Москвы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Не следует заведомо отбрасывать и возможность участия в какой-либо иной конфигурации, например, подключения к формату АСЕАН+6.
Нужно искать региональных партнеров (или шерпов, если использовать дипломатический сленг), готовых оказать содействие повороту России на Восток. Они не должны быть более мощными, чем сама Россия, а также иметь с ней какие-либо непреодолимые разногласия, наподобие территориального спора. Понятно, что и Москве следует создать серьезные стимулы для того, чтобы эти страны были готовы всерьез учитывать ее интересы. Такие стимулы могут быть различными – обеспечение энергоносителями, возможность совместной реализации инфраструктурных проектов, открытие российского рынка труда, создание благоприятных условий для экономической деятельности, содействие в разрешении конфликтов и т.д.
Такими региональными игроками вполне могут стать Вьетнам и Южная Корея. С Вьетнамом Россию связывает прежде всего политическое и экономическое наследие советской эпохи. Оно, разумеется, подверглось сильной эрозии, но, несмотря на годы взаимного дистанцирования, сохранился ряд успешных проектов экономической кооперации, а также немалое число людей в обеих странах, заинтересованных в возрождении на новой основе российско-вьетнамского сотрудничества. Во многом следуя китайской модели модернизации, Вьетнам в структурном отношении, а также с точки зрения качества рабочей силы похож на Китай 10–15 лет назад, но разрыв сокращается. Вместе с тем объем экономики Вьетнама составляет лишь малую часть китайской. К тому же Россия и Вьетнам не имеют общей границы, что снимает озабоченность, возникающую каждый раз, когда обсуждаются планы массированного привлечения в Россию китайской рабочей силы. Наконец, Вьетнам – не только член АСЕАН, но и один из участников ТТП, причем специфика вьетнамского политического режима не является для этого преградой.
Ситуация с Республикой Корея, разумеется, иная, но и в этом случае для России существуют потенциально благоприятные возможности. Прежде всего Москва искренне заинтересована в мирном урегулировании разногласий, связанных с ядерной программой КНДР. У России есть все основания демонстрировать поддержку конструктивного диалога между двумя корейскими государствами, поскольку он является необходимым условием реализации проектов развития транспортной и энергетической инфраструктуры на Корейском полуострове. В стратегическом отношении российским интересам соответствует и мирное объединение Кореи. Разумеется, предпочтительны не драматические сценарии, наподобие падения Берлинской стены, но постепенное и поступательное развитие межкорейского диалога на основе принципа «одна страна – две системы». У Москвы достаточно оснований стремиться получить в лице пока еще разделенной Кореи привилегированного партнера в Восточной Азии, подобно Германии в Европе. При этом Корея могла бы отчасти уравновешивать влияние Китая и Японии.
При всех благоприятных внешнеполитических возможностях «поворот на Восток» может быть обеспечен прежде всего за счет решительных внутриполитических действий. Планы создания государственной корпорации по развитию Дальнего Востока как будто свидетельствуют о серьезности намерений. Однако они, скорее всего, уже не соответствуют темпам истощения человеческого потенциала региона и масштабу внешних вызовов. В современных условиях переломить негативные тенденции мог бы перенос в этот регион центра политической власти. Прошлогодняя инициатива Дмитрия Медведева расширить территорию Москвы в два с лишним раза и перевести структуры политического управления на новую площадку решают лишь часть проблем столичного мегаполиса. Вместе с тем проект ведет к дальнейшему нарастанию диспропорций между столичным регионом и остальной Россией. Перенос столицы в азиатскую часть страны или по крайней мере географическое рассредоточение столичных функций могли бы не только подчеркнуть, что Россия стремится вписаться в новую конфигурацию мировой политической и экономической мощи, но и свидетельствовать о начале новой политической эры. Наконец, перенос на Восток центра российской власти позволил бы ей географически дистанцироваться от такого очага политической турбулентности, как московский мегаполис.
***
Турбулентность – это состояние, при котором ценность долгосрочных прогнозов снижается до предела. Малые причины могут запускать макропроцессы, в результате которых реализуются сценарии, еще совсем недавно казавшиеся экзотическими или невероятными. Большинство факторов глобальной турбулентности лежат за пределами России, и не во власти ее лидеров здесь что-то радикально изменить. Экономическая система глобального капитализма накопила огромный потенциал внутреннего разрушения и хаотизации, и этот потенциал не только не сократился, но и продолжал нарастать в годы экономического кризиса. Глобализация, положив предел пространственной экспансии мирового капитализма, побудила его к экспансии темпоральной, к попытке обеспечить экономический рост и благосостояние за счет будущего. Нынешний кризис представляется особенно опасным именно потому, что и этот ресурс, похоже, исчерпан. Неизвестно только, будут ли все счета предъявлены сразу или же нескольким поколениям придется погашать их в рассрочку.
Старый, американоцентричный мировой порядок одну за другой утрачивает свои опоры. Москва может наблюдать за этими процессами со смешанными чувствами удовлетворения и тревоги. Но оснований для тревоги больше, поскольку даже контуры еще не обозначились, и, следовательно, турбулентный переход затягивается надолго. Россия, разумеется, способна внести вклад в постепенную кристаллизацию нового мирового порядка, рассчитывая занять в нем достойное место. Нельзя, однако, исключить синергии внутренней дестабилизации и внешней турбулентности, как не раз бывало и прежде, например, во втором десятилетии XX века. Можно уверенно говорить лишь об отсутствии предопределенности того или иного направления исторической эволюции.
Описанные выше варианты действий России на международной арене в период третьего президентства Владимира Путина основываются на предположении об относительно инерционном характере трансформации мирового порядка, они ориентированы на умеренную турбулентность. При этом нет никаких гарантий, что в период 2012–2018 гг. мир и вместе с ним Россия не попадут в настоящий шторм. Причины и поводы могут быть разными – эскалация валютных войн, серия дефолтов национальных государств по суверенным долговым обязательствам, наконец, перерастание напряженности на Ближнем и Среднем Востоке в крупномасштабный военный конфликт. Сама безрезультатность антикризисных действий может усилить соблазн неконвенционального выхода из кризиса через военную встряску. Об этом писали и пишут многие, но показательно, что в последнее время такие варианты всерьез начинают рассматриваться и наиболее авторитетными аналитиками, к числу которых, в частности, относится Пол Кругман.
В многолетней эпопее вокруг ядерной программы Ирана наиболее угрожающей представляется именно динамика нарастания напряженности. Ее характерными особенностями являются сужение пространства маневра для принимающих решения политиков и резкое возрастание роли случайных факторов, способных привести к полной утрате контроля. Эта динамика в чем-то напоминает нарастание напряженности вокруг Балкан в период от Боснийского кризиса 1908 г. и вплоть до сараевского убийства. К счастью, в отличие от событий столетней давности, нынешняя ситуация дает основания рассчитывать, что России удастся избежать прямой вовлеченности в конфликт. Но и совсем остаться в стороне не получится, поскольку экономические последствия военного катаклизма будут глобальными. Соответственно, расчеты на сравнительно мягкую трансформацию мирового порядка окажутся опрокинутыми.
Хорошая новость состоит в том, что турбулентность не равнозначна предопределенности того или иного сценария. Сочетание факторов, благоприятствующих военному сценарию, является преходящим. Малый толчок может запустить цепную реакцию решений и действий, делающую конфликт неизбежным. Но возможно также, что «провоенная» комбинация факторов станет подвергаться эрозии, начнут усиливаться тренды, позволяющие отойти от опасной черты.
Однако планирование и принятие политических решений в условиях турбулентности все же должны учитывать возможность реализации наихудшего сценария. Пока нет уверенности, что политическое планирование осуществляется в России на соответствующем уровне. Еще меньше ее в том, что в период третьего президентства Владимира Путина страна окажется устойчивой к штормовым порывам. Назревшие преобразования политической системы, создавая дополнительные сложности в момент их осуществления, в долгосрочном плане могут способствовать большей устойчивости к внешним вызовам. Эти преобразования не гарантируют успехов Москвы на мировой арене, но по крайней мере уменьшат риски, связанные с внутренней политической поляризацией.
Д.В. Ефременко – доктор политических наук, зав. отделом социологии и социальной психологии Института научной информации по общественным наукам РАН.
Постсоветский интеграционный прорыв
Почему Таможенный союз имеет больше шансов, чем его предшественники
Резюме: За несколько лет постсоветская интеграция из преимущественно бумажного проекта и набора риторических конструкций превратилась в реальный фактор, влияющий на экономическое развитие. Однако дальнейшие перспективы не предопределены.
После распада СССР прошло два десятилетия, за которые между бывшими союзными республиками подписано огромное число соглашений, договоров и инициатив. Все они, однако, продемонстрировали неспособность «постсоветской интеграции» обеспечить реальное сотрудничество государств региона. Факт достаточно очевидный всем и в первую очередь самим участникам процесса. Тем более неожиданным для сторонних наблюдателей стало кардинальное изменение ситуации в последние три года. Таможенный союз (ТС) России, Белоруссии и Казахстана, запущенный в 2010 г., стал первой интеграционной группировкой, в рамках которой партнеры выполняют взятые на себя обязательства, не считаясь со значительными затратами. Намерение создать Евразийский экономический союз к 2015 г., обнародованное в ноябре прошлого года, представляется намного более реалистичным, чем большинство подобных постановлений, принятых ранее. Что изменилось на постсоветском пространстве, чтобы подобные проекты стали осуществимыми? Стоит ли рассчитывать на устойчивость новых инициатив? И, с другой стороны, достаточны ли их цели в контексте проблем, стоящих перед постсоветскими странами, и возможностей экономического развития, которыми грех не воспользоваться?
На пути к реальной интеграции
Прежде всего кратко напомним хронологию появления нового поколения интеграционных структур на постсоветском пространстве. Первые призывы к бЧльшему «прагматизму» в сфере интеграции и отказу от нереалистичной риторики прозвучали еще в начале 2000-х годов. Тем не менее вплоть до недавнего времени настоящее сотрудничество наблюдалось лишь в отдельных областях, где нужно решать вопросы общей инфраструктуры, созданной еще в советский период – например, железнодорожных путей или электроэнергетики. Попытки вдохнуть жизнь в существующие структуры сопровождались лишь ростом противоречий. Первыми ласточками изменений можно считать две организации, созданные в 2006 г. – Евразийский банк развития (ЕАБР) и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ. В отличие от предыдущих инициатив, целью новых стала поддержка конкретных проектов (либо в вопросах развития инфраструктуры и экономики, как банк, либо в начинаниях в сфере культуры и образования, как фонд), а не общие нормы и координация политики. Четкая ориентация на конкретные прикладные задачи сотрудничества позволила избежать превращения этих организаций в очередные бумажные структуры.
Однако подлинный прорыв принесло, казалось бы, неожиданное обстоятельство – мировой экономический кризис 2007–2009 годов. Вместо того чтобы принимать все более жесткие односторонние протекционистские меры (как это нередко бывает в условиях глобальных потрясений), постсоветские государства, напротив, попытались наладить более эффективное сотрудничество. Крупным решением, напрямую связанным с кризисом, стало создание в 2009 г. Антикризисного фонда ЕврАзЭС с капиталом в 8,513 млрд долларов. На фонд возложена двойная функция: во-первых, предоставлять стабилизационные кредиты, исполняя функции своего рода «регионального МВФ», компенсировать дефициты платежного баланса и бюджета, а также поддерживать национальную валюту, и, во-вторых, укреплять региональное сотрудничество в качестве кредитора крупных инвестиционных проектов. На данный момент займы фонда предоставлены Таджикистану и Белоруссии. Постсоветская интеграция стала финансово привлекательной, по крайней мере для некоторых стран.
В 2010 г., как упомянуто выше, вступил в силу ТС – самое впечатляющее на сегодняшний день достижение постсоветской интеграции. Главные элементы – это общие пошлины по отношению к третьим странам и общий таможенный кодекс, регулирующий большинство торговых вопросов стран-участниц. Таможенный союз действует по схеме пропорционального голосования, но до сих пор все решения принимались на основе консенсуса. Участникам пришлось внести серьезные изменения во внешнеэкономическое регулирование. Казахстан, например, повысил 45% таможенных тарифов и снизил 10%. Помимо отношений с третьими странами, ТС повысил возможности и для взаимодействия между странами-участницами, причем не только в сфере торговли: в приграничных районах некоторые российские компании рассматривают вариант перехода под юрисдикцию Казахстана с более низким налоговым бременем.
Однако еще больший эффект от либерализации инвестиционных потоков можно ожидать в связи с вступлением в силу с 1 января 2012 г. пакета соглашений о Едином экономическом пространстве (ЕЭП). В настоящий момент ЕЭП уже включает 17 соглашений, еще 55 находятся в стадии подготовки. Они касаются свободы передвижения капитала и труда, общей политики конкуренции (включая естественные монополии, закупки и субсидии), координирования макроэкономической политики, торговли услугами, технических стандартов, а также доступа к газо- и нефтепроводам, электросетям и железнодорожным сетям. Для координации ЕЭП в феврале 2012 г. создана Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – наднациональный орган с широкими полномочиями. Интересно, что «нижняя палата» ЕЭК – коллегия – построена по образцу комиссии ЕС и состоит из чиновников, отвечающих за конкретные функциональные направления интеграции, а не выступающих исключительно в роли представителей своих стран. К последующим мерам, направленным на создание Евразийского экономического союза, относятся, к примеру, утверждение с 2013 г. единого железнодорожного тарифа на грузы и национальный режим государственных закупок для всех компаний трех стран-участниц, начиная с 2014 года.
«Интеграция снизу» и глобальный кризис
Успех ТС и ЕЭП представляется тем более неожиданным, что он, казалось бы, противоречит логике развития постсоветского пространства. Двадцать лет назад бывшие республики СССР были гораздо более тесно связаны между собой с экономической точки зрения – а их интеграция (в том числе и в форме рублевой зоны) полностью провалилась. Достижения постсоветской интеграции последних лет, вероятно, связаны с двумя обстоятельствами – ростом реальной интеграции «снизу» в 2000-е гг. и глобальным экономическим кризисом.
Во-первых, описывать все двадцатилетие после распада СССР как период постоянно углубляющейся фрагментации было бы некорректно. Действительно, многие старые «советские» связи оказались разорваны – однако с начала 2000-х гг. им на смену пришли новые формы взаимозависимости. Экономический рост России и Казахстана с 1999–2000 гг. резко увеличил аппетиты нарождающихся транснациональных корпораций этих стран, приступивших к интенсивному освоению постсоветского пространства. Уже сегодня российский бизнес, например, доминирует в сфере мобильной сотовой связи в большинстве стран СНГ; российские компании играют важную роль и во многих других отраслях. Казахстан являлся лидером в инвестициях в банковском секторе стран СНГ до 2008 года. Другая форма новой взаимозависимости – трудовая миграция. Если в 1990-е гг. миграционные потоки в СНГ носили преимущественно характер постоянного переселения и были связаны, например, с оттоком русскоязычного населения из новых независимых государств, то в последнее десятилетие наблюдался экспоненциальный рост временной миграции, основанной на преимущественно экономических факторах. В результате денежные переводы трудовых мигрантов стали в некоторых странах СНГ основой экономического роста. В России же трудовые мигранты производят, по оценкам экспертов, около 6% ВВП страны.
Представление о безусловном росте взаимозависимости постсоветских стран было бы, конечно, тоже большим упрощением. Процессы регионализации по-разному проявляются в различных сферах взаимодействия (они, например, гораздо менее затратны в сфере взаимной торговли) и в неравной степени затрагивают разные страны. По оценкам Системы индикаторов евразийской интеграции ЕАБР – набора показателей, характеризующих экономическую взаимозависимость постсоветских стран за последнее десятилетие – можно говорить о формировании своеобразного интеграционного ядра России, Белоруссии и Казахстана уже с 2004–2005 гг., «интеграция снизу» шла быстрыми темами. Возможно, создание ТС во многом и стало следствием роста взаимосвязей в пределах этого ядра.
Во-вторых, то обстоятельство, что ТС и ЕЭП возникли вскоре после того как постсоветское пространство накрыла волна глобального кризиса – больше чем совпадение. Логика регионализма здесь в корне отличается от «стандартной», хорошо изученной в мировой литературе. Как правило, стартовой площадкой интеграции служит существование нескольких обособленных в экономическом плане стран, для которых интеграционные процессы, как минимум в краткосрочной перспективе, связаны со значительными издержками: региональная интеграция требует изменений в законодательстве и адаптации к новым стандартам, она сопровождается ростом конкуренции. Неудивительно, что политики скорее склонны поддерживать региональную интеграцию в более благополучные периоды (когда эти издержки не столь заметны) и в гораздо меньшей степени склонны затевать интеграционные проекты в момент кризиса – достаточно вспомнить период стагнации в развитии европейской интеграции в 1970-е годы.
На постсоветском пространстве ситуация противоположная. Между странами сохраняется взаимозависимость, унаследованная от советского периода. Поэтому выбор дезинтеграционного курса, для чего требуется создание новых отраслей промышленности и поиск других способов интеграции в глобальное разделение труда, зачастую обходится дороже. Поэтому именно в периоды кризисов региональная интеграция представляется более приемлемой альтернативой – в «тучные годы» страны, напротив, могут экспериментировать с различными вариантами политики автаркии или с поиском новых партнеров. Иначе говоря, шок от глобальной нестабильности (нанесший болезненный удар и по Казахстану, первым на постсоветском пространстве ощутившему волну кризиса уже в 2007 г., и по Белоруссии, двумя годами позже вынужденной пойти на масштабную девальвацию своей валюты, и по России) сблизил постсоветские страны.
Проблемы и противоречия
Реальная ситуация, конечно, не столь безоблачна. ЕЭП и ТС сталкиваются с рядом серьезных проблем, решение которых и определит будущее этих организаций. В краткосрочной перспективе главные сложности носят технический характер. Нормы таможенного кодекса ТС нередко, хотя и лишь отчасти, противоречат нормам национального законодательства, далеко не всегда отработан порядок их правоприменения. Для ЕЭП механизмы реализации базовых соглашений еще только предстоит создать. Подобного рода проблемы неизбежны при осуществлении столь крупных проектов, но способны оказаться фатальными, особенно в условиях неэффективной бюрократии, делая интеграционную структуру непривлекательной для бизнес-структур. Необходимо отметить, что комиссия ТС приняла целый ряд важных мер, призванных исправить положение дел в этой области.
Трудности связаны прежде всего с дисбалансом преимуществ и издержек между странами ЕЭП. Для Казахстана и Белоруссии ТС предполагает значительное увеличение пошлин на импорт, и как следствие – рост цен и искажение структуры торговых связей. Для России неясно, например, каким образом фитосанитарные стандарты, принятые властями отдельных стран, будут реализовываться и контролироваться на территории ТС. В принципе, по существующим оценкам (а на сегодняшний день крупные исследования, посвященные ТС и ЕЭП, опубликованы Всемирным банком и Центром интеграционных исследований ЕАБР), новые интеграционные структуры способны содействовать росту своих членов за счет большей емкости внутреннего рынка и интенсивной конкуренции, но лишь при реализации ряда условий, и в первую очередь устранении нетарифных барьеров. Пока что процесс установления общих технических и фитосанитарных норм на территории ТС идет медленно.
В среднесрочной перспективе перед ЕЭП встает хорошо известная по европейскому опыту дилемма «расширения или углубления». Одна из причин успеха ТС заключается в том, что, в отличие от предыдущих проектов региональной интеграции с нереалистичными амбициозными программами, Таможенный союз сосредоточился на четко очерченной и достаточно узкой цели. При этом членство в ТС намного более однородно, чем во многих других региональных соглашениях бывшего Советского Союза, и в данном конкретном случае круг участников подобран удачно (в отличие от других проектов). Способен ли союз «тройки» выйти за пределы первоначальной повестки дня? Вступление в силу пакета соглашений ЕЭП показывает, что да. Но тут же правомерен следующий вопрос: не представляет ли столь быстрое движение всего за два года (переход от формата ТС с не полностью еще разрешенными техническими проблемами к ЕЭП) значительный риск с точки зрения перспектив углубления интеграции? Неудачи способны подорвать доверие к ЕЭП со стороны населения и бизнеса, а государственный аппарат может попросту не справиться с заданным темпом. Однако особенность постсоветского пространства (в отличие, скажем, от европейского опыта) состоит в том, что взаимосвязи в области движения факторов производства (для стран ТС речь идет о капитале, а для других стран СНГ и ТС – рабочей силе) развиваются гораздо более динамично, чем в сфере торговли. С этой точки зрения останавливаться на формате ТС нецелесообразно – он лишь косвенно затрагивает взаимодействие в областях, где «интеграция снизу» идет действительно интенсивно. Парадоксальным образом в постсоветском мире (как, возможно, и в ряде других группировок развивающихся стран) реального успеха может добиться лишь достаточно глубокая форма интеграции.
Вопрос расширения ТС в настоящее время активно обсуждается в первую очередь в связи с двумя странами: Украиной и Киргизией. Членство Украины в ЕЭП – вопрос довольно проблематичный, несмотря на все усилия «тройки» (особенно России) и тесные экономические связи. Вхождение Украины в ЕЭП с последующим технологическим сближением, по экспертным оценкам, обеспечит в долгосрочной перспективе положительный эффект до 6% ВВП (таков результат совместного проекта ЕАБР с Институтом народно-хозяйственного прогнозирования РАН и Институтом экономической политики НАНУ). Однако чрезвычайно сильны политические факторы, препятствующие интеграции. Даже такой нейтральный и не требующий принципиального выбора вопрос, как вступление Украины в акционеры ЕАБР, пробуксовывает, несмотря на очевидные выгоды для Киева.
Что касается Киргизии, то вхождение в состав ЕЭП и ТС весьма вероятно, что, впрочем, связано с уязвимым экономическим положением страны. Киргизская экономика в последние годы росла прежде всего за счет превращения в перевалочную базу реэкспорта китайских потребительских товаров в страны СНГ и Центральной Азии, что стало возможным по причине крайне либерального внешнеторгового регулирования. Оказавшись вне пределов ТС, Бишкек больше не в состоянии обеспечивать эту роль в связи с ростом таможенных барьеров на границе с Казахстаном, куда и направляются китайские товары; вступив в Таможенный союз, Киргизия будет вынуждена ужесточить свой внешнеторговый режим, что также частично закроет «окно» для торговли с Китаем. Расчеты разных коллективов (Центр интеграционных исследований ЕАБР, НИСИ Кыргызстана) показывают, что баланс преимуществ и недостатков – в пользу вступления в Таможенный союз. Еще одной проблемой является членство Киргизии в ВТО: вступление в ТС предусматривает повышение тарифов, причем некоторых из них – до уровня, противоречащего требованиям ВТО. Безусловно, ожидаемое вступление России и Казахстана в эту организацию облегчит решение данной проблемы.
В долгосрочной перспективе, наконец, существует ряд факторов, сдерживающих развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве, с которыми раньше или позже придется столкнуться и Евразийскому экономическому союзу. Во-первых, доминирование ресурсного сектора в экономике двух из трех государств ЕЭП делает ограниченной отдачу от интеграционного взаимодействия – ключевые нефтегазовые отрасли России и Казахстана все равно ориентированы на внешние рынки. Следовательно, успех интеграции требует диверсификации экономики и сокращения сырьевой зависимости – задача, примеров успешного решения которой в мире практически нет. Во-вторых, прогресс постсоветской интеграции зависит и от успехов в области модернизации институтов и общества постсоветских стран – еще одна крайне сложная задача.
От постсоветской к евразийской интеграции
Проблемы, однако, не ограничиваются взаимодействием, собственно, постсоветских стран, они затрагивают и характер их отношений с остальным миром. Для многих (в том числе и для России) ЕС является более важным торговым партнером, чем ближайшие соседи. В Центральной Азии, а в последние годы – в Белоруссии и Украине медленно, но верно растет роль Китая как источника инвестиций и займов. И игроки, и наблюдатели, похоже, едины в том, что постсоветская интеграция и европейский интеграционный вектор принципиально несовместимы, и страны Восточной Европы – Украина, Белоруссия, Молдавия – должны сделать однозначный выбор в пользу того или иного направления. Мы вправе усомниться, насколько такое представление соответствует действительности, но пока оно доминирует и оказывает ярко выраженное негативное воздействие на динамику интеграции в Северной Евразии. Поэтому особенно важно еще раз подчеркнуть – потенциал интеграционных проектов на постсоветском пространстве сможет полностью реализоваться, только если они будут осуществлены как часть более широкой трансконтинентальной интеграции с участием внешних игроков.
Прежде всего это касается инфраструктурных сетей. Географическое положение постсоветских стран между Европой и Азией позволяет государствам СНГ извлекать большую выгоду из своего транспортного потенциала – но только если он увязан с трансграничными транспортными проектами, реализуемыми в других частях Евразии, например, Евросоюзом или Азиатским банком развития. В области электроэнергии общий рынок бывшего Советского Союза, главным образом унаследованный от объединенных энергосистем СССР, был бы более эффективен, будь он замкнут и на энергетические рынки других стран, например, ЕС, Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана и Китая. Точно так же преимущества открытых границ с внешними игроками относятся к торговле и инвестициям, где подобный «открытый регионализм» позволяет избежать конфликтов между интеграционными проектами. Вообще при конструировании новых интеграционных проектов необязательно жестко следовать границам бывшего СССР – напротив, нет ничего более естественного, чем поиск новых партнеров за их пределами, особенно в Европе и Восточной Азии.
Способ организации взаимодействия с внешними игроками различается на западном и восточном флангах постсоветского пространства. На западе приоритетом можно считать структурирование Евразийского экономического союза таким образом, чтобы участие в нем совмещалось с сотрудничеством с ЕС. Например, унификация стандартов, технических и фитосанитарных норм. Конечно, речь идет не об одномоментном решении. Унификация связана со значительными издержками, но оптимальный вариант развития – это принципиальный поиск решений, совместимых с европейскими. В торговой сфере это, вероятно, углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (DCFTA) ТС и ЕС, учитывающая не только торговые аспекты как таковые, но и единые стандарты, защиту инвестиций, вопросы миграции и визового режима. Говорить о таком сценарии можно и нужно, даже если сегодня он сложнореализуем. В условиях кризиса модели объединения Евросоюз может стать более автаркичным, понадобится время на то, чтобы решить внутренние проблемы фискальной интеграции.
В Азии ситуация, казалось бы, несколько проще – интеграционные проекты носят более гибкий характер и затрагивают ограниченный круг вопросов, так что конкуренция интеграционных инициатив отсутствует, и вовлечение игроков во взаимодействие с постсоветской интеграционной группировкой связано с меньшими институциональными сложностями. Но и здесь немало проблем.
Во-первых, крайне важно избежать превращения постсоветских соглашений в гигантские структуры, включающие огромное количество часто несовместимых игроков – стоит вспомнить опыт АТЭС, оказавшегося жертвой собственного успеха (последовательное применение принципа открытого регионализма привело к росту числа членов организации и их разнородности и в конечном счете значительно снизило дееспособность организации). Во-вторых, и в Азии заметен дефицит доверия – тот же Китай вызывает немалые опасения у элит и населения постсоветских стран (хотя порой это скорее результат мифотворчества, а не реальных рисков). Поэтому в идеале взаимодействие Евразийского экономического союза с азиатскими странами могло бы опираться на ряд комплексных двусторонних зон свободной торговли (желательно включая дополнительные соглашения по безвизовому перемещению и миграции рабочей силы), а также на «функциональные» проекты по эффективному объединению транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктур.
* * *
За несколько лет постсоветская интеграция из преимущественно бумажного проекта и набора риторических конструкций, к которым отдельные страны прибегали для нужд внутренней политики, превратилась в реальный фактор, влияющий на экономическое развитие. Однако дальнейшие перспективы не предопределены. С одной стороны, именно текущий формат, сосредоточенный на небольшой группе стран и преследующий конкретную цель (торгово-экономическое сближение), стал основой успеха ТС. С другой стороны, действительно крупного успеха можно добиться, только переступив через нынешние границы – как географические, например, за счет углубления взаимодействия с Китаем и Европейским союзом, так и функциональные – охватив вопросы движения факторов производства, обеспечив единые правила игры (техническое регулирование, доступ к услугам монополий) и гарантировав координацию макроэкономической политики. Наконец, постсоветский регионализм ни в коем случае не является альтернативой глобальной интеграции, например, в рамках Всемирной торговой организации (как порой утверждается). Преимущества от членства в ВТО для стран ЕЭП значительны, поэтому региональный проект должен рассматриваться как процесс, параллельный с глобальной экономической интеграцией.
Е.Ю. Винокуров – доктор экономических наук, директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития.
А.М. Либман – доктор экономических наук, профессор международной политэкономии Франкфуртской школы финансов и менеджмента и старший научный сотрудник Института экономики РАН.
Не в демократии дело
Какой будет внешняя политика демократической России
Резюме: Определение сходств и различий внешней политики будущей демократической России и нынешнего курса Путина/Медведева поможет разграничить глубинное и конъюнктурное. В чем состоят ключевые внешнеполитические интересы, не зависящие от правящего режима, а в чем особые интересы авторитарной власти.
Статья опубликована в журнале New Zealand International Review.
Если бы Россия стала по-настоящему демократической страной, какова была бы ее внешняя политика? Отличалась ли бы она от той, что мы видим сегодня? Совпадала бы в большей степени с внешнеполитическим курсом США? Станет ли новая Россия разделять ценности, которых придерживается Евросоюз в отношениях с другими странами? Или серьезные разногласия с Западом сохранятся?
Сама по себе постановка таких вопросов предполагает, что Россия может стать и станет когда-нибудь полноценной демократией. Многие немедленно возразят, что это маловероятно и даже невозможно. Но ни одна страна не являлась демократией изначально. Сначала все государства были авторитарными. Утверждение, будто кто-либо, например Россия, не будет (или, что еще хуже, не может быть) демократическим государством, гораздо более сомнительно, чем предположение, что это когда-нибудь произойдет. При этом очень сложно предсказать, как и когда это случится. Быстро и неожиданно в результате «цветной революции». Или в ходе эволюционного процесса, который продлится несколько лет или даже десятилетий.
Внутренняя политика администрации Путина/Медведева и курс демократической России будут существенно различаться. Но насколько изменится внешняя политика? Она, вероятно, не во всем будет совпадать с нынешним курсом, однако в целом, скорее, останется прежней. В конце концов, не все демократии солидарны с американской линией. Франция, в частности, демонстрировала это неоднократно. У демократической России тоже могут быть разногласия с Вашингтоном, Парижем, Евросоюзом в целом.
Определение сходств и различий внешней политики демократической России и курса Путина/Медведева поможет разграничить ключевые внешнеполитические интересы – вне зависимости от правящего режима – и особые интересы авторитарной власти, которые могут измениться в процессе демократизации.
Надо ли России в ЕС?
Некоторые вопросы, осложняющие сегодня российско-европейские отношения, могут стать менее значимыми или вообще исчезнуть. Хотя ряд разногласий, скорее всего, сохранится, а некоторые обострятся. Нынешняя озабоченность Европы по поводу недемократичности России просто исчезнет, вопросы защиты прав граждан и необходимости верховенства закона потеряют актуальность (хотя споры по поводу расхождения достижения этих целей останутся). Тем не менее никуда не денутся серьезные споры, касающиеся отношений России и Европейского союза (связи России и НАТО также могут оказаться источником проблем, но об этом ниже).
Неизбежно возникнет следующий вопрос: должна ли Россия присоединиться к Евросоюзу? Плюсы включают возможность для россиян свободно путешествовать, учиться и работать в странах ЕС. Минусы будут связаны с тем, что России придется не только разрешить европейским корпорациям свободу торговли и инвестиций на своей территории, но и обеспечивать защиту прав, несмотря на возражения их российских конкурентов и общественное мнение. Хотя приобретение европейскими фирмами с качественным менеджментом плохо управляемых российских компаний, замена их руководства и полная реорганизация отвечают долгосрочным интересам страны, это, несомненно, окажется очень болезненным для некоторых категорий россиян (особенно высокопоставленных управленцев). Демократической России придется решить для себя: превышают ли выгоды от вступления в Евросоюз вероятные издержки?
Но даже если демократическая Россия захочет присоединиться к ЕС, это не означает, что Европейский союз согласится. Те, кто выступает против принятия Турции и Украины, не желая распространять блага объединения на две эти густонаселенные, но довольно бедные страны, будут возражать и против вступления России. Латентный страх перед Москвой сохраняется в некоторых странах Восточной Европы, поэтому они будут стремиться блокировать интеграцию. Разумеется, более влиятельные западноевропейцы, которые сегодня не обращают особого внимания на восточноевропейские страхи по поводу авторитарной России, тем более проигнорируют их, когда дело будет касаться России демократической. Однако даже для Западной Европы основная выгода обсуждения с Москвой перспектив интеграции заключается в том, что это станет наилучшим способом изменить ее поведение в сторону соответствия европейским нормам.
Так, Евросоюз, вероятно, будет ожидать от демократической России, стремящейся вступить в ЕС, поддержки демократических преобразований в Белоруссии; сокращения военного присутствия в Калининграде и вывода войск из Приднестровья; усилий, направленных на разрешение приднестровской проблемы и воссоединение региона с Молдавией; содействия признанию Сербией независимости Косово и нормализации отношений между ними; отказа от идеи особой зоны российского влияния, включающей бывшие западные советские республики (Прибалтика, Белоруссия, Украина и Молдавия).
Европейский союз можно рассматривать как клуб. Правила в клубах устанавливают те, кто вступил первым. Присоединившиеся позже могут изменить эти нормы (если им удастся убедить в необходимости этого других членов), но чтобы получить право войти, им придется принять существующий устав. Клубы не меняют свои правила ради удовлетворения тех, кто стремится вступить. Разумеется, отнюдь не факт, что даже демократическая Россия захочет принять условия участия, которые, без сомнения, выдвинет Евросоюз. Однако совершенно очевидно, что ЕС не изменит существующие нормы, чтобы выполнить пожелания Москвы.
Между Ираном и Израилем
Нынешняя внешняя политика России на Ближнем Востоке уже достаточно сложна. Курс демократической России, вероятно, будет еще более многослойным.
При Путине и Медведеве Москва укрепила связи практически со всеми крупными игроками в регионе – Ираном, Израилем, консервативными и радикальными арабскими правительствами и даже с ХАМАС и «Хезболлой». В целом у Москвы хорошие отношения со всеми, кроме «Аль-Каиды» и ее подразделений – поскольку с ними, разумеется, не ладит никто.
Даже сейчас в России существуют сторонники строительства и поддержания хороших отношений с некоторыми специфическими ближневосточными государствами. Нефтяная индустрия России, например, заинтересована в улучшении российско-иранских связей, дабы увеличить свою долю в прибыльном иранском нефтяном секторе. Российская оборонная промышленность также хотела бы экспортировать больше оружия в Иран. Разумеется, обе эти отрасли хотят сотрудничать и с другими ближневосточными государствами, у многих из которых скверные отношения с Тегераном.
Министерство обороны России – за улучшение российско-израильских отношений, поскольку Израиль превратился в важный источник военных технологий. Их использование поможет расширить экспорт российских вооружений в некоторые страны, поэтому у российского оборонного комплекса существует мощный стимул для укрепления связей с израильтянами.
До сих пор российское общественное мнение мало влияло на отношения Москвы с Ближним Востоком. Если Россия станет демократической, она, вероятно, будет играть важную роль в формировании внешней политики в этом регионе – как это происходит с другими демократиями. Однако, как и там, общественность может быть расколота по поводу Ближнего Востока. Так, значительное мусульманское население будет настроено в поддержку палестинцев и против Израиля – как оно настроено в других, преимущественно немусульманских странах. Поскольку мусульманское меньшинство в России достаточно велико (около одной восьмой от населения страны) и численность мусульман существенно превышает численность евреев, у правительства появятся серьезные мотивы, чтобы пойти навстречу пожеланиям этой части электората. Однако в силу враждебности между русскими и мусульманами, а также страха перед исламским радикализмом внутри страны многие избиратели будут рассматривать Израиль как союзника в борьбе с общим исламским противником. Обширные культурные, торговые и туристические связи, укрепляющиеся между Россией и Израилем, могут содействовать появлению влиятельного израильского лобби (на самом деле оно уже существует).
Как и в других демократических странах, правительство будущей России может столкнуться с давлением противоборствующих групп при формулировании ближневосточной политики. Вероятно, Москва будет стремиться поддерживать хорошие отношения со всеми сторонами палестино-израильского и других конфликтов.
Наконец, можно уверенно прогнозировать, что, как и другие демократии, Россия опасается роста исламского радикализма в результате попыток демократизации на Ближнем Востоке (как это происходит сейчас). И, возможно, появится гораздо больше оснований для беспокойства по поводу внутренних последствий роста исламского радикализма на Ближнем Востоке, чем у других демократических стран.
Вокруг Китая
У демократической России, скорее всего, останутся те же интересы в отношении Азии, как и при Путине/Медведеве. Демократическая или авторитарная Москва одинаково озабочена ростом Китая. Стремясь к хорошим отношениям с поднимающимся Китаем, любая Россия будет рассматривать дружбу с Индией как противовес Пекину. И считать Пакистан, который продолжает поддерживать «Талибан» и другие радикальные исламистские группировки, серьезной угрозой национальным интересам.
В самом деле, если американские войска покинут Афганистан, соперничество за эту страну между Пакистаном, с одной стороны, и авторитарной либо демократической Россией – с другой, вполне может возобновиться. Если Исламабад поддержит стремление преимущественно пуштунского «Талибана» вернуться к власти, то Москва – независимо от типа режима – скорее всего, встанет на сторону сопротивляющихся этому узбеков и таджиков северного Афганистана, как уже было в 1990-е годы. Естественными союзниками демократической или авторитарной России в этих усилиях окажутся США (которые, вероятно, продолжат предоставлять военную помощь Кабулу даже после вывода войск), Индия и, возможно, даже Иран (который тоже опасается антишиитского «Талибана»).
Внешняя политика в Азии может быть схожа с нынешней еще по двум вопросам. Так, демократическая Россия вряд ли окажется склонна к уступкам Японии по вопросу о Курилах. На самом деле общественное мнение, настроенное против любых территориальных компромиссов, может сделать разрешение спора вокруг «северных территорий» еще более сложным. Точно так же демократическая Россия вряд ли будет готова больше, чем ныне, оказывать давление на КНДР в вопросе о ее ядерной программе, поскольку не захочет навлекать на себя гневные проклятия вспыльчивых северокорейских руководителей. Наконец, так же как и при Путине/Медведеве, демократическая Россия сосредоточится на продвижении коммерческих интересов Москвы в Азии.
Пожалуй, в одном азиатская политика будет отличаться от нынешнего курса – она может оказаться более чувствительной к любым проявлениям страхов российского общества относительно роста Китая, посягающего как на российские интересы, так и на сферу российского влияния в Центральной Азии. Эти опасения способны подтолкнуть Москву к более тесному сотрудничеству с другими странами, обеспокоенными подъемом Китая, – в особенности с Индией, Соединенными Штатами и даже Японией. Но, как и режим Путина/Медведева сегодня, правительство демократической России не захочет ухудшения отношений с Пекином, чтобы не лишать его стимулов к поддержанию тесных связей с Москвой.
Демократическая трансформация – ни за, ни против
В отношении Латинской Америки и Африки будущая Россия, вероятно, сохранит нынешний курс. Как и сейчас, интересы там будут в первую очередь коммерческими. Москва сосредоточится на укреплении экономических отношений с более богатыми государствами, в особенности с Мексикой, Бразилией, Чили, ЮАР и, возможно, Нигерией. Учитывая исторические связи, а также значительные нефтяные ресурсы, Москва, вероятно, продолжит развивать контакты с Анголой.
В отличие от сегодняшнего дня, демократическая Россия, наверное, станет меньше поддерживать антиамериканские режимы в Латинской Америке: Кубу, Венесуэлу, Боливию, Эквадор и Никарагуа. Однако пока это приносит прибыль, деловые интересы (особенно в нефтяной сфере и в области вооружений) будут направлены на торговлю с ними и инвестиции в эти страны. Кроме того, даже демократическая Россия может увидеть определенные преимущества в сохранении антагонистических отношений между Соединенными Штатами, с одной стороны, и левыми режимами Латинской Америки – с другой. Если американские корпорации не хотят или не могут (из-за санкций Вашингтона) торговать с этими странами и инвестировать в их экономики, это дает больше возможностей компаниям из России (а также из других государств). Но если какой-либо из левых режимов Латинской Америки попытается захватить активы или в одностороннем порядке ограничить деятельность российских фирм (как Уго Чавес поступил с западными корпорациями), демократическая Россия поддержит свои компании – так же, как и при Путине/Медведеве.
Однако в отличие от нынешнего правительства Россия в будущем вряд ли станет возражать против демократической трансформации любого из антиамериканских авторитарных (или квазиавторитарных) режимов в Латинской Америке и Африке. Но не будет активно содействовать этому процессу – также как нынешнее правительство Путина/Медведева не предпринимает активных шагов, чтобы его предотвратить. Как сейчас, так и в будущем Латинская Америка и Африка вряд ли окажутся приоритетом для России.
Отказ от нулевой суммы
Демократическая Россия, несомненно, захочет сохранить влияние в бывших советских республиках. И точно так же, как при Путине/Медведеве (а возможно, даже больше), Москва будет озабочена положением русских. Однако этих целей, наверное, станут добиваться иначе, нежели сейчас.
Демократическая Россия может использовать более грамотный подход для сохранения влияния в ближнем зарубежье. Правительство Путина/Медведева рассматривает этот вопрос с точки зрения игры с нулевой суммой: увеличение западного влияния означает уменьшение российского и поэтому вызывает сопротивление. Другая Россия, напротив, может осознать, что рост западного влияния послужит ее собственным интересам. Если такое влияние поможет сделать эти страны более процветающими, объем их торговли с Россией возрастет. А если воздействие Запада поможет им стать более стабильными, это будет выгоднее для Москвы, чем нестабильность.
Сейчас у России часто возникают споры с тремя прибалтийскими государствами (членами ЕС и НАТО), но демократическая Россия может посчитать хорошие отношения с ними важным аспектом укрепления связей с США и Евросоюзом. Она также не будет опасаться демократизации на Украине или в Белоруссии, как это происходит сейчас. И вряд ли станет считать значимым сохранение войск в Приднестровье, как и поддержку авторитарного режима в Тирасполе.
В отношениях с преимущественно мусульманскими бывшими советскими республиками (четыре государства Центральной Азии плюс Азербайджан) будущая Россия не поддержит попытки демократизации, которые могут привести к появлению там радикальных исламистских режимов. Разумеется, этого сегодня опасается не только правительство Путина/Медведева, но и Запад. Раз уж Соединенные Штаты и другие демократии посчитали разумным поддержать авторитарные режимы в преимущественно мусульманских постсоветских республиках, неудивительно, если Москва поступит так же.
Скорее всего, общественное мнение продолжит поддержку православной Армении в длительном конфликте с мусульманским Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха. Проблемой останется Грузия, над которой российские войска взяли верх в ходе блицкрига в августе 2008 г., завершившегося признанием независимости Абхазии и Южной Осетии. Хотя Тбилиси продолжит требовать возвращения территорий, как добиться этого на демократической основе – неясно. С другой стороны, демократическая Россия вряд ли вновь вступит в войну с Грузией, как это случилось при Путине/Медведеве. Разве что в случае вспышки нового кризиса, если Москва будет рассматривать правительство Грузии как авторитарное и агрессивное.
Россия как Франция
Отношения с Соединенными Штатами, вероятно, улучшатся, но не будут абсолютно гладкими. Скорее стоит прогнозировать подобие модели США–Франция (по крайней мере до прихода Саркози). Как и Франция, демократическая Россия, считая себя великой державой, будет сопротивляться американским попыткам продиктовать другим демократиям внешнеполитическую повестку дня. Будущее НАТО окажется даже более спорным вопросом, чем при нынешнем режиме. Потому что если Россия станет по-настоящему демократической, она не будет представлять угрозу для Европы или Америки, какие цели останутся у НАТО? С другой стороны, демократическая Россия, все больше опасающаяся мощного и по-прежнему авторитарного Китая, сама может захотеть присоединиться к альянсу. Однако вступление России в НАТО – сложный и противоречивый процесс. В то время как Соединенные Штаты способны поддержать такой шаг, страны Восточной Европы и Балтии, которые в прошлом были оккупированы Советским Союзом и до сих пор боятся России, отнесутся к такой идее без энтузиазма. Сохраняющаяся напряженность между Москвой и Тбилиси также явится препятствием на пути России в НАТО (как сейчас это мешает вступлению туда Грузии). Наконец, так же как некоторые западноевропейские страны, стремясь к хорошим отношениям с Москвой, не особенно прислушивались к опасениям восточноевропейцев, государства и Западной, и Восточной Европы, стремясь к хорошим отношениям с Пекином, могут не прислушаться к опасениям России по поводу Китая.
Один путь, по которому может пойти внешняя политика демократической России, – это союз с Францией и Германией, чтобы попытаться ограничить действия США, как это было в 2002–2003 гг. перед американским вторжением в Ирак. Однако такая возможность пропадает, если Россия стремится к вступлению в Евросоюз, а Франция и Германия выступают против этой идеи или относятся к ней без энтузиазма. Еще один путь – взаимодействие демократической России и Соединенных Штатов ради нейтрализации усилий ЕС по ограничению действия обеих держав. Третий и, видимо, наиболее вероятный путь – сотрудничество демократической России в большей или меньшей степени и с Америкой, и с другими западными странами, но значительно более активное, чем в настоящее время, хотя разногласия по различным вопросам сохранятся.
* * *
Все эти предварительные прогнозы позволяют предположить, что внешняя политика демократической России во многом будет похожа на нынешний курс. Разногласия, имеющиеся сейчас между западными демократиями и правительством Путина/Медведева, вероятно, сохранятся и после демократических преобразований. Если два этих наблюдения верны, можно сделать следующие выводы:
Надежды Запада на то, что демократическая Россия будет проводить значительно более гибкую внешнюю политику, следуя примеру Соединенных Штатов и/или Евросоюза, вряд ли сбудутся.Как между Вашингтоном и Парижем часто вспыхивали споры, так и в отношениях между США и Евросоюзом, с одной стороны, и демократической Россией – с другой, могут возникнуть острые противоречия.Если внешняя политика демократической России действительно будет похожа на нынешний курс, значит, внешнеполитический курс Путина/Медведева в целом отражает общественное мнение в России.В этом случае правительство Путина/Медведева окажется невосприимчивым к американским и европейским попыткам изменить российскую внешнюю политику, если это вступит в серьезное противоречие с настроениями общества.По иронии, именно потому, что режим Путина/Медведева опасается демократизации и приложит все усилия, чтобы избежать перемен, российские вожди вряд ли будут проводить внешнюю политику, которая может вызвать внутреннюю оппозицию в России, несмотря на любые призывы Америки и Евросоюза.
Марк Катц – профессор государственного управления и политики в Университете Джорджа Мейсона (Фэрфакс, Вирджиния, США). Среди его книг: «Третий мир в советской военной мысли» (1982), «Россия и Аравия: советская внешняя политика на Аравийском полуострове» (1986), «Уйти без потерь: война с терроризмом после Ирака и Афганистана». Ссылки на многие его статьи по российской внешней политике и другим темам можно найти на сайте www.marknkatz.com.

Переменчивость и постоянство
Резюме: Бурный политический сезон в России не привел к кардинальному изменению системы, но продемонстрировал, что внутреннего застоя ожидать не стоит, а значит и внешнеполитическая сфера не избежит перемен.
Бурный политический сезон в России не привел к кардинальному изменению системы, но продемонстрировал, что внутреннего застоя ожидать не стоит, а значит и внешнеполитическая сфера не избежит перемен. Тем более что ситуация в мире заставляет постоянно быть начеку и не ничему не удивляться. Дмитрий Ефременко рассматривает российские события в контексте глобальной турбулентности и приходит к выводу, что в годы президентства Владимира Путина Россия, вероятнее всего, не избежит крупных потрясений, и курс на международной арене должен, прежде всего, способствовать минимизации рисков. Марк Катц фантазирует, какой могла бы стать внешняя политика Москвы в случае демократизации страны. По мнению автора, кардинальных перемен ждать не приходится, поскольку нынешний курс в основном исходит из традиционного понимания национальных интересов, которые преследует всякая российская власть. Он намного более постоянный и последовательный, чем многие хотели бы считать. Евгений Винокуров и Александр Либман подчеркивают, что приоритетом России всегда будет стремление к объединению наиболее важных соседних стран, начало которому положил Таможенный союз.
Поведение Москвы на международной арене будет в любом случае определяться глобальными тенденциями, а они непредсказуемы. Мир вступает в эпоху нового Средневековья, утверждает Параг Ханна, а это значит, что количество действующих лиц, которые влияют на ход событий, резко растет – от государств и корпораций до неправительственных организаций и религиозных объединений. Дэвид Кэмпбелл и Роберт Патнэм обращают внимание на то, как разрушительно срастание религии и политики воздействует на обеих в современной Америке. А Андрей Безруков сетует, что американская внешняя политика, двигаясь на «автопилоте», то есть по заранее заложенной траектории, не способна адекватно реагировать на происходящие в мире сдвиги.
Генри Киссинджер предостерегает – инерция традиционных подходов может толкнуть США и Китай к конфронтации, которая пагубна и для Вашингтона, и для Пекина, а главное, по мнению автора, не предопределена объективными факторами. Александр Дынкин и Владимир Пантин предполагают, что нынешний стремительный рост КНР, которой сегодня прочат чуть ли не мировое лидерство, продолжится до конца десятилетия, а потом западные страны смогут взять реванш, пользуясь нарастанием внутренних дисбалансов в Китае. Василий Кашин описывает, как меняются взгляды китайских аналитиков на роль Пекина в мире по мере осознания того, что скрывать мощь больше невозможно – амбиции увеличиваются.
Итоги первого года «арабской весны» подводят Фуад Аджами, склонный к оценкам в неоконсервативном духе, и Александр Аксенёнок, который призывает внимательно прислушиваться к осторожной российской позиции. Несмотря на очевидную разницу во взглядах, оба автора сходятся в одном: предсказать дальнейший сценарий практически невозможно, поведение исламистов не прогнозируемо. Андрей Бакланов напоминает о давних идеях Москвы – еще 1990-х и начала 2000-х годов – о создании многостороннего механизма поддержания безопасности на Ближнем Востоке. Сирийский кризис подтвердил их актуальность и теперь.
Кристиан Коутс-Ульрихсен анализирует политику Саудовской Аравии и Катара – держав, которые претендуют на ведущую политическую и идеологическую функцию в регионе и во многом служат внешними источниками дестабилизации светских диктатур в соседних странах. Месут Йылмаз рассматривает роль Турции и приходит к выводу, что Анкара не сможет стать моделью для новых арабских демократий – другие традиции и другая история. Кайхан Барзегар представляет иранский взгляд на события в Северной Африке и на Ближнем Востоке и опровергает утверждения арабских комментаторов, что политическое присутствие Тегерана и шиитский фактор служат катализатором беспорядков.
Нестабильность в регионе, который обеспечивает львиную долю мировых энергетических поставок, оказывает огромное влияние на сырьевую конъюнктуру. Наши авторы вступают в заочную полемику друг с другом о том, как глобальные энергетические тренды скажутся на отношениях России с ее главным клиентом в этой сфере – Евросоюзом. Франк Умбах уверен, что нежелание Москвы играть по правилам единой Европы и игнорирование изменений, связанных с появлением в мире глобального избытка газа, ведут Россию к утрате позиций основного поставщика. Светлана Мельникова считает надежды на то, что сланцевый газ перевернет мировые и европейский рынки, крайне преувеличенными, а планы ЕС по реформированию отрасли опасными. Тедо Джапаридзе и Илия Рубанис напоминают, что и позиции Европейского союза, и России сейчас ослаблены из-за экономического кризиса, и любое соперничество, обусловленное политическими мотивами, грозит коммерческими потерями.
В следующем номере мы продолжим дискуссию о том, какие возможности открываются перед российской внешней политикой при новом президенте и в условиях меняющейся мировой ситуации.
Ф.А. Лукьянов - главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Выпускник филологического факультета МГУ, с 1990 года – журналист-международник, работал на Международном московском радио, в газетах "Сегодня", "Время МН", "Время новостей". Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России.
Иран начал производство пептидных лекарственных средств и трех новых видов обезболивающих препаратов, сообщает во вторник агентство IRNA. Указанные лекарства будут производиться в Иране впервые силами местных специалистов и экспертов. В целом, препараты помогут вылечить, облегчить боль в таких сферах, как рак молочной железы, рак простаты, преждевременное половое созревание, регуляция гормона роста, лечение рассеянного склероза, боли после операции на позвоночнике. Среди препаратов, которые Иран будет производить в стране — фентанил цитрат, суфентанил цитрат, алфентанил гидрохлорид, и бусерелин ацетат.
Издание «Экономист» в своем последнем докладе прогнозирует значительный рост ВВП Ирана из расчета на душу населения в период до 2016 года, сообщает агентство ИСНА.
По оценкам названного издания, в прошлом году ВВП Ирана из расчета на душу населения составлял 6 тыс. 670 долларов, и в текущем году этот показатель вырастет до 7 тыс. 110 долларов.
В будущем году ВВП из расчета на душу населения достигнет 8 тыс. 30 долларов, а в 2014 году – 8 тыс. 760 долларов.
В 2015 году ВВП из расчета на душу населения вырастет еще на 1 тыс. 20 долларов и достигнет 9 тыс. 780 долларов. В 2016 году этот показатель прогнозируется в размере 10 тыс. 920 долларов.
Заместитель министра энергетики Мохаммед Бахзад в интервью агентству ИСНА заявил, что к будущему году производственная мощность иранских электростанций вырастет до 73 тыс. МВт.
По словам М.Бехзада, увеличение производства электроэнергии на 5 тыс. МВт представляет собой одну из важных программ министерства энергетики на текущий год.
В настоящее время установленная производственная мощность электростанций страны превышает 65 тыс. МВт.
М.Бехзад сообщил, что на данный момент при электростанциях ведется строительство новых хранилищ для жидкого топлива общей вместимостью до 500 млн. литров.
Кроме того, в текущем году планами министерства энергетики предусматривается дальнейшая электрификация сельских населенных пунктов и расширение экспорта электроэнергии в зарубежные страны.
М.Бехзад отметил, что увеличение производства электроэнергии в Иране происходит на фоне того, что за текущий год на 40% вырос экспорт электроэнергии.
Помимо того, что прежние потребители стали получать на 40% больше электроэнергии из Ирана, подписаны новые контракты на поставки электроэнергии, и предполагается, что в текущем году объем экспортных поставок превысит 10 млрд. кВт/час электроэнергии. В прошлом году зарубежным потребителям было поставлено 8,5 млрд. кВт/час электроэнергии, что более чем на 29% больше по сравнению с предыдущим годом.
По заявлениям представителей министерства энергетики, Пакистан, Турция, Ирак и Армения подписали с Ираном новые контракты с целью увеличения импорта электроэнергии.
Заместитель министра промышленности, рудников и торговли по вопросам промышленности и экономики Мохсен Салехиния в интервью агентству ИСНА сообщил, что на текущий год запланировано экспортировать 80-90 тыс. иранских автомобилей.
Мохсен Салехиния отметил, что в прошлом году экспортировать такое количество автомобилей не удалось. Этому было много причин, которые отчасти связаны с обстановкой на международной арене.
По словам Мохсена Салехиния, экспортные поставки иранских автомобилей на уже сформировавшиеся рынки, конечно, могут быть более успешными при правильном менеджменте, в частности при финансовом обеспечении таких поставок и при организации качественного послепродажного продажного обслуживания иранских автомобилей.
Следует отметить, что экспорт в текущем году 80-90 тыс. автомобилей запланирован в то время, как в прошлом году в общей сложности было экспортировано около 24 тыс. иранских автомобилей.
Заместитель министра экономики и финансов, руководитель Организации инвестиций и экономической и технической помощи Ирана Бехруз Алишири в ходе встречи с заместителем министра экономики и торговли Сирии заявил о необходимости расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества между странами региона и создания зоны свободной торговли между Ираном, Ираком, Сирией и Ливаном, сообщает агентство ИРНА.
По словам Бехруза Алишири, создание подобной зоны будет способствовать повышению уровня торгово-экономический отношений между перечисленными странами.
Бехруз Алишири отметил, что на повестке дня стоит вопрос об увеличении товарооборота между Ираном и Сирией до 4 млрд. долларов.
Подписание соглашения о свободной торговле и преференциальных таможенных тарифах стало очень важным шагом на пути создания условий для взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между частными секторами двух стран.
Самого пристального внимания требуют также совместные инвестиционные проекты.
Бехруз Алишири подчеркнул, что Иран готов поделиться своим опытом, предоставить техническую помощь и провести семинары для сирийских специалистов по вопросам привлечения иностранных инвестиций, развития рынка капитала и проведения приватизации.
Заместитель министра экономики и торговли Сирии с одобрением воспринял высказанные предложения и выразил надежду на то, что торгово-экономические отношения поднимутся до уровня существующих между двумя странами политических отношений. По его словам, этому во многом способствуют такие мероприятия, как проводимая в настоящее время специализированная выставка сирийских товаров в Тегеране.
Согласно опубликованным данным, общий объем грузов, перевезенных в прошлом году судоходной компанией «Хазар» («Каспий»), превысил 1,7 млн. т и вырос на 17,3% по сравнению с предыдущим годом, сообщает агентство ИРНА.
В том числе, объем импортных грузов, перевезенных за указанный период названной компанией, составил 1 млн. 150 т и экспортных грузов – 570 тыс. т.
Доля судов компании «Хазар», обработанных в прошлом году в северных портах Ирана, составила 30%. При этом на долю названной компании в общем объеме импортных грузов, доставленных в северные порты Ирана, приходится 20% и в общем объеме экспортных грузов, отправленных в соседние страны, – 40%.
С открытием 3 апреля 6-ти новых газовых автозаправочных станций (АЗС) численность таких АЗС по всей стране достигла 1879 единиц, сообщает агентство ИРНА.
Общее количество топливораздаточных колонок для сжатого природного газа (CNG) составляет 10 тыс. 894 единицы, и они обеспечивают заправку в баки автомобилей 1 млн. 994 тыс. 872 куб. м CNG в час.
Если суммировать автомобили, переоборудованные в двухтопливные в специальных автомастерских, и двухтопливные транспортные средства, выпущенные автозаводами, то всего на данный момент в Иране насчитывается более 2,8 млн. автомобилей, работающих на CNG.
В первом полугодии текущего года будет построено еще 340 новых газовых АЗС, что позволит увеличить долю газа в топливной корзине автомобилей, и в результате Иран выйдет на второе место в мире по количеству газовых АЗС.
Иранские власти заявляют об удвоении годового экспорта бензина в 2011 году, сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Fars.
По данным издания TH, которое ссылается на заявление заместителя министра нефти Исламской республики Алирезы Зейгами (Alireza Zeighami), в течение прошлого года Иран экспортировал в другие государства около 132 тысяч тонн бензина, что обогатило бюджет страны на 134 миллиона долларов.
Как отмечает Fars, основным экспортером иранского бензина является Афганистан. Одна только эта страна принесла Ирану в 2011 году 51,6 миллиона долларов. В конце минувшего года сообщалось о том, что Тегеран и Кабул подписали соглашение о ежегодных поставках в Афганистан 1 миллиона тонн нефтепродуктов, в том числе бензина и авиационного топлива.
В качестве других экспортеров иранского бензина названы Армения, ОАЭ, Ирак и Оман.
Иран приступил к экспорту бензина в сентябре 2010 года. До этого времени Исламская республика, являющаяся одним из крупнейших экспортеров нефти в мире, не только не поставляла бензин за рубеж, но даже была вынуждена закупать горючее в других странах из-за недостатка в стране нефтеперерабатывающих мощностей.
Иран является четвертым экспортером нефти в мире и вторым в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), добывая свыше четырех миллионов баррелей нефти в день. Нефтяная и газовая отрасли Ирана находятся под полным контролем государства.
В 2010 года США и ЕС в одностороннем порядке ввели в отношении Исламской Республики дополнительные ограничительные меры, в частности, затрагивающие нефтегазовый сектор Ирана. В рамках этих мер ряд крупных компаний, в частности, англо-голландский концерн Royal Dutch Shell, голландско-швейцарские трейдеры Vitol Holding и Trafigura, а также швейцарский сырьевой трейдер Glencore приостановили поставки бензина в эту страну. В апреле того же года их примеру последовала крупнейшая частная нефтяная компания России ЛУКОЙЛ.
Россия заняла 172-е место в ежегодном рейтинге свободы СМИ, составляемом международной правозащитной организацией Freedom House. Доклад Freedom of the Press 2012 опубликован 1 мая на сайте Freedom House. Всего в списке - 197 государств.
Россия, как и прежде, остается в категории "несвободные СМИ". К этому типу стран относятся 59 государств (30% от общей численности). В категорию "частично свободные" входят 72 страны (36,5%), свободными считаются 66 стран (33,5%). Лишь 14,5% человечества проживает в странах со свободной прессой. 45% довольствуются частично свободными СМИ, 40,5% живут в государствами с несвободными СМИ.
Россия делит 172 место с Зимбабве и Азербайджаном. Не имеют свободных СМИ такие страны, как Северная Корея (самое последнее место), Иран, Узбекистан, Туркмения, Белоруссия, Эритрея, Иран, Куба, Саудовская Аравия, Венесуэла и Афганистан. Частично свободными СМИ располагают Ливия, Египет, Турция, Молдавия, Грузия, Кения, Никарагуа, Босния и Герцеговина, Хорватия, Румыния, Болгария, Италия и другие страны. Полностью свободными СМИ наслаждаются Финляндия, Норвегия, Швеция (все три страны делят первое место), Ирландия, Германия, Новая Зеландия, Маршалловы острова, Эстония, США, Чехия, Белиз, Австрия, Микронезия, Великобритания, Япония, Польша и другие.
Авторы доклада отмечают, что события, произошедшие в 2011 году в таких странах как Египет и Россия, показали, что хотя СМИ могут быть весьма эффективными в распространении новостей о нарушениях со стороны государства и при "мобилизации гражданского протеста против нелиберальных режимов", они играют значительно меньшую роль в построении демократических учреждений (особенно в обществах, где большая часть населения по-прежнему получает информацию от контролируемых государством СМИ).
В число стран, вызывающих особые опасения экспертов Freedom House, входят Россия, Азербайджан и Казахстан. "Медиа-среда в России характеризуется использованием хорошо приспосабливающейся судебной системы для преследования независимых журналистов, избежания наказания при физическом преследовании и убийстве журналистов, а также для сохранения контроля государства и влияния на почти все традиционные СМИ, - говорится в докладе. - Это отчасти смягчено ростом использования Интернета, социальных сетей и спутникового телевидения для распространения и доступа к новостям и информации, особенно во время декабрьских парламентских выборов и последующих протестов. Тем не менее, новые пользователи СМИ еще не совершили настоящего прорыва в достижения широкой общественности в России, и ведут тяжелую борьбу с рядом политических, экономических, правовых и внесудебных инструментов режима".
Бизнесмены Афганистана вынуждены продавать свежие фрукты по низким ценам из-за нарушений Афгано-пакистанского транзитного соглашения, сообщают бизнесмены.
Действующее соглашение позволяет Афганистану экспортировать фрукты в Индию через территорию Пакистана, а пакистанским грузовикам, соответственно, пересекать территорию Афганистана на пути в Иран, Турцию и страны Центральной Азии. Заместитель главы ТППА Хан Джан Алокозай заявил, что ранее 80% фруктов из Афганистана попадали в Индию через Пакистан. Однако в настоящее время этому препятствуют пограничники на территории Пакистана. Из-за этого 55% фруктов портятся либо продаются по низким ценам. Как сообщает информационное агентство «Пажвок», Алокозай потребовал у правительства Пакистана разобраться с проблемой.
В прошлом году совокупные потери Афганистана из-за проблем с транзитом через территорию Пакистана составили 100 млн. долларов, заявил представитель ТПП Афганистана.
Афганские бизнесмены считают, что власти Пакистана намеренно создают им проблемы, и требуют у афганского правительства принять срочные меры по урегулированию вопроса, поскольку в Афганистане начинается фруктовый сезон.
Пресс-секретарь министерства торговли и промышленности Афганистана Вахидулла Газихейл сообщил, что с пакистанскими властями уже ведутся переговоры.
Возможности воздействовать на Иран санкциями для побуждения его к сотрудничеству с МАГАТЭ исчерпаны. Односторонние санкции укрепляют в своей правоте тех иранцев, кто уверен в стремлении Запада сменить режим. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Россия 24".
"Санкции - не наш выбор", - подчеркнул глава МИД. Впрочем, санкции оправданы, когда нужно, чтобы страна "почувствовала волю мирового сообщества и изменила свое поведение", отметил дипломат. Так или иначе, принятая в 2010 году резолюция ООН "№" 1929, "по сути, исчерпала все возможные меры воздействия" на тех иранскую ядерную программу, считает Лавров. "Любые дополнительные санкции были бы, фактически, направлены на удушение иранской экономики", - уверен он.
Евросоюз отказывается сейчас от закупок иранской нефти, хотя многие страны ЕС от нее зависят, напомнил дипломат и добавил, что нефтеперерабатывающие заводы настроены на использование только иранской нефти. Что касается санкций в сфере банковской системы, по мнению Лаврова, имеет место нарушение Устава Международного валютного фонда (МВФ). Он требует от всех членов обеспечить бесперебойное обслуживание торговли и экономических связей через банковские операции.
Санкции воздействуют на социально-экономическое положение в Иране, признал Лавров. При это изначально была поставлена другая цель - не ухудшить это положение, а "обеспечить переговорное решение иранской ядерной проблемы", т.е. побудить Тегеран к более активному сотрудничеству с МАГАТЭ. "Санкциями эту цель не достичь", - отрезал глава МИД. В Иране нет разногласий по ядерной программе, в стране она - национальная идея, указывает Лавров. "Односторонние санкции, к которым прибегают наши западные партнеры в обход Совета Безопасности ООН, только укрепляют в своей правоте тех в Иране, кто уверен, что Запад заинтересован не в урегулировании проблем, связанных с нераспространением ядерных технологий, а в смене режима", - подчеркивает дипломат.
Генеральный директор Иранской компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Ахмед Садеки в эксклюзивном интервью пресс-службе правительства заявил, что с украинскими инвесторами подписан протокол о намерениях по поводу их участия в реализации ряда иранских железнодорожных проектов, сообщает агентство «ИРИБ ньюз».
По словам Ахмеда Садеки, с украинскими инвесторами достигнута предварительная договоренность об их участии в завершении строительства железных дорог Ардебиль – Мийане, Ардебиль – Парсабад и Тебриз – Мийане.
Ахмед Садеки сообщил, что украинские специалисты посетят Иран и на месте ознакомятся с деталями проектов. После этого они примут участие в совещании с участием специалистов министерства дорог и городского строительства Ирана и изложат свои предложения по поводу реализации перечисленных проектов.
Если предложения украинской стороны будут приняты, состоится подписание договора об участии украинских инвесторов в проектах министерства дорог и городского строительства Ирана, что будет способствовать скорейшему началу двустороннего сотрудничества.
Министр промышленности, рудников и торговли Мехди Газанфари на церемонии открытия первой сирийской специализированной выставки в Тегеране заявил, что товарооборот между Ираном и Сирией составляет 600-700 млн. долларов в год, а с подписанием соглашения о свободной торговле между двумя странами этот показатель в течение двух-трех ближайших лет вырастет до 2 млрд. долларов, сообщает агентство «ИРИБ ньюз».
Мехди Газанфари отметил, что согласно первоначальной договоренности, на реализацию соглашения о свободной торговли между двумя странами отводилось пять лет, однако с учетом нынешней обстановки в регионе и с согласия сирийской стороны данное соглашение вступает в силу с сегодняшнего дня с максимальным таможенным тарифом в 4%.
По словам иранского министра, к числу областей, в которых Иран и Сирия могут успешно сотрудничать друг с другом, относятся, например, текстильная промышленность, промышленное производство и горнодобывающая промышленность.
Мехди Газанфари подчеркнул, что Иран входит в первую десятку среди стран всего мира по производству стали, меди и свинца, а также в двадцатку крупнейших автомобилестроителей и с учетом этого готов предоставлять Сирии свои инженерно-технические услуги.
В прошлом году объем экспорта иранского бензина в стоимостном выражении превысил 134,8 млн. долларов, сообщает агентство ИСНА.
По данным Таможенной администрации Ирана, в прошлом году объем экспорта иранского бензина в стоимостном выражении вырос на 127% и в весовом – на 108,5% (132 тыс. т) по сравнению с показателями предыдущего года.
Иранский бензин, в основном, поставлялся в Армению, Афганистан, ОАЭ, Ирак и Оман.
Наибольшее количество иранского бензина было поставлено в Афганистан (51,6 млн. долларов). Затем следуют ОАЭ (46,6 млн. долларов), Ирак (27,1 млн. долларов) и Оман (6,6 млн. долларов). Замыкает список Армения, в которую было экспортировано 382 тыс. т бензина.
За последние два года никаких статистических данных об импорте бензина в Иран не приводится. Это свидетельствует о том, что импорт данного вида топлива практически сведен к нулю и Иран стал экспортером бензина. Таким образом, план по введению запрета на поставки бензина в Иран полностью провалился.
Глава Организации рыболовства и рыбоводства «Шилат» Голям Реза Разеки в интервью агентству ИСНА сообщил, что в прошлом году импорт рыбной продукции сократился на 40%, а экспорт увеличился на 20%. В текущем году экспорт рыбной продукции должен увеличиться еще на 20%.
По словам Г.Р.Разеки, в прошлом году было импортировано 66 тыс. т тунца. Это на 40 тыс. т меньше по сравнению с предыдущим годом, и такое сокращение импорта стало возможным в результате того, что иранские рыбаки увеличили добычу тунца в международных водах.
Г.Р.Разеки сообщил, что в прошлом году было экспортировано около 45 тыс. т различной рыбной продукции на общую сумму в 200 млн. долларов. В основном, названная продукция поставлялась в ОАЭ, Кувейт, Ирак, Оман, Таиланд и Китай.
Указав на то, что экспорт рыбной продукции увеличился в весовом и стоимостном выражении, глава Организации «Шалит» отметил, что более 80% экспортных поставок составляла рыбная продукция, произведенная в рыбоводческих хозяйствах.
За прошлый год на экспорт было поставлено 3,4 тыс. т креветок, выращенных в искусственных условиях, на общую сумму в 17 млн. долларов. Иранские креветки поставляются в ОАЭ, Кувейт, Ливан, Австралию и страны Евросоюза. В текущем году объем производства креветок в искусственных условиях должен вырасти до 16 тыс. т, что на 100% больше по сравнению с прошлым годом.
Г.Р.Разеки подчеркнул, что Иран обладает большим потенциалом для экспорта рыбной продукции и к концу выполнения 5-ой пятилетней программы развития страны (к марту 2016 года) объем экспорта названной продукции должен вырасти до 500 млн. долларов в год.
Генеральный директор Иранской национальной компании нефтехимической промышленности Абдолхосейн Байат в интервью агентству ИРНА заявил, что с началом эксплуатации новых фаз освоения газового месторождения «Южный Парс, увеличением поставок сырья на нефтехимические предприятия и наращиванием производства доля нефтехимической продукции в иранском ненефтяном экспорте вырастет с 44 до 46%.
А.Байат отметил, что решение по поводу цены на сырье для нефтехимических предприятий должны принимать Штаб по предоставлению целевых субсидий или правительство страны.
По словам А.Байата, при принятии закона о предоставлении целевых субсидий меджлис Ирана исходил из необходимости привлечения инвестиций в промышленность, в том числе в нефтехимическую и нефтеперерабатывающую.
Недавно А.Байат заявлял о том, что в прошлом году некоторые нефтехимические предприятия сталкивались с нехваткой сырья. В текущем году с вводом в эксплуатацию 12-ой фазы освоения месторождения «Южный Парс», а в дальнейшем с началом добычи газа на 15-ой, 16-ой, 17-ой и 18-ой фазах проблема сырья постепенно будет полностью решена.
Директор международного департамента Иранской национальной нефтяной компании Мохсен Камсари заявил, что с Китаем и Индией заключены самые большие контракты на поставки иранской нефти и эти две страны по-прежнему остаются крупнейшими импортерами сырой нефти из Ирана, сообщает агентство ИРНА.
Опровергнув сообщения о сокращении поставок нефти в Китай из Ирана, Мохсен Камсари подчеркнул, что эти поставки не только не сократились, а, напротив, выросли по сравнению с прошлым годом.
По словам Мохсена Камсари, Индия – второй после Китая импортер иранской сырой нефти. Помимо долгосрочных контрактов эта страна закупает иранскую нефть отдельными партиями, и поэтому следует подождать до конца года, чтобы определить, какая из двух стран закупает больше иранской нефти.
По поводу предоставления Индии скидок Мохсен Камсари сказал, что никаких скидок своим зарубежным партнерам Иран не предоставляет. При этом оплата за поставленную нефть осуществляется в течение стандартных 30-ти дней. В случае несвоевременной оплаты взимается неустойка.
Мохсен Камсари подчеркнул, что на 2012 год Иран продлил контракты на поставки нефти со всеми своими партнерами, которые у него имелись до введения санкций.
Генеральный директор компании «САЙПА Кашан» Насер Ага Мохаммади заявил, что в настоящее время на автозаводе компании производятся три модели автомобилей: «Тиба», САЙПА 131 и САЙПА 132, и в ближайшее время модельный ряд пополнится еще одним автомобилем, сообщает агентство ИСНА.
Н.А.Мохаммади подчеркнул, что на автозаводе компании созданы новые рабочие места для молодежи Кашана (провинция Исфаган). Большинство поставщиков завода находится в провинции Исфаган, и с вводом в эксплуатацию заводов по производству автокомплектующих в непосредственной близости от автозавода компании «САЙПА Кашан» данный район станет одним из важных промышленных центров страны.
По словам Н.А.Мохаммади, программами компании предусматривается наладить производство прессованных деталей, а также комплектующих из полимерных материалов. В ближайшие годы компания «САЙПА Кашан» превратится в автомобилестроительный комплекс с практически полным производственным циклом.
В течение двух лет после открытия автозавода компании «САЙПА Кашан»здесь было полностью завершено создание инфраструктуры для всех производственных и вспомогательных объектов, и автозавод вышел на проектную мощность. В прошлом году на автозаводе было произведено более 140 тыс. автомобилей. Кроме того, компания располагает всеми возможностями для того, чтобы в ближайшие годы довести выпуск автомобилей до 180 тыс. в год.
Лекарство от американской амнезии
Джо Байден поддержал политику Обамы в отношении России
Мария Ефимова
Российская тема не уходит из американской предвыборной кампании, снова став полем битвы главных кандидатов — демократа Барака Обамы и республиканца Митта Ромни. Соратник Обамы вице-президент Джо Байден выступил против Ромни, назвавшего Россию «врагом номер один». Американцы считают, что Обама лучше разбирается во внешней политике, чем его конкурент. В случае победы республиканца отношения Москвы и Вашингтона ожидает откат назад.
Вице-президент Джо Байден заявил с трибуны Нью-Йоркского университета, что антироссийские высказывания Митта Ромни рискуют вернуть отношения двух стран на 60 лет назад в состояние холодной войны. По мнению Байдена, экс-губернатор Массачусетса искажает факты, «рассчитывая на коллективную амнезию американцев». В конце марта Митт Ромни в интервью CNN заявил, что главный геополитический враг Вашингтона — Москва, которая «всегда поддерживает худших в мире», подразумевая Сирию, КНДР и Иран.
Почти одновременно с Ромни сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио, которого прочат в вице-президенты в случае поражения Обамы, резко высказался в адрес нового президента России. Рубио заявил, что Путин тверд лишь в своей риторике, но «сам знает, что на самом деле слаб». По версии американца, Путин из-за страха потерять власть разжигает антизападные настроения в российском обществе, игнорируя реальные угрозы — напор Китая с востока и исламистов с юга.
Митт Ромни пытается найти козыри для критики Обамы в той сфере, где внешняя политика президента выглядит наиболее успешной, тем самым кандидат-республиканец демонстрирует собственную неопытность во внешней политике. «Он делал это заявление не потому, что не любит Россию, а потому что ему нужно было что-то противопоставить Обаме. Но его заявление действительно выглядит для большинства американских граждан как голос из прошлого, поэтому его критика беззуба и неконструктивна», — заявил «МН» заведующий сектором США ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.
«Внешняя политика демонстрирует сильные стороны президента Обамы — баланс взвешенности и решительности — и подчеркивает недостатки Ромни, который вместе со своим окружением может нас втянуть в неприятности своей крайне правой позицией», — заявил газете The Los Angeles Times Том Перрилло, бывший конгрессмен-демократ от Виргинии и аналитик либерального Центра американского прогресса.
Американский электорат пока не подпал под обаяние антироссийских выпадов республиканского кандидата. Опрос общественного мнения, проведенный агентством Ipsos в апреле, показывает, что избиратели считают Обаму сильнее Ромни в вопросах национальной безопасности и внешней политики. Исход выборов, в один голос утверждают наблюдатели, будет зависеть от более насущных проблем, прежде всего финансовых. Рейтинг Барака Обамы, по апрельскому соцопросу CNN, составляет 52%, что на 9% выше рейтинга Митта Ромни (43%).
«Перезагрузка» вместе с сотрудничеством в Афганистане и договором о ПРО — реальный внешнеполитический успех Обамы после плачевного для двусторонних отношений президентства Буша. Поэтому на его стороне симпатии не только избирателей, но и американского бизнеса, который получил при нем выгодные контракты, облегченный доступ к российскому рынку, добычу полезных ископаемых на арктическом шельфе», — напомнил гн Войтоловский.
По словам собеседника «МН», важность российско-американского сотрудничества для международной безопасности и вопросов регионального и глобального характера понимают не только в штабе демократов. И все же некоторого отката назад не избежать, в том числе в сложном вопросе ПРО. Это признал сам Обама в марте во время переговоров с Дмитрием Медведевым в Сеуле. Он попросил российского лидера о своеобразной «отсрочке» в переговорах по ПРО до завершения в США президентских выборов. По словам американского президента, после выборов он «будет обладать большей гибкостью». Слова Обамы вызвали много критики со стороны политических оппонентов.
Республиканцы надеются, что их выпады в адрес Москвы, Тегерана и Пхеньяна могут сработать, если до ноябрьских выборов на международной арене произойдет что-то экстраординарное. И все же победа Ромни на выборах еще не означает начало второй холодной войны, полагают эксперты. «Исторически в американскую предвыборную кампанию включалась тема отношений с Москвой — и во времена противостояния с СССР, и после него. Как правило, поначалу они высказывались гораздо жестче, чем после того, как приходили на пост», — отметил Федор Войтоловский.
Армия обороны Израиля приступила к осуществлению планов по защите вертолетов от переносных зенитных ракет. Недавно разрабатываемая компанией Rafael Advanced Defense новая система Fliker успешно перехватила на испытаниях реактивную гранату.
Система Fliker будет служить в качестве второго уровня защиты вертолетов и будет использоваться для уничтожения ракет, которых не смогла отвлечь система пассивной обороны.
Fliker может реагировать в любом направлении ракетных угроз и уничтожать их ракетами-перехватчиками. Противоракеты также призваны свести к минимуму эффект взрыва и тем самым снизить риск повреждения вертолета осколками.
В последние годы в условиях аналогичных угроз ВВС Израиля изменили планы полетов на секторе Газа и Южном Ливане из-за сообщений разведки о наличии у «Хамаса» и «Хезболлы» большого количества ПЗРК.
Считается, что, например, «Хамас» имеет значительное количество ПЗРК российского производства, полученных из Ирана и Ливии.
По данным израильских ВВС, у «Хизболлы» также много переносных зенитных ракет. Израиль также обеспокоен тем, что организация может располагать мобильными комплексами SA-8 с дальностью действия 30 км.
Во время Второй ливанской войны в 2006 году «Хизболла» сбила в Ливане транспортный вертолет Yasour (Sikorsky CH-53), в котором погиб экипаж машины.
Министерство обороны приняло систему активной защиты от противотанковых ракет Trophy, которая устанавливается на танках Merkava Mk 4.
Однако система Trophy оказалась несовместимой с вертолетами, поскольку она выстреливает облаком поражающих элементов, которые могут привести к повреждению лопастей вертолета.
Глава Организации промышленности, рудников и торговли провинции Хорасане-Резави Али Сафар-заде заявил о необходимости более пристального внимания к созданию узнаваемых национальных брендов с целью увеличения экспортных поставок иранского шафрана, сообщает агентство ИСНА.
Али Сафар-заде отметил, что дополнительные капиталовложения позволят получать более высокую добавленную стоимость при производстве шафрана. Названная продукция должна полностью отвечать вкусам потребителей. Ее следует должным образом рекламировать, и при ее производстве необходимо осуществлять контроль за качеством и соответствием принятым стандартам. Все это представляется очень важным при экспорте иранского шафрана.
По словам Али Сафар-заде, в прошлом 1390 году (21.03.11-20.03.12) экспорт шафрана вырос на 48%, и это увеличение более чем на 94% произошло за счет производства качественных упаковочных материалов для данной продукции.
По данным таможенной администрации провинции, всего за прошлый год было экспортировано 133 т шафрана общей стоимостью 409 млн. долларов, и названная продукция поставлялась в 46 стран.
Посол Кот-д’Ивуара в Иране Абдулла Сисе во время встречи с генеральным директором Иранской тракторостроительной компании в Тебризе обратился с просьбой построить в Кот-д’Ивуаре тракторосборочную линию, сообщает агентство ИРНА.
Абдулла Сисе отметил, что в его стране по-прежнему используются традиционные способы возделывания сельскохозяйственных культур, без применения сельскохозяйственной техники, и при этом экономика страны во многом зависит от сельского хозяйства. В этой связи строительство предприятия по производству иранских тракторов представляется крайне необходимым.
По словам Абуделлы Сисе, в Кот-д’Ивуаре ежегодно производится около 1 млн. т какао-бобов без применения сельскохозяйственной техники, и, если эта отрасль получит на вооружение иранские трактора, объемы производства названной продукции могут удвоиться. Возрастет также производство и других сельскохозяйственных культур.
Присутствие в Кот-д’Ивуаре специалистов Иранской тракторостроительной компании будет способствовать развитию не только сельскохозяйственной отрасли страны, но и всей ее промышленности. Кроме того, будут созданы условия для обеспечения занятости молодежи Кот-д’Ивуара.
Кот-д’Ивуар, расположенный на западе африканского континента, ежегодно производит около 1 млн. т какао-бобов и занимает первое место по производству данной продукции. Ему принадлежит также пятое место в мире по производству кофе.
Генеральный директор Иранской компании газохранилищ Масуд Самиванд во время встречи с журналистами заявил, что в текущем году будут введены в эксплуатацию два новых газохранилища, сообщает агентство «Мехр».
По словам М.Самиванда, одной из важнейших программ Ирана предусматривается дальнейшее увеличение вместимости подземных газохранилищ, и к концу выполнения 5-ой пятилетней программы развития страны (к марту 2012 года) их общий объем должен быть увеличен до 12 млрд. куб. м.
В этой связи должны быть созданы условия для закачки в подземные газохранилища до 130 млн. куб. м природного газа в сутки. Другими словами, к концу выполнения 5-ой пятилетней программы вместимость газохранилищ должна позволить закачивать на хранение такое количество газа, которое добывается на 5-6 фазах освоения месторождения «Южный Парс».
М.Самиванд отметил, что для строительства газохранилищ в первую очередь используются пустоты, образовавшиеся после добычи углеводородов и воды, и соляные купола. В настоящее время ведется одновременное строительство подземных газохранилищ в районе Сарадже в провинции Кум, в районе Варамин в провинции Тегеран и в районе Шуридже в Хорасане.
Вместимость строящихся газохранилищ позволит создать запасы природного газа в объеме до 8 млрд. куб. м.
М.Самиванд подчеркнул, что строительство подземных газохранилищ ускорит процесс дальнейшего вхождения Ирана в мировую торговлю газом.
Член энергетической комиссии меджлиса Ирана Хосейн Неджабат в интервью агентству «Моудж» заявил, что проект по переброске воды из Каспийского моря в центральные районы требует дополнительных исследований.
Хосейн Неджабат напомнил, что идея о переброске воды из Каспия возникла в тот период, когда президентом Ирана был Хашеми-Рафсанджани. Тогда этот проект был более масштабным, и речь шла о соединении Каспийского моря с Персидским заливом.
В настоящее время министерство энергетики не опубликовало никаких данных о проекте. Он представляется недоработанным, и о его деталям ничего не известно.
Проект следует тщательно изучить на экспертном уровне, и информация о нем должна быть общедоступной. Это позволит дать правильную оценку проекту.
Прежде всего, следует досконально изучить вопрос о влиянии проекта на экосистему региона и другие аспекты проблемы.
Хосейн Неджабат подчеркнул, что если начинать практические работы в этом направлении, то подобный национальный проект должен быть комплексным и тщательно проработанным.
В прошлом году экспорт иранских ковров ручной работы вырос менее чем на 1%, и его объем составил не многим более 560 млн. долларов, сообщает агентство ИСНА.
По последним данным Таможенной администрации Ирана, в прошлом году экспорт названной продукции в стоимостном выражении вырос на 0,8%, и при этом в весовом выражении сократился на 15,4% (6 тыс. 972 т).
Иранские ковры ручной работы экспортируются в 80 стран. Наибольшее их количество было поставлено в Германию (107,9 млн. долларов). За ней следуют ОАЭ (102 млн. долларов) и Италия (29,9 млн. долларов).
Среди других рынков, на которые поставлялись иранские ковры ручной работы, можно назвать такие страны, как Пакистан, Япония, Англия, Бразилия, Дания, Швеция, Катар, Канада, Ливан, Китай, Южная Африка, Австрия, Австралия, Испания, Афганистан, Турция, Сингапур, Ирак, Саудовская Аравия, Оман, Франция и Малайзия.
В позапрошлом году ковры ручной работы входили в первую десятку в списке основных видов поставляемой на экспорт иранской продукции. В прошлом году они заняли 13-ое место в этом списке.
Реза Нахджавани, недавно оставивший пост главы Организации гражданской авиации Ирана, в интервью агентству «Фарс» сообщил, что из 209 гражданских самолетов иранского авиапарка 49 лайнеров остаются на земле.
Указав на то, что задача Организации гражданской авиации страны состоит в оказании поддержки авиационным компаниям, Реза Нахджавани отметил, что на данный момент в Иране насчитывается 14 авиационных компаний, из которых только одна является государственной («Иран эйр» или «Хома»), а остальные принадлежат частному сектору.
По словам Резы Нахджавани, в настоящее время эксплуатируются 160 пассажирских самолетов, а 49 проходят капитальный ремонт или после плановой проверки находятся в ожидании поставок недостающих запчастей из-за границы.
Реза Нахджавани подчеркнул, что одна из причин положения, при котором самолеты остаются на земле, связана с неудовлетворительным экономическим состоянием авиационных компаний.
Реза Нахджавани заявил, что для исправления ситуации требуется банковская продержка авиационной промышленности страны, а также привлечение инвесторов в отрасль. В этой связи необходимо создать условия для получения инвесторами достаточной прибыли. Кроме того, требуется установить реальные цены на авиабилеты и, главное, принять меры к техническому переоснащению авиационных компаний и авиационной промышленности.
Односторонние санкции в отношении Ирана не будут способствовать решению иранской ядерной проблемы, заявил в пятницу в интервью телеканалу "Россия 24" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Односторонние санкции, к которым прибегают наши западные партнеры в обход Совета Безопасности ООН, они только укрепляют в своей правоте тех в Иране, кто уверен, что Запад не заинтересован в урегулировании проблем, связных с нераспространением ядерных технологий, а заинтересован в смене режима", - сказал он.
По словам главы МИД РФ, уже принятые резолюции СБ ООН исчерпали возможные меры воздействия на конкретных людей и организации, так или иначе связанные с иранской ядерной программой. Новые же санкции приводят лишь к ухудшению экономической ситуации в стране.
"Это был прицельный шаг", - отметил Лавров, подчеркнув, что "резолюция (СБ ООН), которая была принята в 2010 году, по сути дела исчерпала все возможные меры воздействия на тех людей и организации, которые так или иначе связаны с ядерной программой".
В отношении Ирана действуют четыре санкционные резолюции Совета Безопасности ООН. Помимо этого, различные резолюции, требующие от Ирана обеспечить полную прозрачность ядерной программы и доказать ее исключительно мирную направленность, приняли ряд стран и организаций.
"Любые дополнительные санкции были бы направлены на удушение (иранской) экономики. Мы на это не пошли, китайцы на это не пошли, и СБ ООН принял максимально выверенную резолюцию по сути исчерпывающую задачи воздействия методом санкций и подтвердившую необходимость переговорного решения иранской ядерной проблемы", - сказал министр.
Однако продолжил он, уже после этого "наши западные партнеры - США, ЕС, Австралия, Япония и ряд других стран - стали принимать односторонние санкции и продолжают делать это".
При этом Лавров отметил, что последствия этих санкций невыгодны и самим их инициаторам. В качестве примера он привел отказ Евросоюза от закупок иранской нефти.
"Очень многие страны ЕС от этой нефти зависят. Можно конечно, говорить, что этот дефицит будет восполнен, но даже нефтеперерабатывающие заводы настроены на именно иранскую нефть и их переналадка потребует значительных инвестиций. Вряд ли сейчас это ЕС по карману", - сказал Лавров.
Говоря о блокировании банковской системы Ирана, он отметил, что в этом случае "имеет место нарушение устава Международного валютного фонда, который требует от всех членов МВФ обеспечивать бесперебойное обслуживание через банковские операции торговли и экономических связей".
В конце января 2012 года ЕС одобрил пакет ограничительных мер в отношении Ирана, введя запрет на импорт, приобретение и транспортировку иранской нефти и нефтепродуктов, а также на относящиеся к ним финансовые и страховые операции. Полностью нефтяное эмбарго в отношении Ирана должно вступить в силу 1 июля. Поводом для санкций стал доклад МАГАТЭ, в котором говорилось, что Иран до 2003 года вел работы по созданию ядерного оружия и что эти работы могут продолжаться до сих пор.
"Конечно, санкции оказывают воздействие на социально-экономическое положение в Иране, но цель была поставлена не ухудшить это положение, а обеспечить переговорное решение иранской ядерной проблемы, побудить Иран к более активному сотрудничеству с МАГАТЭ", - подчеркнул глава МИД РФ.
Комментируя итоги встречи "шестерки" (РФ, США, Великобритания, Франция, Китай и Германия) по Ирану в Стамбуле в апреле этого года, Лавров указал, что Тегеран не отверг сделанные ему предложения, которые основываются на принципе "действие в ответ на действие". Стороны договорились встретиться в мае этого года в Багдаде для того, чтобы эта группа "пять плюс один" при координирующей роли Высокого представителя ЕС Кати Эштон вместе с Ираном уже приступила к обсуждению конкретных шагов в рамках поэтапности и взаимности", - отметил министр.
В Стамбуле 14 апреля прошли переговоры шестерки международных посредников во главе с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон и секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Саида Джалили. Стороны выразили удовлетворение ходом дискуссии, назвав ее конструктивной и полезной.
В Багдаде на 23 мая запланировано проведение очередного раунда переговоров представителей Тегерана и "шестерки".
США и ряд других стран Запада обвиняют Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его ядерная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии.
Группа международных посредников - "шестерка", в которую входят Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция, с 2003 года совместно с МАГАТЭ добивается от Ирана приостановки работ по обогащению урана, которые могут представлять угрозу режиму ядерного нераспространения.
Париж против Берлина
Кандидат-социалист предлагает Европе развитие вместо дисциплины и может отказаться от ПРО
Мария Ефимова
Перспектива победы социалиста Франсуа Олланда на президентских выборах во Франции предвещает серьезные перемены в европейской политике. При новом лидере Париж начнет соперничать с Берлином за экономическое лидерство внутри ЕС, что добавит новых проблем Единой Европе. В первом туре выборов Олланд обогнал нынешнего президента Николя Саркози на полтора процента, решающий второй тур состоится 6 мая.
Олланд обещает «поставить на путь экономического развития» не только Францию, но и всю Европу. Заплатить за европодъем придется состоятельным гражданам. Первым шагом потенциального президента станет «налог для богатых». Французы, зарабатывающие в год больше 1 млн евро, должны дать государству не менее 15 млрд евро в год.
Планы кандидата по увеличению благосостояния граждан простираются за пределы Франции, поскольку ее экономическое положение напрямую зависит от состояния всей еврозоны. «Большая часть политических ресурсов Олланда будет истрачена на то, чтобы справиться с кризисом еврозоны. По той же причине во внешней политике главными для Парижа останутся его взаимоотношения с Берлином», — заявил «МН» замдиректора французского института международных отношений IFRI Тома Гомар. В области взглядов на экономику, разбалансировка оси Париж—Берлин с приходом Олланда будет налицо, полагает политолог из Института Европы РАН Юрий Рубинский. По мнению собеседника «МН», Франция поспорит с Германией о лидерстве.
Список назревающих споров между Парижем и Берлином известен. Олланд уже пообещал пересмотреть подписанный в марте по инициативе Меркель и Саркози большинством европейских стран бюджетный пакт — механизм финансовой дисциплины. Лидер французской президентской гонки полагает, что навязываемая Берлином всей Европе жесткая экономия не решает проблемы и даже тормозит экономический рост. Олланд предлагает Европе заключить новый «пакт роста», который способствовал бы развитию экономики, — например, с помощью финансирования госпроектов из Европейского банка инвестиций и Европейского структурного фонда.
Франсуа Олланд неожиданно нашел понимание у главы Европейского центробанка Марио Драги, заявившего, что жесткая экономия «уже дает почувствовать ограничительный эффект» в экономике. Драги поддерживает французскую идею европейского «договора об экономическом росте». Тем временем Олланд предлагает наделить ЕЦБ статусом кредитора «первой и последней инстанции». «Я знаю, что Германия против, но это необходимо для помощи государствам», — сказал кандидат. Он поддерживает выпуск еврооблигаций, но предлагает использовать их не только для финансирования долга, но и для поддержки крупных инфраструктурных проектов, прежде всего в сфере технологий.
«Германия должна понять, что рост поможет нам решить многие проблемы», — заявил Олланд. Но поддержки у Ангелы Меркель он не нашел. «Нам, конечно, нужен рост, но программы стимулирования принесут только новые долги», — заявила канцлер ФРГ. Той же позиции придерживаются единомышленники Николя Саркози. Глава МИД Франции Ален Жюппе уверяет, что Олланд «втянет Европу в еще один кризис суверенного долга».
Франция при президенте-социалисте будет тянуть Европу в сторону, противоположную той, что избрал Берлин, где, по словам Олланда, «делается нынешняя экономическая политика». В ходе предвыборной кампании о России он не вспомнил ни разу, но это вряд ли должно серьезно расстраивать Москву. «У Саркози перед выборами 2007 года была резкая антироссийская позиция, в 2008-м в период августовского конфликта в Грузии он поменял свое отношение. С тех пор мы находимся в обычном русле французской дипломатии в отношении Москвы и останемся в нем, кто бы ни стал президентом через десять дней», — уверенно заметил в беседе с «МН» Тома Гомар.
Эксперт полагает, что при Олланде не будет перемен и на других направлениях внешней политики Франции, в том числе по проблемам Сирии и Ирана. Кто бы ни стал президентом, в новую военную операцию на Ближнем Востоке Париж втягиваться все равно не будет. «Тем не менее стиль Олланда во внешней политике, вероятно, будет менее воинственным, чем тот, которым известен в мире Саркози», — полагает политолог.
Ветеран французской политики Жан-Луи Бьянко, отвечающий ныне за разработку международной стратегии Франсуа Олланда, рассказал РИА Новости о возможных переменах во внешней политике Парижа, которые могут коснуться и России. По его словам, Франция остается другом США, но она «также не забывает Великую Отечественную войну российского народа» и выступает за углубление диалога с Москвой. Решение Саркози в 2007 году вернуть Францию в военные структуры НАТО Бьянко назвал «скороспелым» и заявил, что «настал момент подвести итоги этой реинтеграции». Он также сообщил, что социалисты «очень сдержанно» относятся к системе ПРО, которую утвердил Саркози. Этот проект вызывает сильное раздражение Москвы, но в случае победы Олланда Париж готов «обсудить его и, если необходимо, отказаться в нем участвовать».
В прошлом году экспорт иранских ювелирных украшений и изделий из драгоценных металлов вырос на 275% и в стоимостном выражении составил более 667 млн. долларов, сообщает агентство ИСНА.
В весовом выражении экспорт названных изделий составил 14 т 410 кг.
Основным импортером иранских ювелирных изделий в прошлом году были ОАЭ, и некоторое количество названной продукции было экспортировано в Канаду.
Согласно последним статистическим данным, около 50% ювелирных украшений и изделий из золота на иранском рынке представляют собой контрабандную продукцию. В недалеком прошлом этот показатель доходил даже до 80%.
Ежегодный объем потребления золота в Иране с населением в 75 млн. человек составляет от 300 до 350 т, однако точных данных о количестве произведенных и проданных изделий из золота и ювелирных украшений не имеется.
Основная часть изделий из золота производится в Иране традиционным, кустарным способом. Промышленное производство ювелирных изделий в стране еще не получило широкого распространения.
В прошлом году объем производства коммерческих автомобилей в Иране сократился на 5,9% и составил 228 тыс. 658 единиц, сообщает агентство ИСНА.
В предыдущем году в Иране было выпущено 243 тыс. 132 коммерческих автомобиля, в том числе пикапов, мироавтобусов, средних автобусов, автобусов и грузовиков.
При этом объем производства пикапов сократился на 5,6% и составил 189 тыс. 217 единиц, микроавтобусов и средних автобусов увеличился на 7,4% и составил 3 тыс. 640 единиц, автобусов сократился на 19,9% и составил 2 тыс. 464 единицы, грузовых автомобилей сократился на 7,7% и составил 33 тыс. 337 единиц.
Министр сельскохозяйственного джихада Ирана Садек Халилиян и министр сельского хозяйства Грузии Заза Горозия обсудили пути расширения сотрудничества между двумя странами в области сельского хозяйства и животноводства, сообщает агентство ИРНА.
Садек Халилиян указал на высокий экономической потенциал Ирана и заявил о необходимости дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами в области сельского хозяйства и животноводства.
По словам иранского министра, географическая близость двух стран и их исторические и культурные связи требуют того, чтобы эти явные преимущества были максимально использованы в интересах обеих стран.
Садек Халилиян подчеркнул, что Иран готов поделиться с Грузией своим опытом в области производства сельскохозяйственной техники и оборудования, развития отраслей, связанных с сельским хозяйством и животноводством, а также расширять сотрудничество в области рыболовства, животноводства и научных исследований.
Министр сельского хозяйства Грузии выразил удовлетворение по поводу визита министра сельскохозяйственного джихада Ирана в Тбилиси и заявил, что Грузия намеревается использовать опыт Ирана в области сельского хозяйства.
Заза Горозия указал на то, что Грузия располагает плодородными землями и большими запасами воды и грузинское правительство предоставляет широкие льготы зарубежным инвесторам. По словам министра, Грузия стремится к расширению сотрудничества между двумя странами в области сельского хозяйства.
Заза Горозия назвал грузинский рынок весьма привлекательным для производителей сельскохозяйственной и животноводческой продукции и подчеркнул, что правительство Грузии окажет самую широкую поддержку иранским предпринимателям.
Министр сельскохозяйственного джихада Садек Халилиян прибыл в Грузию с визитом в сопровождении представительной делегации в составе 35-ти человек с целью расширения сотрудничества между Ираном и Грузией в области сельского хозяйства.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























