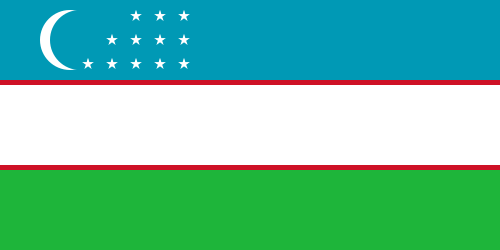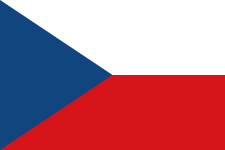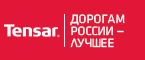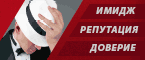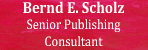Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
О будущем российского банкинга.
Остап, погруженный в глубокие размышления о том, как выкачать еще денег из подпольного миллиардера Александра Ивановича Корейко, почти не замечал, куда он держит путь. Теплый сентябрь расслабил великого комбинатора, и он шел по улицам столицы широким шагом, не обращая внимания на окружающих. Он размышлял о новой шикарной операции, сулящей неслыханный доход.
И только очутившись в толпе почтенных стариков, как всегда гомонивших напротив открытой веранды народной столовой «Бутерброд» – бывшего московского «Макдональдса», он внимательно огляделся по сторонам.
Его окружали странные и смешные в наше время люди.
Здесь, у бывшей закусочной, собирались осколки дореформенной коммерческой Москвы – маклеры, оставшиеся без своих контор, комиссионеры, увядшие по случаю отсутствия комиссий, банкиры, оставшиеся без своих банков, ставшие ненужными торговые агенты и выжившие из ума старые бухгалтеры.
Это были осколки старого мира. Когда-то они собирались в своих роскошных светлых офисах в высотках неподалеку для совершения сделок. Сейчас же их тянули сюда, на солнечный угол, долголетняя привычка и необходимость почесать старые языки.
Почти все они, несмотря на теплую погоду, были в строгих костюмах, рубашках и галстуках. Правда, покрой этих костюмов давно устарел и напоминал времена «проклятых девяностых», а сами костюмы порядком поизносились. У многих на руке до сих пор тикали часы когда-то престижных в России марок. Они были выпущены еще до того, как часы-коммуникатор производства российского «Уралоборонзавода» завоевали весь цивилизованный мир. Впрочем, некоторые старики, сломленные кто – ударами судьбы, а кто – осенней жарой, были одеты почти по-домашнему.
Все они ежедневно прочитывали The Financial Times – местную деловую прессу они не уважали. И что бы ни происходило на свете – старики все рассматривали как прелюдию объявления Москвы вольным городом и всемирным деловым и финансовым центром.
Когда-то, много лет назад, Москва действительно была вольным городом и одним из крупных бизнес-центров мира. Это было весело и доходно. Крупные сделки, большие зарплаты и огромные комиссионные. Доступные девушки, привлеченные в город ни с чем не сравнимым запахом больших денег со всех концов необъятной страны. Эти благостные воспоминания все еще жили в головах стариков.
А легенды о канувших в Лету бесконечных экономических кризисов офисах крупнейших банков и компаний до сих пор еще бросали золотой отблеск на светлый угол у народной столовой «Бутерброд».
- Читали про конференцию по разоружению? – обращался один старик к другому. – Выступление графа Бернсторфа.
- Бернсторф – это голова! – отвечал спрошенный таким тоном, будто убедился в том на основе долголетнего знакомства с графом. – А вы читали, какую речь произнес Сноуден на собрании избирателей в Бирмингеме, этой цитадели консерваторов?
- Ну, о чем говорить... Сноуден – это голова! Слушайте, Валиадис, – обращался он к третьему старику в панаме. – Что вы скажете насчет Сноудена?
- Я скажу вам откровенно, – отвечала панама, – Сноудену пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы.
Даже среди этих важных стариков, давно отошедших от дел, выделялась небольшая группка бывших банкиров. Их разговоры отличались особой серьезностью.
- Помните, как мы с вами торговали на бирже валютой? Как заработали в девяносто восьмом за пару дней себе годовую премию? – говорил один.
- Эх, как же здорово нас обогатили акции ВТБ, – вспоминал другой старик, чью сморщенную шею украшал когда-то наимоднейший, но давно уже выцветший шелковый галстук.
- А помните наши командировки в Италию и тамошних прекрасных девушек? – восторженно вздыхал третий.
Немного дальше два старика пустились в многословные прекраснодушные воспоминания о том, как здорово было работать в банках в «проклятые девяностые» и в «благословенные двухтысячные». Слова бизнес, клиент, кредит и аккредитив наполнили теплый московский воздух.
Судя по всему, старикам в банках когда-то работалось неплохо, и доход они получали немалый. И до самого слияния после очередного кризисного урагана всех банков в один государственный Совгосбанк некоторые старики, очевидно, занимали высокие должности в тогдашней банковской иерархии. Потом, во время массовых сокращений и почти полной автоматизации ставшего вновь государственным банковского бизнеса, они быстро оказались не у дел. Да и нужда во многих предоставляемых банками услугах отпала после разорения и перехода в собственность государства большинства частных компаний.
- Да, здорово было внедрять в банке программный комплекс риск-менеджера, – подхватил разговор еще один господин, немного моложе остальных. В ответ старики начали сыпать какими-то словечками, которые были Остапу совершенно непонятны. Но ему было ясно, что они вспоминают былые дни с большим воодушевлением.
Потом разговор опять вернулся к высоким сферам большой политики.
– Скажу вам откровенно, – шептал Валиадис, – все в порядке. Бенеш уже согласился на Объединенную Европу, но знаете, при каком условии?
Старики собрались поближе и вытянули свои морщинистые шеи.
- При условии, что Москва будет объявлена вольным городом! Бенеш – это голова. Ведь им же нужно сбывать кому-нибудь свою продукцию? Вот мы и будем ее покупать.
При этом сообщении глаза стариков блеснули. Им уже много лет хотелось покупать и продавать.
Когда Остап очнулся от своих дум, он увидел, что его крепко держит за борт пиджака незнакомый старик в старомодном строгом костюме.
- А я вам говорю, – кричал старик в ухо великому комбинатору, – что Центробанк на это не пойдет! Он не пойдет на эту удочку! Слышите?
Остап отодвинул рукой раскипятившегося старика и выбрался из толпы.
- Да, Центробанк – это голова, – неслось вслед уходящему от островка старого мира Остапу. Удаляясь, он слышал, как старики сошлись на том, что Москва будет объявлена вольным городом, свободной экономической зоной и всемирным финансовым центром в самое ближайшее время.
В рамках Международного туристического форума ОТДЫХ состоялась Международная конференция по деловому туризму и корпоративным мероприятиям OTDYKH MICE.
В этом году она прошла в двухдневном формате - 16 и 17 сентября. Партнером мероприятия выступила компания "Академсервис".
С приветственным словом от Федерального агентства по туризму выступил Григорий Саришвили. Он отметил, что деловой туризм - очень важное туристическое направление и имеет огромный потенциал в России: "На сегодняшний день перед специалистами отрасли открыты большие возможности для работы и успешного ведения бизнеса, ведь на данный момент мы находится на начальной стадии развития этого направления в туризме. Очень многое еще предстоит сделать и многого добиться, поэтому все новые идеи и решения, непременно, найдут отклик у представителей индустрии MICE". Хорошую активность показывают представители конгрессного бизнеса в регионах.
Модератором конференции OTDYKH MICE по традиции стал Юрий Сарапкин, независимый эксперт, действительный член международных организаций MPI, SITE, ACTE: " Конференция - это актуальный запрос рынка и ключевых игроков отрасли. Благодаря проведению этого важного мероприятия, мы открыли Россию и дали возможность специалистам оценить потенциал регионов страны в этой сфере".
В программу конференции был включен блок выступлений зарубежных экспертов с докладами и study-кейсами. Со своей презентацией на тему использования эмоций для увеличения эффективности мероприятий выступил эксперт из Италии, президент Motivation&Events Родольфо Муско. Владимир Кшнякина, руководитель проекта МТС «Большая игра», рассказал о возможностях нематериальной мотивации персонала в условиях кризиса. Исполнительный директор GlobalIndustryDevelopmentNetwork Скотт Кэмпбэлл дал слушателям полезные советы по подготовке по успешному участию в тендере. Директор ConnectingPerspectives Джорди Роберт-Райбс выступил с докладом «Начало без конца или почему мероприятия продолжаются и после гала-вечера». Директор по маркетингу всесезонного курорта «Горки Город» Грант Бабасян рассказал о mice-возможностях курорта, а генеральный директор HospitalityIncomeConsulting Елена Лысенкова представила доклад «10 правил современного гостиничного конференц-зала».
В завершении программы руководитель компании MICE GLOBAL, бизнес-тренер Сергей Армишев совместно с центром Special Training провели интеллектуальный тимбилдинг-квест "Вокруг света за 60 минут" среди делегатов. Weekend в отеле Foresta Festival Park от спонсора специальных мероприятий Marco Polo Hotel Management выиграла Алена Денисова, представитель компании ООО «Николаевский Посад».
РАСШИРЕНИЕ ПАНАМСКОГО КАНАЛА: ДЕНЬГИ НАШЛИСЬ, ОСАДОЧЕК ОСТАЛСЯ
Средства на продолжение работ по расширению канала найдены. Ещё 400 млн. долларов получили подрядчики. Общая стоимость проекта, который планируется завершить в 2015 году - 5,3 млрд. долларов США.
Работы по расширению Панамского канала начаты в этом году к 100-летнему юбилею строительства объекта. Сдача объекта в эксплуатацию планируется на начало 2016 года. Из-за постоянных задержек в реализации проекта Панама уже потеряла почти 300 млн. долларов таможенных пошлин. Работы проводят инженерно-строительные фирмы из Испании, Италии и Панамы.
После расширения Панамский канал сможет обслуживать контейнеровозы свыше 13 тыс. ДФЭ.
Источник: Channel News Asia
Спрос на газетную бумагу в мире падает
По итогам 2013 года в соответствии со статданными ФАО объёмы мирового производства газетной бумаги упали более, чем на 3%, составив 29143 тыс. тонн. Следует отметить, что выпуск ГБ падает третий год подряд, в результате выпуск отчетного года сократился на треть относительно показателей десятилетней давности.
На экспорт в 2013 году, согласно данным FAOSTAT, было отправлено около 45% всего мирового производства газетной бумаги, а объём поставок составил 13011 тыс. тонн, рост за –1%. Средние внешнеторговые цены в 2013 году соответствовали уровню 618 $/тонну, минус 3%.Следует отметить, что практически все страны –мировые лидеры по экспорту ГБ реализовывали продукцию по ценам ниже уровня 2012 года.
Канада – лидер по выпуску и экспорту газетной бумаги. Ведущим производителем газетной бумаги в мире, как и прежде, выступает Канада. За 2013 г. показатели по выпуску газетной бумаги в Канаде выросли на 3%, составив 3927 тыс. тонн. По последним данным Канада выпускает почти 14% всего мирового выпуска газетной бумаги. Канада также занимает первое место и среди лидеров по экспорту газетной бумаги. Почти весь объем произведенной ГБ – является для Канады предметом экспорта. Так по последним данным FAOSTATана мировые рынки канадскими предпринимателями было отправлено до 95% всего выпуска газетной бумаги. Импорт ГБ в Канаду – мал. В результате потребление ГБ в Канаде одно из самых низких – всего 258 тыс. тонн по итогам 2013 года. Причем этот показатель упал на 42% относительно уровня 2012 года.На диаграмме видно, что до 2009 года производство газетной бумаги в Канаде было значительно выше. Например, выпуск 2005 года вдвое превысил уровень производства 2013 года.
Китай немного сократил выпуск и импорт газетной бумаги, но остался лидером по уровню потребления. Китай занимает вторую строчку в списке стран, выпускающих газетную бумагу. Уровень выпуска бумаги в Поднебесной в 2013 году составил 3627 тыс. тонн, что на 5% меньше, чем год назад. Процентная доля КНР от мирового выпуска – 12%. Экспорт ГБ для Китая – незначительный, на уровне 93 тыс. тонн. В тоже время среди стран, импортирующих ГБ, Китай занимает четвертую строчку. Всего за 2013 г. в Поднебесную было ввезено около 671 тыс. тонн (-3%) газетной бумаги. Таким образом, по итогам 2013 года Китай немного сократил производство газетной бумаги, упал и уровень поставок в страну. В результате объем потребления газетной бумаги в 2013 году снижен на 7% относительно уровня 2012 года. Тем не менее, внутренний спрос на газетную бумагу в Китае остается самым высоким в мире. В 2013 г. этот показатель составил 4205 тыс. тонн.
Япония использует газетную бумагу в основном собственного производства. Япония – третий мировой лидер по выпуску газетной бумаги, производство которой в 2013 году составило 3219 тыс. тонн (-1%). Вся произведенная газетная бумага – остается в стране. Экспорт – незначительный. Импорт также невелик. Внутренний спрос на газетную бумагу в Японии – высокий, за год составил 3265 тыс. тонн (-1%). Следует отметить, что по уровню потребления Япония стоит на третьем месте после Китая и США.
Уровень импорта газетной бумаги в США практически соответствует уровню выпуска. Четвертое место среди производителей газетной бумаги закреплено за США – объёмы выпуска в 2013 г. превысили 2470 тыс. тонн, что на 14% меньше, чем в 2012 г. На экспорт США отправили треть выпущенной продукции. За год поставки выросли в натуральном выражении на 9% до 800 тыс. тонн. Размер импортных поставок в США практически соответствует объемам выпуска. Так в 2013 г. импорт ГБ составил 2116 тыс. тонн (+2%). По объёмам импорта США занимают первое место в мире. Уровень потребления снижен на 10% относительно уровня 2012 года до 3786 тыс. тонн. США занимает второе место по данному показателю.
Россия занимает пятое место в мире по выпуску и второе место по экспорту газетной бумаги. Более ста лет Россия лидирует по выпуску газетной бумаги. По итогам 2013 г., в соответствии с данными ФАО, Россия стоит на пятом месте по объемам производства газетной бумаги в мире, процентная доля – 6%. Производство РВ в 2013 г. составило 1759 тыс. тонн (-3%). На экспорт отправлено 74% от всего объема производства. По объемам поставок газетной бумаги на мировые рынки России занимает второе место в мире. Внутренний спрос в России на газетную бумагу последнее время падает – в 2013 году спад составил 12%, а потребление достигло уровня – всего 465 тыс. тонн. Интересно отметить, что по данному показателю Россия лишь немного опередила Швецию. Уровень потребления газетной бумаги в Швеции составил 407 тыс. тонн.
Швеция потребляет газетной бумаги примерно столько же, сколько Россия. В 2013 году в Швеции почти на четверть снижены объемы выпуска газетной бумаги в Швеции, упали и поставки из других стран, спад составил 23%. Производство газетной бумаги в Швеции, как и в России – экспортоориентировано. Так на внешние рынки в 2013 г. попало до 77% всего объема выпуска.
Республика Корея отправляет на экспорт 46% произведенной газетной бумаги. Изменений по выпуску, экспорту и потреблению в 2013 году не отмечено.
Импорт газетной бумаги в Индию растет. Развивающийся рынок газетной бумаги в Индии в 2013 году также не показал изменений. На уровне предыдущего года остался объем производства – Индия стоит на 9 месте в мире, выпустив 1380 тыс. тонн. Экспорт – незначительный. А вот по объёмам импорта, Индия занимает второе место в мире, закупая столько же газетной бумаги, сколько производится. В 2013 году импорт газетной бумаги составил 1371 тыс. тонн. За год объёмы поставок выросли на 11%. Следует отметить, что Индия – основной импортер газетной бумаги из России. Внутренний спрос в Индии на ГБ также растет – за год потребление выросло на 5%, составив 2741 тыс. тонн.
Великобритания сокращает ввоз газетной бумаги в страну. Замыкает десятку стран–лидеров по выпуску газетной бумаги – Великобритания. Производство в 2013 г. выросло на 4% до 1233 тыс. тонн, на экспорт отправлено 27% от выпуска – 333 тыс. тонн (-1%). Импорт в 2013 г. сократился на 22% до 510 тыс. тонн. Великобритания – страны с традициями. Одной из таких традиций является ежедневное чтение объёмных газетных изданий. Несмотря на традиции внутренний спрос на ГБ в Великобритании понемногу падает – в 2013 году спад составил 6% до 1410 тыс. тонн.
Анализируя динамику выпуска газетной бумаги, отметим, что производство в Новой Зеландии в 2013 г. упало на 48% до уровня 145 тыс. тонн, а в Малайзии, напротив, выросло на 48%, достигнув уровня 400 тыс. тонн.
Экспортные поставки газетной бумаги
Лидер экспорта ГБ – Канада, увеличил в 2013 г. поставки на 8%, экспортные цены упали на 5% и в среднем составили 630,7 $/т. Россия, по данным ФАО, сохранила уровень экспорта и цены на уровне предыдущего года – 1298 тыс. тонн и 532 $/т. соответственно. На 2% подешевела газетная бумага из Швеции до 643,5 $/т, экспорт упал почти на треть. Экспорт из США подешевел на 7% 577,2 $/т., поставки выросли на 9%.
Увеличился экспорт газетной бумаги и из Франции, рост составил 7%, цены упали на 1% до 632 $/т. Стала дешевле газетная бумага из Германии – минус 2%, поставки выросли на 7%. Республика Корея отправляла бумагу по цене предыдущего года. Из десяти стран–лидеров экспорта ГБ, только Норвегия и Бельгия увеличила цены экспорта соответственно на 1% до 553 $/т и 2% до 611 $/т. Финляндия увеличила экспорт на четверть. Цены упали на 1% до 596 $/т.
Импорт газетной бумаги
Среди стран-лидеров по импорту газетной бумаги существенный спад отмечен в Великобритании – минус 22%. Цены упали на 6%. Индия, напротив, увеличила ввоз газетной бумаги, цены при этом упали на 5%.
Существенное падение объёмов импорта в 2013 г., кроме перечисленных выше стран, было отмечено по таким регионам, как Швейцария (-17%), Австралия (-25%), Финляндия (-20%), Болгария (09%), Сербия (-25%). Поставки газетной бумаги в прибалтийские страны невелики, однако в отчетном году по этим странам отмечен рост на уровне 30-ти процентов.
Текстильные выставки Узбекистана представят 250 компаний
10-12 сентября 2014 года в Ташкенте пройдут выставки «Текстильное оборудование и технологии – CAITME2014» и «Текстильная индустрия – Textile Expo Uzbekistan 2014». В преддверии этого события, 5 сентября, организатор выставок - компания ITE Uzbekistan провела пресс-конференцию, сообщает НИА «Туркистон-пресс».
Как отметила Генеральный директор компании Нигора Хасанова, эти международные текстильные выставки являются крупнейшими на пространстве СНГ. В этом году объединенная экспозиция выставок представит около 250 компаний из 22 стран. География экспонентов охватила страны Европы и Азии, в их числе: Беларусь, Бельгия, Великобритания, Германия, Индия, Италия, Китай, Республика Корея, Кыргызстан, Люксембург, Нидерланды, Польша, Россия, Румыния, Словацкая Республика, США, Турция, Узбекистан, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Япония.
За годы проведения выставок, данное событие завоевало доверие у ведущих компаний, производителей оборудования для текстильной индустрии, всемирно известных брендов, которые возвращаются в Узбекистан для представления своей продукции и новинок на местном рынке.
Экспозиции последних лет свидетельствуют о том, что CAITME - это настоящая бизнес площадка, организованная в лучших традициях Европы. Если в2013 г. деловая программа выставки включала презентации, встречи и переговоры со специалистами из Бельгии, национальные павильоны Германии и Республики Корея, то в этом году впервые среди экспонентов ряд компаний - дебютантов, объединенных под флагом Итальянской Республики.
Организатором Национального стенда Италии выступили: Агентство по продвижению внешнеэкономической деятельности итальянских компаний - ICE, а также Ассоциация ACIMIT. История некоторых из производителей в составе группы насчитывает свыше 100 лет существования на рынке текстильной промышленности: Bonino Carding Machines, Biancalani, Ratti Luino SRL, STALAM S.p.A. и другие.
За три дня, представляя продукцию и услуги зарубежных и узбекистанских производителей, выставка даст профессиональным посетителям экспозиций безграничные возможности для развития бизнеса. Сегодня в Узбекистане разработана и внедряется концепция развития легкой промышленности республики на период 2015-2020 гг. В частности, планируется увеличить производство хлопчатобумажной пряжи с 218 тыс. 300 тонн до 562 тыс. 800 тонн, хлопчатобумажных тканей - с 120 млн. кв.м до 340 млн. кв.м.
Государственная акционерная компания «Узбекенгилсаноат», ежегодно оказывающая поддержку выставкам, намерена увеличить выпуск трикотажных полотен с 40 тыс. 600 тонн до 110 тыс. 500 тонн, трикотажных изделий с 138 млн. 600 тыс. штук до 296 млн. штук, швейных изделий с 6 млн. 100 тыс. штук до 20 млн. 100 тыс. штук. Реализация Концепции требует немалых инвестиционных вложений, а также привлечения современного оборудования и технологий производства, которые также будут представлять стенды CAITME 2014.
Важной чертой экспозиции является и то, что на самой выставке посетители смогут увидеть многие из машин в деле, так как участники проведут мастер-классы для потенциальных партнеров.
Среди постоянных экспонентов раздела «Прядильное оборудование» - Marzoli SPA (Италия), Rieter Machine Works Ltd., Suessen (Швейцария), Saurer Schlafhorst, Truetzschler Gmbh (Германия), «Крутильные и мотальные машины» - Allma Volkmann Zweigniederlassung Der Saurer Germany (Германия), Zhejiang Jinggong Science&Technology Co.,Ltd (Китай), «Швейное оборудование» - дебютное участие AMF Reece (Чехия), Astas Endustri Tekstil Makinalari, (Турция), Brother, JUKI, Kansai Special (Япония), Garudan /Anita S.R.O. (Чехия).
В секции «Красильное оборудование» по количеству представленных компаний в этот раз лидируют производители Турции: Beneks Makina, Dilmenler Makina, Elips Tekstil Pazarlama, Enmos, Metsa Metal, Beneks Makina а также Германии - Fong's Europe GMBH, Textima Export&lmport GMBH, Thies Gmbh & Co. Kg. Кроме того в эту секцию войдут: China Texmatech Co.,Ltd. (Китай), Cubotex SRL, Motex Di Modiano Guido (Италия), Prashant Group, Texfab Engineers, Yamuna Machine Works Limited (Индия), Vald. Henriksen B.V. (Нидерланды), а также и многие другие представившие этикетки, лейблы, упаковочные материалы, вышивальное оборудование, носочные автоматы, компрессоры, швейные иглы, кругловязальные, чесальные, роликовые печатные машины, текстильные химикаты и прочие без чего невозможно обеспечить полноценный производственный процесс в текстильной промышленности.
В числе новичков на CAITME2014 будут представлены свыше 40 компаний.
Показ результатов самых современных технологий проведут стенды Международной выставки TextileExpo Uzbekistan 2014, где среди экспонентов десятки местных производителей высококачественной продукции, ориентированной на экспорт - пряжи, тканей, трикотажного полотна, готовых изделий, детской и взрослой одежды среди которых: ИП Alkim Textile, BF Tekstil Produktion, Eko-Plastex, Movaraunnahr Teks, Osborn Textile, Ottoman Textile, Silva Unikan, Uz-Tex.
Дебютантами, представляющими Узбекистан, выступят - Ars Triomax, СП Mighty Tiger, Textile Technologies Group, Kortexsocks, Korean Hosiery Mill и др.
В целях поддержания отечественного производителя и привлечения большего количества иностранных предприятий-закупщиков на рынок Узбекистана ITE Uzbekistan традиционно проводит специальную «Баерскую Программу», участниками которой являются оптовые закупщики из Казахстана, России, Украины и других стран СНГ.
04.09.2014, НИА «Туркистон-пресс»
Депутаты из Франции, Великобритании и Греции чаще своих коллег в Европарламенте голосовали против ассоциации Украины с ЕС. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте организации независимых наблюдателей VoteWatch Europe.
Ратификацию соглашения об ассоциации с Украиной не поддержали более трети французских парламентариев (27 из 74), треть британцев (22 из 73) и более половины греческих депутатов (12 из 21). Также свои голоса против ассоциации отдали евродепутаты из Германии, Чехии, Испании, Нидерландов, Венгрии, Италии, Польши, Австрии, Бельгии и Португалии.
Странами, единогласно принявшими ратификацию соглашения, стали Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Литва, Эстония, Финляндия, Мальта и Люксембург.
Верховная рада Украины и Европарламент 16 сентября ратифицировали соглашение об ассоциации Киева с ЕС. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ассоциации сразу после ратификации документа.

Иммигранты держат итальянскую экономику на плаву
Количество предприятий малого бизнеса, которыми владеют иммигранты, с апреля по июнь 2014года выросло на 44%.
Всего в Италии жители неевропейских стран владеют 325 000 предприятий малого бизнеса, по данным палат коммерции Unioncamere и Infocamere, сообщает портал The Local.
Лидируют по количеству такой собственности марокканцы, они владеют 63 000 предприятий, а 46 000 организаций принадлежат китайцам. Албанцы являются владельцами 30 564 компаний, особенно в сфере строительства, а жители Бангладеша – 23 000 компаний, в основном в сфере туризма и коммуникаций.
Аналитики говорят о том, что предпринмателям-иммигрантам удалось воспользоваться итальянской рецессией и скупить многие предприятия по низким ценам.
Большинство таких компаний находятся во Флоренции, Милане и Прато.
Рост количества фирм, которыми владеют иммигранты, подстегивает создание новых рабочих мест. В одном только Риме 35 000 итальянцев работают в 30 000 компаниях, принадлежащих иностранцам.
В то же самое время 106 тысяч жителей Италии в 2012 году покинули страну в поисках работы в иностранных компаниях.
В ШВЕЦИИ ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ 99% ВСЕХ ОТХОДОВ
«Революция переработки», вот как называют происходящее в Швеции, поскольку уровень переработки мусора здесь достигает почти 100%.
Скандинавская страна стала настолько хороша в переработке отходов, что им приходится импортировать мусор из Великобритании, Италии, Норвегии и Ирландии, чтобы обеспечить 32 электростанции, работающие на основе сжигании отходов.
«Отходы сегодня являются товаром, это совершенно другой подход, чем был ранее. Сегодня это не только мусор, это бизнес», объясняет менеджер по связям с общественностью шведской организации Swedish Waste Management Анна-Карин Грипвелл (Anna-Carin Gripwell).
Каждый год среднестатистический швед производит 461 килограмм отходов и эта цифра немного ниже средней полутоны по Европе. Но что отличает Швецию от других стран – это использование программы по сжиганию отходов, которая уничтожает более двух миллионов тонн мусора в год.
Этот процесс также отвечает за преобразование половины мусора страны в энергию.
«Когда отходы находятся на свалках, происходит выброс метана и других парниковых газов, это явно нехорошо для окружающей среды», говорит Грипвелл о традиционных свалках. Поэтому Швеция сосредоточилась на разработке альтернатив, чтобы уменьшить количество токсинов, просачивающихся в землю.
В основе шведской программы лежит иерархическая система управления отходами, направленная на сокращение вреда окружающей среде: уменьшение количества мусора, повторное использование, переработка, альтернативы утилизации (получение энергии при помощи электростанций), и только потом свалка.
Перед тем, как отходы заберут грузовики на электростанции, мусор фильтруется в домах и на предприятиях; разделяются органические отходы и бумага из корзин для бумаги, а любые предметы, которые могут быть восстановлены и повторно использованы, извлекаются.
Согласно шведским законам, производители отвечают за все расходы, связанные со сбором, переработкой или утилизацией своей продукции.
Эти правила, введённые еще в 1990-х, стимулируют компании занять более активную, экологически сознательную позицию касательно продуктов, которые они выводят на рынок. Это было также хорошим способом облегчить жизнь налогоплательщиков и уменьшить их затраты на переработку отходов.
Электростанции на основе сжигания отходов работают путем загрузки мусором печей, сжигая который, получает пар, который используется для вращения генератора турбины, который производит электроэнергию. Это электричество затем направляется в национальную сеть и распределяется по всей стране.
В Хельсингборге, где население составляет 132 989, одна такая электростанция производит достаточно энергии, чтобы удовлетворить 40% отопительных нужд населения. По всей Швеции энергия, вырабатываемая электростанциями на основе сжигания мусора, обеспечивает отоплением около 950 000 домов, и электричеством около 260 000 домов.
Переработка и сжигание превратились в эффективные методы управления отходами, помогая стране резко сократить количество мусора, попадающего на свалки. Эти усилия также помогают снизить зависимость от ископаемых видов топлива.
«Хороший пример: три тонны отходов содержат сколько энергии, сколько тонна мазута, так что в отходах достаточно энергии», говорит Горан Шкогланд (Göran Skoglund) представитель Öresundskraft, одной из ведущих энергетических компаний страны.
Но процесс сжигания мусора не настолько зеленый, как кажется. Критики утверждают, что большое количество загрязнений и токсинов отправляются прямо в воздух.
Согласно последним исследованиям, опубликованных в журнале Environmental Science and Technology, более 40 % мусора сжигается прямо в открытый воздух. Но этот процесс заметно отличается от принятых в Швеции законов по регулированию выбросов.
Стоимость запуска нового мусоросжигающего завода для многих местных властей является неподъемной и зависит в первую очередь от степени интеграции процесса, который используется для фильтрации гари и угарных газов. В обоих содержатся диоксины, загрязняющие окружающую среду компоненты.
Процесс сжигания далек от идеала, но технологические улучшения и внедрение систем очистки угарных газов снизили уровень взвешенных диоксинов до «крайне незначительного количества», согласно информации Агентства по Защите Окружающей Среды Швеции.
Пока производители не перестанут производить свою продукцию из материалов, которые не могут быть использованы повторно или сожжены, нам не удастся достичь уровня переработки мусора в 100%. Товары, произведенные из или содержащие такие вещества как асбест, фарфор, изоляцию, керамику, и конечно разнообразное строительство и снос зданий не могут быть безопасно сожжены – они будут оставаться на свалках.
«Мир должен производить меньше отходов», объясняет Шкогланд.
Успех шведской программы по утилизации и переработки отходов не пришел сегодня – то, что сейчас происходит это плоды тех самых побегов, изменивших сознание людей десятилетия тому назад.
В Германии Законом о наркотических веществах свободный оборот марихуаны запрещен. Но есть единственное исключение, которое касается реализации наркотического вещества в лечебных целях. Похожее законодательство действует и в Италии, где также пошли по пути легализации конопли лишь как терапевтического средства. Однако, в отличие от ФРГ, на Апеннинском полуострове местным аптекам не выдают лицензии на реализацию медицинских препаратов, содержащих в своем составе марихуану.
Итальянские военные будут выращивать коноплю
Выращивать коноплю частным порядком в Италии также не разрешается. Поэтому на сегодняшний день итальянским медикам приходится закупать наркотические лекарственные средства из-за границы, в том числе из Федеративной Республики, однако стоят эти препараты достаточно дорого.
По данным итальянских врачей месячный курс лечения рассеянного склероза препаратом, содержащим марихуану, обходится местным пациентам в 700 евро. К тому же в Италии такие лекарства весьма труднодоступны.
Кардинально исправить сложившуюся ситуацию решили в министерстве здравоохранения Италии, подключив армию страны (Forze Armate Italiane) к своей инновационной программе. Так, министр обороны Роберта Пинотти и министр здравоохранения Беатрис Лорензин заключили межведомственный договор, согласно которому марихуана будет выращиваться на заводе во Флоренции, принадлежащему министерству обороны, и находиться под строгим контролем военных на протяжении всего пути производства.
При этом министры особо отметили, что коноплю будут выращивать «только для создания лекарственных средств». О легализации марихуаны на территории Италии по-прежнему и речи быть не может. Скорее всего, отечественные лекарства на основе марихуаны появятся в итальянских аптеках уже в следующем году.
Идея о возможности реализовать право народа на самоопределение с помощью создания альтернативной государственности будет развиваться независимо от исхода референдума в Шотландии, заявил лидер бельгийской партии «Фламандский интерес» Герольф Аннеманс в интервью RT.
«Независимо от выбора шотландцев, процесс движения за независимость уже не остановить. Наиболее важным является то, что сама идея обретения независимости завоевывает все большую популярность среди европейцев», — считает Аннеманс.
С ним солидарен и Флориан Вебер, председатель «Баварской партии», выступающей за выход Баварии из состава ФРГ. «На настоящий момент 23 процента жителей Баварии выступают за независимость региона <…> это небольшие цифры, но еще двадцать лет назад в Шотландии было примерно столько же сторонников отделения», — отмечает он.
По мнению спикера «Партии за независимость Венето» Лодовико Пиццати, независимость обретается в результате прямого демократического выбора граждан.
«Этот процесс прямым образом вытекает из концепции европейской интеграции. Венето, Фландрия, Бавария или Шотландия не собираются строить национальные государства вроде Италии или Германии 19-го века, поэтому бояться Европе нечего», — подчеркивает он.
«Европейский союз должен приветствовать то, что происходит в Шотландии, и то, что будет происходить в Каталонии, Венето, Баварии и Фландрии. События в Шотландии непременно дадут развитие идеям о том, что отделение возможно и соответствует всем демократическим принципам, и запустят цепную реакцию», — уверен Пиццати.
Сегодня в блогах: Андрей Нечаев, Андрей Нальгин, Сергей Журавлев, Яков Миркин, Сергей Алексашенко, Николай Кащеев, Константин Сонин, Пол Кругман, Каллен Роше, Тайлер Дерден, Элисон Грисуолд, Марк Чандлер
ндрей Нечаев:
Цена на нефть падает. Будем затягивать пояса или менять политику?
Цена на нефть впервые за 14 месяцев упала ниже $100 за баррель. Рынок устал реагировать на геополитическую напряженность, и заработали факторы спроса и предложения. А спрос стагнирует при увеличивающемся предложении, в том числе за счет сланцевой нефти США. Для нас падение цены еще на 5–10% станет тяжелым испытанием для бюджета. А может оно и к лучшему. Что-то должно заставить российские власти поменять экономическую политику, а может и внешнюю тоже.
Андрей Нальгин:
О втором раунде антисанкций
Игра в «бей своих, чтобы чужие боялись» вступает во второй тайм. Предвижу массовые стоны на тему были «мы голодны, стали же голы и босы»...
Как сообщает РБК, российские власти подготовили второй пакет ответных мер на санкции Запада. Вторым пакетом Россия может ограничить импорт автомобилей и некоторых товаров легкой промышленности. «У нас есть целый ряд несельскохозяйственных продуктов, где наши, прежде всего европейские, партнеры больше зависят от России, чем Россия от них. Это касается, например, завоза автомобилей, прежде всего подержанных автомобилей, это касается некоторых видов товаров легкой промышленности, где мы уже сами можем производить. Не всех, некоторых видов одежды», цитирует агентство помощника президента РФ Андрея Белоусова.
Как представляется, провластная экономическая мысль двинулась в контрпродуктивном направлении. В общем-то, уже по внедрению пакета продовольственных антисанкций стало понятно, что такого рода меры, поспешные и непродуманные, стимулируют не столько собственный выпуск, сколько рост цен. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. В отличие, скажем, от 1998 года, когда производственные мощности были в избытке и страдали от недозагрузки (благодаря чему и стал возможен быстрый рост импортозамещения в условиях кратной девальвации рубля), сейчас такого и близко не наблюдается. Следовательно, без масштабных инвестиций в расширение производства собственный выпуск не наладить в необходимых масштабах.
Но тут во весь рост поднимается проблема избыточно высокой стоимости заемных ресурсов, которую новые западные санкции лишь обострят и к решению которой наши власти, похоже, не знают, как подступиться. На это накладывается жесткость монетарной и фискальной политики. И, до кучи, даже политика власти в области антисанкций остается непоследовательной: с учетом задекларированного намерения пересмотреть ограничения на импорт через пару-тройку месяцев, вкладываться в постройку в России новых производственных мощностей (даже если найти, где взять деньги и оборудование) совершенно не резон.
Кажется, более правильным было бы подумать о том, как поддержать развитие своего товаропроизводителя, а не как запретить чужого. Но пока о такого рода инициативах слышно до крайности мало, если не сказать почти ничего. И это довольно странно...
Сергей Журавлев:
ЦБ начал считать деньги. Плохой признак?
Мотивируя свое несколько неожиданное решение оставить ключевую ставку без изменения, ЦБ прибег, в частности, к крайне редко используемой денежными властями в мире отсылке к динамике денежной массы. Темпы расширения ее действительно резко ужались после мартовского валютного кризиса. Даже по «широкой» денежной массе, с учетом валютных депозитов в банках (которые очень выросли в этом году из-за слабого желания экспортеров продавать валюту в условиях непредсказуемого поведения властей), они снизились за несколько месяцев почти вдвое – с 16,7% в годовом сопоставлении на начало валютного кризиса в марте, до 9% к началу августа (по «национальным» деньгам М2 сжатие еще сильнее). Более низкое желание иметь деньги в России наблюдалось лишь в кризисном 2009 году (до октября).
Необычность этого аргумента в том, что динамика денежной массы краткосрочно (в интервале до полутора лет) является крайне неподходящим опережающим индикатором движения к конечным целям денежно-кредитной политики (то есть инфляции и, возможно, безработицы). Долгосрочная корреляция довольно устойчива, конечно (см. график), но это не имеет большого значения как операционный ориентир политики – за время запаздывания влияния денежной массы на целевые показатели «спрос на денежные остатки» может довольно сильно поменяться.
Аргументы в пользу повышения ставки, которые часто приводились в последние дни, можно свести к следующим трем:
Инфляция. Продуктовые санкции вряд ли дадут опуститься росту ИПЦ ниже 8,0% год. в течение следующих трех кварталов, и Банк России, вероятно, должен будет пересмотреть свой недавний прогноз в 6,0–6,5%. В последнем релизе в июле ЦБ РФ заявил, что «если высокие инфляционные риски сохраняются, [он] продолжит повышать ключевую ставку».
Но теперь, исходя из представления, что уже произошедшего в этом году ужесточения денежно-кредитной политики достаточно для движения к среднесрочной цели по инфляции, ЦБ описал нынешний новый всплеск инфляции как результат более продолжительного, чем предполагалось ранее, переноса на цены ослабления рубля, произошедшего в результате паники начала года, а также внешнеторговых санкций. Эти ограниченные во времени (то есть немонетарные) факторы, по мнению регулятора, хотя и оставят инфляцию на уровне выше 7% до конца года, но не повлияют на ее среднесрочный тренд (замедление до 4% – оно ранее ожидалось в 2016 году, теперь ЦБ предпочитает не указывать год, ожидая, что замедление цен начнется в первом полугодии 2015 года).
В отношении «разрыва выпуска» (то есть недоиспользования потенциала рабсилы и производственных мощностей) и возможности с помощью ставок стимулировать деловую активность, Банк России подтвердил свои прежние оценки, что ни того, не другого нет, и нынешнее замедление роста ВВП практически до нуля является структурным.
Рубль. Ослабив контроль над обменным курсом с помощью интервенций, ЦБ мог бы использовать ставки против потенциального давления на рубль. Особенно в свете сегодняшних новых санкций на привлечение капитала госбанками, в совокупности со старыми усиливающими чистый отток капитала из РФ на 1-2% ВВП (при прочих равных условиях).
Фондирование банков и смягчение разрыва ликвидности. Повышая ставки предоставления ликвидности, ЦБ РФ, возможно, мог бы ускорить сходимость между рублевым фондированием банков (в условиях сжатия валютного) и ростом кредитования. Однако, учитывая, что сохраняющаяся неопределенность и так будет подавлять кредитную активность, по крайней мере, в течение нескольких следующих месяцев, желание ЦБ не форсировать сжатие возникших «ножниц ликвидности» понятно.
Яков Миркин:
Осенняя элегия
Падают золотые листья. Два ведомства тихо добивают российскую экономику в 2014 году. Минфин – попыткой увеличения налоговой нагрузки, и без того сверхтяжелой, и отказом вводить ударные налоговые льготы за рост и модернизацию. И Банк России – повышением ключевой ставки (процента в хозяйстве) и жесткой денежной политикой (сдерживание денежной массы и уменьшение монетизации экономики).
Спасает обесценение рубля. От него лучше экспортерам и бюджету, но хуже импортерам и тем, кто вывозит капитал. Это единственный луч света в темном царстве при падающих ценах на нефть и газ (уже показались $97 за баррель).
Но этот «луч света» опасен, как никогда. Это тяжелый наркотик, толкающий к гиперинфляции. Наша экономика постепенно запутывается – в санкциях, в утрате бизнеса на Украине, в военных расходах, в политических рисках, в бегстве капитала, во взрывном росте регулятивных издержек.
Слишком много ограничений, слишком мало послаблений и хороших новостей.
Прогноз – пока по-прежнему к зиме. До двух-трех лет относительной устойчивости, и дальше, если не изменится экономическая политика, может начаться сильная нестабильность. Наш самолет пока летит, находится в сильной турбулентности, но может свалиться в штопор.
Что делать? Менять финансовую политику, но не только. Начать политику ослабления ограничений для российского бизнеса и среднего класса, мешающих им расти. «Умная либерализация» в экономике. Не в политике – во внутренней экономике.
Но это уже политическое решение. Ау! Ноябрь уж скоро на дворе, а за ним – трескучие морозы и тяжелая зима российского хозяйства, шаткого, плохо утепленного, с дырами во всех щелях
Сергей Алексашенко:
Коррупция «в законе»
Лет 12 назад, когда я работал в «Интерросе», одним из активов, с которыми я работал, был 25%-ный пакет в «Верхнечонскнефтегазе». Поскольку контрольный пакет этой компании тогда формировался за счет объединения пакетов ТНК и ВР (которые еще не соединились), то шансов на управленческий контроль у «Интерроса» не было. И поэтому в соответствии со стратегией этот пакет был выставлен на продажу. Сказать, что он вызвал ажиотаж – будет неправдой. Мало кому, мало-мальски знакомому с российской практикой корпоративного управления, хотелось становиться миноритарием в такой компании. Но покупатели все-таки нашлись, и самые привлекательные условия были предложены китайской CNPC.
Уже в самом начале правления Владимира Путина (до дела ЮКОСа) российские олигархи престали быть полноценными собственниками и не могли без «разрешения» Кремля продать свои активы кому решат. Поэтому о возможной сделке были проинформированы кто нужно, и … раздался резкий окрик: «Не сметь!» В достаточно понятной и категоричной форме было заявлено, что никакие сырьевые активы продаже китайцам не подлежат. Ни 100%, ни 10%.
Однако постепенно ситуация начала меняться, и уже редкая неделя проходит без того, чтобы мы не услышали об очередном проекте выкапывания чего-нибудь из российских недр для поставки в Китай. Нефть, газ, железная руда, медь и так далее. В эту гонку включились энергетики, которые хотят строить электростанции на территории нашей страны для поставок энергии в Китай. И, как правило, эти проекты предполагают получение финансирования для своего развития из Китая.
Недавно произошла еще одна знаменательная сделка – продажа 10% Ванкорского месторождения, важнейшего для «Роснефти». (Похоже, совсем плохи дела у нашего монстра, и для обслуживания долга приходится продавать бриллианты из своей короны. Бриллианты, впрочем «краденые», но это выходит за рамки сегодняшнего сюжета). Понятно, что этот пакет никакого менеджерского контроля китайцам не дает, но, ведь, если коготок увяз, то всей птичке пропасть…
Но все-таки сделку «Роснефти» понять можно – бизнес есть бизнес и по долгам надо платить. А вот сделка, объявленная «Ростехом», – создание совместного инвестиционного фонда с китайской компанией Sinomach – меня потрясла. Дело даже не в том, что фонд будет ориентироваться на «реализации крупных транспортных и инвестиционных проектов» в разных странах, в первую очередь, в России. В конце концов, и ежику понятно, что с технологиями у нас плохо, а с крупными проектами – хорошо. Меня потрясло то, что все (!) деньги в этот фонд вложат китайцы, но поскольку «китайские инвесторы консервативны и с учетом российских рисков крупные инвестиции дают неохотно, а Ростех их риски может хеджировать».
Вы хорошо поняли сказанное? Похоже, что отныне «Ростех» становится тем самым единым окном, через которое китайская компания будет получать доступ к крупным проектам на территории нашей страны, которые, как правило, щедро финансируются бюджетом. В деловом посредничестве ничего зазорного нет. Это нормальный бизнес. В мире им, как правило, занимаются инвестбанкиры и консультанты. И неплохо зарабатывают на этом. В России они тоже на этом зарабатывают, но помимо них на посредничестве при продаже доступа к бюджетным заказам зарабатывают и многие другие – от жуликов до высокопоставленных чиновников. И вот, похоже, заработкам последних приходит конец – какой смысл платить жуликам и чиновникам, если все, что они делали теперь будет делать «Ростех»?
Вы знаете, я готов согласиться с такой монополией – ведь, по сути дела, речь идет о вытеснении коррупции. Более того, готов даже поддержать эту монополию, но при одном «но» – если уж российские власти согласились на то, чтобы заменить взятки официальными платежами, то правильнее будет полученные деньги направлять в бюджет. А не отдавать «Ростеху», который даже и отчетности нормальной не публикует.
И последнее. А почему бы «Ростеху» не распространить эту технологию и на других инвесторов? И не только иностранных? И по всей стране? Может, это и будет та единственная успешная технология, которую он сможет продемонстрировать налогоплательщикам?
Николай Кащеев:
Очень простая мысль
Даже (даже!) если ты живешь в замкнутой системе. Напечатай денег – дай их в оборонку – оборонка заплатит их своим работникам – работники придут с ними в магазин – а там... мобилизационная экономика и контрсанкции. «Ты кто? – Я – Инфляция, чмоки! А ты кто? – А я... Ну, это... мог бы быть инвестицией в основной капитал. Но теперь не буду – спасибо тебе, Инфляция! Кстати, тут Инвестиционный Климат не проходил? – Нет, давно не было. – Ну, привет от Венесуэлы! Мы пошли в доллар». Занавес.
Константин Сонин:
Немного солнца в холодной воде
Судьба Украины решается сейчас не в экономической сфере, но за реформы они взялись серьезно. (Как и требовали академические коллеги). Это те самые структурные реформы, которые на бумаге выглядят очень просто – отменять-не-строить, а в реальности проводятся исключительно тяжело. Но пока дело Кахи Бендукидзе, выдающегося экономического реформатора, живет и побеждает. Не без его участия, конечно.
Надо сказать, что «академически» мысль о том, что реформы нужно проводить быстро и сразу, живет давно – как минимум со знаменитой статьи Джоела Хеллмана (с притягательным, но не имеющим особого отношения к делу названием) 1997 года. Бальцерович и Клаус соглашаются.
Интересно, что Каха бы сказал, про частичное откладывание исполнения соглашения ЕС-Украина. Там, насколько я понимаю, «откладывание» – это целиком в пользу Украины (то есть они получают выгоды сейчас и откладывают издержки на потом), но, с точки зрения политики реформ (а снижение тарифов – это очевидная и радикальная реформа) всегда лучше прыгать в холодную воду, чем входить в нее потихоньку.
Пол Кругман:
Структурный фетиш
На FT вышла интересная статья о формирующейся доктрине «Драгономика», которая очень похожа на Бланхардономика, которая, в свою очередь, очень похожа на Кругманомику. Ну, дело в том, что мы все изучали макроэкономику вМмассачусетском технологическом институте в середине 1970-х годов. Но меня поразил этот пассаж:
Один из европейских политиков, присутствовавший на форуме еврозоны, сказал: «Структурные реформы являются ключевыми. Те страны, которые предприняли усилия в этом направлении, имеют лучшие показатели. Это Ирландия, Испания и Португалия. Италия и Франция должны хоть чуть-чуть думать об этом».
Да уж, Испания даст полезный урок Франции:
ля тех, кто не является приверженцем культа структурных реформ, поясню. Испания пережила полномасштабную депрессию, когда лопнул пузырь недвижимости. Эта депрессия привела к постепенной болезненной «внутренней девальвации», стоимость труда снизилась, сделав Испании более конкурентоспособной в Европе. Как следствие, экономика Испании начала в последние кварталы понемногу восстанавливаться, и темпы ее роста в последние кварталы (но только в последние кварталы) выше, чем во Франции. Но очень сложно увидеть в столь печальных показателях торжество структурных реформ.
Каллен Роше:
Почему большинство американцев до сих пор не ощутило, что экономика восстанавливается
Я хотел бы поблагодарить ФРС за крушение моих планов на день. Я ждал обзора потребительского рынка за 2013 год, чтобы рассказать счастливую историю, но свежий отчет оказался совершенно удручающим. Хотя фондовый рынок и вырос, а экономика, как представляется, выходит из кризиса 2009 года, данные ФРС делают эту радужную картину более мрачной.
Эту удручающую истории можно суммировать в трех простых графиках. Первый показывает реальный средний доход домашних хозяйств начиная с 1989 года. Он не растет:
Тайлер Дерден:
Что происходит в американской экономике?
Изо дня в день мы ждем экономического роста, но ипотечные ставки растут. Активность на ипотечном рынке замерла:
Элисон Грисуолд:
Американская концепция престижных профессий за 37 лет изменилась
Какую работу американцы считают престижной? На этот вопрос отвечали респонденты Harris. На первом месте – профессия врача. Затем офицер, пожарный, ученый и медсестра. Оставшаяся часть списка включает в себя другие «сервисные» профессии, например, полицейский, священник и учитель.
В этом году Harris впервые провел опрос в онлайн-режиме (слегка изменив методологию). Но такую статистику компания собирает, начиная с 1977 года. Тогда список должностей был короче, и 60% на первое место поставили ученого. Врачи заняли второе место. В 1997 году ученые и врачи также считались самыми уважаемыми людьми.
Harris не делится с общественностью определением «престижности», которое поступает в основание исследования. Наверное, каждый респондент имеет в виду что-то свое, но в целом результаты вот такие. Исходя из ответов получается, что, по мнению среднестатистического американца, престижная работа – это либо достаточно высокий уровень образования и хорошая должность на государственной службе. Американцы, в частности, не приравниваю престиж к славе: актеры и артисты падают в нижнюю половину списка. Деньги, кажется, тоже не имеет большого значения, потому что юристы, бизнесмены и банкиры также не на самых верхних позициях этого рейтинга.
Наверное, люди ориентируются на понятие о престижности профессии, когда стремятся направить своих детей на тот или иной факультет университета. Но «самая престижная профессия» далеко не всегда оказывается самой востребованной на рынке труда.
Марк Чандлер:
Сколько стоит колледж?
Начало нового учебного года усиливает беспокойство по поводу роста стоимости высшего образования. Стоимость обучения в колледже все больше бьет по карману средней семьи. Цена образования выросла быстрее, чем инфляция, долги по таким целевым кредитам резко выросли, а молодежи сложно найти работу после вуза.
В то же время, кажется, что все больше людей задаются вопросом о стоимости колледж. New York Federal Reserve’s Current Issues опубликовал статью, в которой рассматривается значение высшего образования. Конкретно речь идет о профессиях юриста и получении степени бакалавра. Авторы статьи приходят к выводу, что выгоды от наличия высшего образование все еще перевешивают издержки на университет. В то время как затраты выросли, заработная плата у работников без оконченного высшего образования упала.
Эти два графика иллюстрируют выводы, приведенные в статье.
Стоимость четырех лет обучения на бакалавра снизилась с $120 тыс. в начале 1970-х годов до $80 тыс. в начале 1980-х годов. Но к концу 1990-х она резко выросла до почти $300 тыс. и держалась на этом уровне, причем снижение в кризис не было столь заметным.
Второй график показывает, сколько лет придется работать, чтобы окупить затраты на колледж. Авторы используют метод дисконтированных денежных потоков, которые были использованы для расчета чистой стоимости и определить, через сколько лет человек начнет получать прибыль от наличия высшего образования.
Оказывается, что время, необходимое на то, чтобы окупить расходы на бакалавриат, существенно сократилось в 1980-х годах. В конце 1970-х годов потребовалось бы почти два десятилетия, чтобы высшее образование окупилось. Теперь на это уходит 10 лет.
Авторы делают вывод, что значение высшее образование остается вблизи своих исторических максимумов, а сроки выхода на доходность – вблизи исторических минимумов. Это исследование является частью более крупной работы, в которой рассматриваются случаи, когда высшее образование не окупилось для конкретных людей. Колледж может оказаться и отрицательной инвестицией.
Spydell:
Наука и технологии. Затраты на R&D
С патентами, безусловно, много нюансов, так как пока нет единого стандартизованного критерия автоматического и бесспорного определения иерархии в технологическом насыщении и наукоемкости патентов на продукты и исследования. Есть так называемые патентные тролли, патентующие воздух для последующих юридических склок и подавления конкурентов. А есть патенты, призванные защитить уникальные интеллектуальные и достаточно сложные разработки.
Патенты на технические решения в функционировании ядерных реакторов, космических аппаратов или систем противоракетной обороны не равнозначны патентам в степени закругления иконок и их расположении на экране iPhone, цветовую гамму меню или отступы рамки экрана от краев смартфона. То есть, патентный портфель, например Apple (в котором на 90% троллинг патентование для рычагов ограничения конкуренции на рынке) не равнозначен реальной интеллектуальной собственности в какой-нибудь аэрокосмической корпорации.
Кроме того, на конечном результате сказывается так называемая патентная культура. Одни компании или ученые могут патентовать малейшую малозначительную итерацию, другие же, наоборот, придерживаются концепции открытости на научные изобретения, даже если исследование достаточно масштабное.
Критериями определения технологического прогресса могут быть:
Затраты на исследования и разработки, количество людей занятых в R&D, количество научно-исследовательских центров, институтов, лабораторий.
Некий реальный выхлоп от деятельности – международно-признанные патенты, верифицируемые научные статьи в авторитетных научных изданиях.
Практический эффект от деятельности. Произведенная высокотехнологичная продукция и что особо важно – международное признание, нужность этой продукции в других странах, что выражается в величине экспорта хайтек-продукции.
Про экспорт и патенты писал. Но какие затраты на исследования и разработки?
В данные будут включены расходы государства, бизнеса и венчурных фондов в фундаментальные и прикладные исследования, как в высших учебных заведениях, НИИ, научно-конструкторских центрах, так и в недрах самих компаний. Вся информация из OECD из отчетов Research and development (R&D). Сортировка стран от большей к меньшей по размеру экономики среди тех, по каким есть данные.
Инвестиции Китая в науку, исследования и разработки поражают воображение. В 2000 году было около $30 млрд. (чуть меньше Франции на тот момент), теперь под $300 млрд. (на 2012 год), что уже сравнимо с 15 самыми крупными странами ЕС (все вместе в сумме). По всей видимости, сейчас Китай уже превосходит ЕС из 28 стран. Абсолютный лидер в R&D являются США – $453 млрд. инвестиций. С такими темпами развития Китай уже в 2016 году сможет нагнать США. Китай с 2008 по 2014 годы, то есть за четыре года, удвоил расходы на R&D. В 1999 году разрыв Китая от США был десятикратный, сейчас уже сходится в ноль.
В таблице видно, что ведущие страны, такие как США, Япония, Франция, Германия, Великобритания за пять лет увеличили инвестиции на 5–20%, что в рамках приращения инфляции за соответствующий период. Наиболее мощный прирост расходов на R&D идет в Китае и Корее.
Если сравнивать 10–15-летний период, то разрывы еще более фантастические. То есть из этой информации выходит, что основной импульс в науке в Азии был получен после 1995 года, где стремительный взлет произошел после 2002 года. По сути, наука и технологии там создаются на глазах почти с нуля.
Тут интересно вот что. Когда критическая масса научного потенциала и разработок будет достаточной, чтобы влиять на мировой баланс? В принципе, известно, что долгое время технологическими трендами двигали компании из США, Японии, Англии, Германии, Франции, Италии, немного Швеции и Швейцарии. У всех на слуху западные компании. Но для мирового сообщества не так известны китайские компании, бренды. Много ли вы сможете назвать китайских брендов с мировым именем?
Но по ряду объективных признаков видно сверхагрессивное развитие научного и технологического потенциала в Китае – по темпам строительства высших учебных заведений, по количеству созданных НИИ, количеству патентов, научных статей и затрат на R&D. А ведь следует учесть, что $300 млрд. (на 2012 год) расходов на R&D в Китае – это не тоже самое, что $300 млрд. в США, так как цены и зарплаты в Китае совершенно другие, чем в США и ЕС. Например, в 28 странах ЕС трудится около 2,6 млн. человек в сфере R&D, а в Китае под 3,3 млн. Если для ЕС количество занятых последние 10 лет практически не меняется, то в Китае растут в разы. Следует ожидать мощного прорыва Китая во внешний мир.
В России $38 млрд. идет на R&D, где на государство приходится около $12 млрд., но не все идет на науку из этой суммы, а в государство еще включено R&D в госкомпаниях в сфере ОПК и космоса. $38 млрд. – это выше, чем в Италии и Канаде, примерно на уровне Великобритании, но значительно меньше, чем в Германии. Хотя стоит отметить положительную динамику, так как еще в 2003 году были позади Италии и Канады.
Вообще лидеры в R&D следующие – США, Китай, Япония, Германия, Корея и Франция. Именно в таком порядке и с подозрительной точностью эта группа лидеров совпадает с лидерством в экспорте высокотехнологической продукции и в количество патентов. То есть создать технологии мирового уровня без супермасштабных инвестиций на голом энтузиазме невозможно.
По внутренним госинвестициям в R&D Россия рядом с ТОП-3 после США и Китая на уровне с Японией и Германией, но это связано с тем, что у нас большое количество компаний с государственным участием, особенно в сфере оборонки и космоса.
По источникам финансирования совокупного R&D доля государства у России очень высокая. Выше только в Аргентине. Дело в том, что помимо внутренних расходов (например на науку или государственного предприятия) в России много средств идет формально частным компаниям, но так или иначе аффилированным с государством.
По миру среди ведущих стран доля государства колеблется от 20% до 35%. В России под 70% Отмечу, что доля выросла с 1999 года. Частных денег все меньше...
Отношение всех расходов на R&D к ВВП.
В России 1,3%. За 15 лет доля почти не выросла. Сейчас на уровне Великобритании, но там есть значительный накопленный технологический базис на высоком уровне. Мы же сильно отстали по технологическим отраслям. А Китая и Корея активно наращивают вложения как в абсолютном выражении, так и в относительном.
Видно, что технологические страны имеют расходы на R&D от 3% и выше. Помимо уже указанных стран можно отметить Швейцарию, Швецию, Финляндию, где наука и технологии имеют высокий вес в экономике.
Чтобы компенсировать отставание от ведущих стран, России необходимо увеличить инвестиции на R&D до $100–120 млрд. в год (как раз 3% к ВВП), что в течение пяти-семи лет хотя бы несколько выровнять диспропорции. Из группы крупнейших развивающихся стран (Китай, Россия, Бразилия, Индия, Мексика, Турция, Южная Африка, Индонезия, Аргентина, Чили). Расходы на науку выше, чем в России только у Китая. В этом аспекте нельзя сказать, что совсем все плохо с наукой в России. Если же сравнивать с безусловными лидерами – США, Китая, Япония, Германия, Корея, Франция – то да, плохо. Но зато даже после лихих 1990-х Россия все еще может конкурировать с мировыми лидерами в сфере ОПК и космоса, а это в чистом виде технологическое производство. Так что потенциал есть.
Совокупные R&D на душу населения в динамике.
Низкое соотношение в Китае обусловлено слишком большим количеством населения (более 1,3 млрд.), тогда как абсолютные показатели и потенциал высоки в мировом масштабе. Кстати, группу развивающихся стран, помимо целого ряда известных признаков, еще отличает малое количество R&D на душу населения.
Диаспорическое воображение и культурная идентичность
Ирина Прохорова
Мы не в изгнаньи, мы в посланьи...
Нина Берберова
Мы не в изгнаньи, мы в посланьи… на х.й…
Юз Алешковский — Нине Берберовой
Быть в диаспоре означает для нас развивать те особенности русского слова, которые... не могут быть развиты в метрополии.
Александр Гольдштейн
Дорогой читатель,
мы рады представить тебе очередной специальный выпуск «Нового литературного обозрения», посвященный исследованию культурных механизмов конструирования идентичности в диаспорах.
Интерес «НЛО» к диаспорам обусловлен, прежде всего, дальнейшей разработкой и продвижением большого проекта по изучению антропологии закрытых модерных обществ, которые журнал ведет на протяжении последних лет. В рамках этого системного исследования на страницах «НЛО» регулярно публикуются тематические подборки статей; к настоящему времени вышло также три больших спецвыпуска: «1990: Опыт изучения недавней истории» (2007. № 83/84), «Антропология закрытых обществ» (2009. № 100) и «Семиотика августа в XX веке» (2012. № 116/117). Все они так или иначе касаются одного круга вопросов, в частности: как в (со)обществах закрытого и открытого типа вырабатываются различные формы личной и коллективной идентичности, каковы механизмы и способы их конструирования, как отдельные члены этих (со)обществ адаптируют их под собственные стратегии выживания и самореализации, как вариативность самоидентификационных процессов влияет на градацию открытости/закрытости общества.
В данном спецвыпуске мы рассматриваем диаспору как разновидность самоизолирующегося сообщества, где элементы культуры метрополии вступают в сложное взаимодействие с новой социальной и культурной средой, в конечном итоге трансформируя исходный культурный бэкграунд[1]. Но прежде чем дать более подробное описание концепции номера, необходимо сказать несколько слов о теории и практике «науки о диаспоре».
Диаспоральные исследования (diaspora studies) в последние тридцать лет стали одним из самых популярных и быстро развивающихся научных направлений в мировой гуманитаристике, многие считают их новой перспективной академической дисциплиной. Оснований для подобных утверждений вполне достаточно, учитывая контекст, в котором это направление прокладывает себе дорогу, а также возрастающую вовлеченность других академических практик в изучение феномена современных диаспор: постколониальных исследований, устной истории, культурной памяти, теории этничности, национализма и расизма, социологии повседневности, семиотики культуры, политологии, антропологии и т.д.
Понятие «диаспора» было активировано и введено в научный контекст в начале 1960-х годов, когда резко возросшая мобильность людей (как результат смягчения миграционных режимов, распада колониальной системы, складывания мощных транснациональных экономических и культурных связей и т.д.) породила серьезные изменения в социально-политической конфигурации мира, получившие впоследствии название «глобализация». Становление диаспороведения протекало одновременно и с процессом распада «больших нарративов» в гуманитарных и социальных науках, с появлением многочисленных «поворотов» и «-измов», ориентированных на углубленное и усложненное изучение человеческой истории. Таким образом, диаспоральные исследования стали составной частью общего процесса модернизации гуманитарного знания.
К 1980-м годам прошлого столетия усилиями первопроходцев, отцов- основателей этого нового интеллектуального направления (Уильяма Сафрана, Хачика Тололяна, Йосси Шаина, Робина Коэна и других[2]) диаспора становится модным понятием, привлекательной альтернативой дискриминационному понятию этнонациональных меньшинств[3]. Создание в 1991 году журнала «Диаспора: журнал транснациональных исследований» («Diaspora: A Journal of Transnational Studies»), бессменным главным редактором которого стал профессор Уэслианского университета, историк армянской культуры и специалист по творчеству Томаса Пинчона Хачик Тололян, стало отправной точкой кристаллизации разрозненных диаспоральных штудий в рамках поднимающейся новой дисциплины[4].
Основная притягательность и одновременно проблематичность науки о диаспорах состоит в том, что она занимается изучением «движущейся мишени»: в современном динамичном мире диаспоры и диаспоровидные сообщества множатся и беспрестанно мутируют, что порождает большие трудности в концептуализации предмета исследования. Главным содержанием методологических споров в диаспороведении было и остается определение того, что такое диаспора, чем различаются подобные локальные сообщества, принадлежащие к разным историческим периодам, и чем диаспора отличается от групп (э)мигрантов, беженцев, гастарбайтеров, кочевников, племенных и субкультурных образований, сексуальных меньшинств, интернет-сообществ и т.п.
Первую развернутую характеристику диаспоры дал Уильям Сафран в стартовом майском номере журнала «Диаспора»: взяв за основу классическую, парадигмальную еврейскую диаспору и отталкиваясь от широкого определения этой социальной общности, данного Уолкером Коннором (как «группы людей, живущих за пределами родины»)[5], Сафран выделил ряд базовых черт диаспорического сообщества. По его мнению, концепция диаспоры приложима к тем группам экспатриантов, члены которой обладают следующим рядом сходных свойств:
они или их предки подверглись рассеянию из некоего изначального «центра» в два и более «периферийных» региона страны или за границу;
они сохраняют коллективную память, образ или миф об исторической родине — о ее местонахождении, истории и достижениях;
они полагают, что никогда не будут полностью признаны принимающей их страной, и поэтому испытывают чувства изоляции и отчуждения;
они рассматривают страну предков как истинный, идеальный дом, куда они или их потомки обязательно вернутся, как только позволят обстоятельства;
они верят в необходимость коллективной работы над сохранением и возрождением своей исторической родины, над ее безопасностью и процветанием;
они продолжают — прямо или косвенно — поддерживать связи с исторической родиной, и их этнокоммунальная идентичность и солидарность во многом базируется на существовании подобной связи»[6].
Признавая, что ни одна из существующих на тот момент диаспор не дотягивает до своего идеального исторического прототипа — еврейской диаспоры, Уильям Сафран тем не менее утверждает, что на основании его определения к современным диаспорам с полным правом можно отнести сообщества армян, турок, палестинцев, магрибинцев, кубинцев, греков, китайцев, живущих за пределами родины. Из диаспор прежних эпох Сафран выделяет польскую[7], а мы можем добавить к этому списку русскую эмиграцию первой волны.
За прошедшие двадцать с лишним лет со дня выхода статьи Уильяма Сафрана выдвинутая им концепция неоднократно подвергалась критике, уточнениям и переформулировке. Так, Ким Батлер вводит историко-временное измерение в определение диаспоры: она должна существовать на протяжении по крайней мере двух поколений[8]. Робин Коэн предложил альтернативный подход к установлению типологии диаспор, основанный на причинах и условиях первоначального рассеяния, а также статусе диаспорального сообщества в принимающей стране. Следуя этой логике, он выделяет пять основных типов диаспор: виктимную, трудовую, торговую, имперскую и культурную[9]. Активно возражая Робину Коэну, Хачик Тололян утверждает, что экономическую или торговую миграцию нельзя причислить к диаспоре, поскольку последняя рождена коллективной катастрофой и порожденная этой катастрофой травма в случае диаспоры выступает концептуальным ядром работы памяти, различных коммеморативных практик и ритуалов скорби, которые в свою очередь влияют на специфику «культурного капитала» и политической деятельности сообщества[10].
У нас нет возможности более детально представить многолетнюю полемику вокруг теоретических основ диаспороведения, ведущуюся представителями различных дисциплин и школ (об этом можно прочесть в обзоре журнала «Diaspora» в настоящем номере), но по ходу статьи мы будем касаться отдельных эпизодов этих споров, непосредственно затрагивающих тему нашего проекта. В данный момент важно подчеркнуть, что эти мультидисциплинарные дебаты не только постоянно расширяют концептуальный словарь диаспоральных исследований (посредством обмена метафорами и идеями между разными гуманитарными научными направлениями), но и способствуют созданию общего научного языка. Таким образом, дискурсивный аппаратdiaspora studies становится пусть и не идеальным, но гибким и удобным инструментом для исследования специфики модерных обществ, в частности его разных — открытых и закрытых — агрегатных состояний.
В контексте этого спецномера нас интересует, прежде всего, антропологическая составляющая диаспороведения и связанная с нею концепция идентичности. По нашему мнению, антропология (в различных ее изводах) вносит решающий вклад в развитие диаспорального знания, поскольку обладает обширным опытом изучения локальных сообществ, апробированными и постоянно совершенствующимися навыками полевых исследований, развитым дискурсивным аппаратом и, главное, серьезным теоретическим бэкграундом, опирающимся на культуру как на базовое условие социального разнообразия и основу для формирования групповой и индивидуальной идентичности. Принципиальные установки антропологии на утверждение ситуативной, многоголосой, гибридизированной природы локальной идентичности позволили проблематизировать множество традиционных характеристик диаспоры[11]. Так, например, исследовательница армянской диаспоры в Германии Анна Арутюнян оспаривает понятия единой исторической родины, этнично- сти и глобальной диаспоры, противопоставляя им аналитические категории «эмоциональных мест», культурных идентичностей и локального «общинного пространства»[12]. Эта концепция продолжает концепцию известного британского исследователя «черной Атлантики» Стюарта Холла, который неоднократно подчеркивал, что определяющими факторами формирования диаспорической идентичности являются культурная память и культурные нарративы. И хотя усилиями деконструктивизма, феминизма, cultural criticism и других вариантов постмодернистских теорий «идентичность» потеряла присущий ей эссенциалистский статус целостного, природного и неизменного ядра личности, превратившись в конструкт, в никогда не прекращающийся процесс переформулирования и перекодировки признаков принадлежности к некоему «воображаемому сообществу» (пользуясь известным выражением Бенедикта Андерсона), тем не менее, по мнению Холла, она остается важным понятием в междисциплинарных исследованиях[13].
Рассматривая диаспоры с антропологических позиций, мы беремся проследить, как различные культурные коды, установки и механизмы формируют и поддерживают гибридные, «множественные» диаспоральные идентичности, которые в свою очередь определяют степень социальной структурированности локального сообщества, его открытости/закрытости, способности к трансформации. Такими основополагающими социокультурными механизмами, по нашему мнению, являются: язык, искусство (включая литературу, музыку, живопись, кинематограф, фотографию, перформативные практики и т.д.), повседневные практики и ритуалы, системы ценностей, религиозные взгляды, материальная культура, телесные практики, гендерные отношения, сексуальность, медиа и т.д. В этом номере мы постарались рассмотреть, как функционируют некоторые из них в диаспоральном контексте.
В центре внимания диаспорального спецвыпуска «НЛО» — феномен русской диаспоры XX века. Удивительно, но огромный массив эмпирической информации по истории четырех волн российской эмиграции, накопленный в гуманитарной науке, практически никогда не рассматривался системно на предмет обнаружения особой диаспоральной идентичности. Несмотря на то что с 1999 года в России выходит серьезный научный журнал «Диаспоры» (в некотором смысле русский аналог англоязычного журнала «Diaspora»)[14], проблематика диаспоризации русского мира прошлого столетия по-прежнему остается на периферии интересов исследователей. Между тем, изучение диаспор позволяет по-новому взглянуть на историю метрополии, поскольку многие элементы устройства общества отражаются в диаспоре в концентрированном виде: с позиции живущих в диаспоре людей, она выступает «депозитарием» культурных кодов, идеологем и ценностей, которые были присущи потерянной исторической родине и должны быть сохранены. Проводя сравнительный анализ русских диаспор разного периода, мы получаем более точное представление и о радикальных изменениях в российском обществе ХХ века, и о специфике его культурных «констант». Таким образом, одну из главных задач спецномера мы видим в попытке вписать историю русской эмиграции в международный контекст диаспоральных исследований, критически переосмыслив устоявшуюся культурную мифологию вокруг этого явления.
Мощным инструментом конструирования и поддержания диаспоральной идентичности была и остается художественная литература — особенно это характерно для русской культуры с ее традиционным литературоцентриз- мом. Именно поэтому значительная часть спецномера была посвящена анализу роли литературы в самоидентификации российских эмигрантов разных поколений. В статье Марка Гамзы «О системах ценностей русской эмиграции в Китае», рассматривающей творчество писателей первой волны эмиграции (Михаила Щербакова, Альфреда Хейдока, Бориса Юльского), анализируется парадоксальное соединение культурных стереотипов дореволюционной России с интеллектуальными трендами новой эпохи, находящее себе место в складывающемся диаспоральном сознании этих литераторов. С одной стороны, это — в духе Серебряного века — эстетизация и романтизация таинственного экзотического Востока, с другой, — в согласии с нарождающейся философией европейского фашизма — артикуляция откровенных расистских суждений, относящихся к современным китайцам, утверждение национально-этнического превосходства русского человека и перед «азиатами», и перед «растленными» европейцами.
Ольга Матич в статье «Литература третьей волны: границы, идеология, язык» отмечает принципиальное отличие структурирования диаспорального сознания у эмигрантов первой и третьей волн. Если в первой, «классической», русской диаспоре коммеморативные практики предсказуемым образом сосредоточивались на ностальгии по родине и надежде на скорое возвращение, то у диаспорального сообщества 1970—1980-х годов ностальгия практически отсутствовала. Ее место заняло либо постмодернистское ироническое переосмысление советских культурных мифов метрополии с последующим дистанцированием от них (Синявский, Аксенов), либо их тотальное разоблачение с позиции морального императива (Солженицын). Открытый эстетический и политический раскол в среде третьей эмиграции на космополитическую и националистическую фракции, обусловленный разной стратегией самоидентификации, как и яростная полемика между двумя этими лагерями во многом предвосхитили поляризацию российского общества в постсоветское время. Матич отметила еще одну интересную особенность формирования третьей диаспоры: «рассеянию» первоначально подверглись тексты, тайно вывезенные и опубликованные за границей; феномен тамиздата и породил «"промежуточное" состояние их авторов, определяющее для диаспорической идентичности — вне зависимости от того, оказались сами авторы в конце концов за границей или нет»[15].
Специфику постоттепельной эмиграции невозможно исследовать, игнорируя важнейший феномен закрытого советского социума — «внутреннюю эмиграцию», которую, как правило, рассматривают преимущественно в политико-идеологическом контексте эпохи. Нам же представляется, что этот своеобразный способ диверсификации и реконфигурации позднесоветского общества в форме «внутренней диаспоризации» (параллельно с диаспоризацией внешней) дает ключ к более глубокому пониманию сложных и противоречивых процессов самоидентификации различных социальных групп в тоталитарных и авторитарных государствах[16]. Особенный интерес в этом смысле представляет формирование новой еврейской идентичности в период застоя, чему посвящен блок статей, подготовленный Михаилом Крутиковым. В собственной статье Крутиков рассматривает так называемое «культурническое» направление в еврейском движении 1970—1980-х годов (сконцентрированное на изучении еврейской культуры, языка, религии и истории), породившее, по сути, диаспоральную сеть «детерриториализованных сообществ» во всех крупных советских городах. Этот вид самоизоляции, в отличие от активного диссидентства, не стремился изменить существующую действительность, но создал свою собственную реальность за пределами оппозиции «советское / антисоветское» — так называемый «парасоветский хронотоп». Крутиков утверждает, что для многих советских литераторов эмиграция в начале 1990-х годов была обусловлена желанием сохранить этот уникальный «парасоветский» образ жизни, ставший немыслимым в условиях новой России. Анализируя творчество литературных эмигрантов четвертой волны — Александра Гольдштейна, Олега Юрьева и Александра Иличевского, — автор показывает, как попытки воссоздания «парасоветского третьего мира» в новых условиях приводили писателей к переосмыслению конфигурации художественного пространства, в котором границы русской культуры переставали совпадать с границами Российской Федерации.
Стефани Сандлер в статье «Поэты и поэзия в диаспоре: о "маргинальном еврействе"» поднимает вопрос о трансформации еврейской идентичности в ХХ веке. Полемика на эту тему — одна из центральных в диаспороведении, поскольку кризис еврейской идентичности в современном мире, фиксируемый многими исследователями[17], ставит под вопрос само существование диаспоральной парадигмы. Отмечая специфику еврейской самоидентификации в Советском Союзе (отсутствие знаний об иудаизме и религиозных практиках), Сандлер тем не менее констатирует: культурная память о еврейском опыте и традициях у многих современных эмигрантских поэтов (Бориса Херсонского, Марины Темкиной, Ильи Каминского) сохраняется, обогащая тот корпус идей, который помогает диаспоре самоопределяться и поддерживать себя.
При работе над данным проектом мы делали особый акцент на активном характере диаспорального мифотворчества, на смелой игре «диаспорального воображения» с разнородными элементами социокультурной традиции как утраченной, так и новообретенной родины, становящейся строительным материалом для конструирования новой идентичности. На примере религиозного самоопределения русско-еврейских эмигрантов, осевших в Америке и Израиле в последней четверти прошлого века, Дэвид Д. Лэйтин убедительно показывает, как культурная и политическая конъюнктура страны-хозяйки влияет на выбор тех черт, что определяют диаспоральное отличие. Парадоксальным образом, те, кто эмигрировал в религиозное государство (Израиль), стали основывать свое политическое поведение на светских ценностях, идентифицировать себя как «русских», тогда как те, кто влился в страну, не имеющую единой официальной государственной религии (США), основывают свое поведение на религиозной идентичности (иудаизме). Лэйтин объясняет этот казус различным статусом русской идентичности в названных странах: в Израиле идентификация с евреями-израильтянами не дает русско-еврейской диаспоре рычагов влияния на политическую и культурную жизнь страны, а в США в силу невысокой репутации русского эмигрантского сообщества только объединение с религиозными американскими евреями помогает диаспоре обеспечить себе твердые социальные позиции.
К сходным выводам приходит и Адриан Ваннер. Анализируя творчество современных русскоязычных писателей, начавших в эмиграции писать на других языках (Владимир Каминер, Гари Штейнгарт, Владимир Вертлиб и др.), он приходит к выводу, что, хотя все писатели обладают составной идентичностью, большинство из них на первый план выдвигает именно «русскость», ориентируясь на потребности международного литературного рынка и создавая иронически окрашенный этнический бренд, основанный на стереотипах западного восприятия российской «самобытности» (матрешки, красные знамена, водка, советские ужастики и т.д.). Ваннер подчеркивает, что русская идентичность не следует автоматически из происхождения, языка или места рождения писателя: эта идентичность «активно создается в процессе изобретения собственной литературной личности»[18].
Творческий выбор национальной доминанты идентичности в диаспорах ставит вопрос о сложной природе национального сознания в модерных обществах. В последние десятилетия исследовательский интерес к проблемам этничности, расы и национализма неуклонно возрастает, однако, несмотря на огромное количество литературы, производимой в рамках различных академических дисциплин, этому направлению, по мнению Роджерса Брубейкера, до сих пор недостает подлинной компаративности, междисциплинарности и мультипарадигмальности[19]. Многие исследователи солидарны в том, что активный процесс «изобретения» традиции в диаспорическом сообществе открывает новые горизонты в изучении национализма и включенности локальных сообществ в мировой контекст[20].
Этой важнейшей проблематике посвящены ряд статей спецномера. Так, Лора Манчестер, исследуя кристаллизацию идеи национальной идентичности в диаспорах первой волны русской эмиграции, отмечает, что, вопреки ожиданиям, эта идея не опиралась ни на один из двух дореволюционных критериев «русскости» — ни на владение русским языком, ни на принадлежность к Русской православной церкви. Фундаментальным мифом новой национальной идентичности стала коллективная травма Гражданской войны. Именно это обстоятельство позволило выйти на первый план таким факторам, как: политические убеждения (критика царизма приравнивалась к поддержке большевиков), гражданство (сохранение имперского подданства), этническая и расовая принадлежность (отказ в «русскости» эмигрантам-евреям и другим «инородцам» как потенциально сочувствующим большевикам), классовое происхождение, уклад жизни и «коллективный дух». Для интеллектуалов русского зарубежья национальная самоидентификация была непосредственно связана с сохранением дореволюционного культурного наследия и созданием новой, бесцензурной культуры, однако в вопросе о том, чью именно культуру они пытались сохранить и приумножить, не было ясности и единодушия.
Идея культуры и языка как стержня национальной идентификации находится в центре внимания исследования Катерины Кларк, посвященного поиску новой модели идентичности в антифашистской немецкой диаспоре 1930-х годов, обосновавшейся в Советском Союзе[21]. Отрицая нацистскую идеологию «крови и почвы»[22], немецкие антифашисты пытались создать альтернативную «национальную идею», основанную на главных просветительских ценностях — разуме, гуманизме и культуре. Они сформировали светскую культурную идентификацию, своего рода секуляризованную веру, главным сакральным объектом которой стала «мировая литература», понимаемая в духе позднего немецкого Просвещения и раннего романтизма. Ключевые фигуры этой эпохи — Гёте, Шиллер, Фихте, Гегель, братья Гумбольдт, определявшие нацию в контексте языка и европейской культуры, рассматривались антифашистами как носители «прогрессивного национализма» в противовес милитаристскому национализму Бисмарка и Германской империи. Таким образом, интеллектуалы-антифашисты конструировали идентичность одновременно и национальную и интернациональную.
Как показывают вышеприведенные примеры, использование понятия «культура» может быть плодотворно при структурировании диаспоральной идентичности, но иногда культура, наоборот, выступает репрессивным механизмом подавления диаспорического самосознания — особенно в тех случаях, когда она становится инструментом влияния исходящей из метрополии власти. В статье Кевина Платта «Гегемония без господства / Диаспора без эмиграции: русская культура в Латвии» описывается драматическая ситуация, когда стремление русского населения в Латвии утвердить единую с Россией наднациональную коллективную идентичность и культурную территорию торпедируется агрессивной политикой метрополии, импортирующей в диаспору свои собственные культурные институты вместо поддержки существующих, навязывающей локальному сообществу цивилизационное покровительство сродни культурной колонизации. В то же время Катриона Келли в своем антропологическом исследовании трудовой миграции в Петербурге[23]убедительно показывает, как культурная мифология северной столицы — «самого европейского города России» — препятствует складыванию диаспорических сообществ, лишая инокультурные традиции статуса легитимности.
Междисциплинарные исследования диаспоральной идентичности позволяют переосмыслить диалектику и иерархию взаимоотношения родины, государства и диаспоры в формировании национального самосознания. Сам образ исторической родины как центрального диаспорального идентификационного ядра подвергается серьезной реконфигурации. В статье «Связь формы и идентичности в исламской архитектуре американского Среднего Запада» Хасиб Ахмед задается вопросом, почему все исламские мечети на Среднем Западе построены по одному образцу и чем обусловлено предпочтение восьмигранной формы центра любым другим. Оказывается, подобная форма зданий насаждалась как образец архитектуры мечетей во времена Османской империи в качестве символа власти над обширной и разноплеменной территорией; таким образом, посредством имперской архитектурной метафоры прихожане-мусульмане, выходцы из различных стран и культур, могут воспринимать себя гражданами общего воображаемого государства. Опираясь на разработанную Хоми Баба и Виктором Тёрнером концепцию лиминальности, Анна Арутюнян анализирует формирование альтернативного, интерсубъективного опыта турецких армян в Германии, оказавшихся в переходном пространстве между глобальной и локальной историями, между реальной и символической родиной, национальным и межнациональным. Автор заключает, что множественная идентичность армяно-турецкой диаспоры формируется с помощью гибридизированного образа родины, включающего в себя историческую Западную Армению (потерянную после геноцида), современную Республику Армению и Турцию, причем в этом триумвирате именно Турция выступает доминирующим «эмоциональным местом» диаспорального ностальгического воображения.
Наиболее радикально к пересмотру понятия диаспоральной родины подходит Брайан Аксель[24]. В противовес традиционной в диаспороведении концептуализации родины как а) места происхождения и б) территории, на которой оседают образующие диаспору мигранты, Аксель выдвигает концепцию «диаспорального воображаемого», которая характеризуется двумя основными моментами. Во-первых, ключом к пониманию диаспоры становится «не место ее возникновения, а ее временные рамки, присущие этой диаспоре аффекты и свойственная ей материальность»[25]. Анализируя идентичность диаспоры сикхов, сосредоточенной на утопической идее создания собственной родины — государства Халистан, автор делает вывод, что для многих диаспоральных сообществ родина существует не географически, а как бы внутри самой диаспоры, и потому продуктивней считать, что диаспоры сами создают себе родину, а не наоборот. Вторая базовая характеристика концепции «диаспорального воображаемого», с точки зрения Акселя, — это категория насилия, которая является ключевой для формирования личности в диаспоре. Благодаря появлению Интернета изображения изувеченных пытками тел сикхов — борцов за Халистан — широко распространились по миру, в результате чего сформировался культ мучеников, легший в основу диаспоральной идентичности сикхов. Этот тезис перекликается с мыслью Джеймса Клиффорда о том, что для диаспор история скитаний, страданий, адаптации или сопротивления может быть не менее важной, нежели проекция своего особого «истока» или «телеология истока/возвращения»[26].
Важное достоинство работы Брайана Акселя мы видим в том, что в ней тело концептуализируется как один из основных инструментов формирования самосознания в диаспорах. Проблематике телесных диаспоральных практик и связанных с ними символических перформативных ритуалов посвящен ряд статей спецномера, и в первую очередь я хочу упомянуть в этом ряду статью Евы Луксайте, исследующую конструирование тела в диаспоре на примере ритуальных обрядов (свадьбы, похороны, молитвы, фестивали, ритуальные танцы и одежда, домашние и публичные символические практики) южноазиатского населения современной Великобритании[27]. Совмещая научную литературу по исследованию диаспор с работами по теории телесности (Мишеля Фуко, Пьера Бурдьё, Томаса Чордаша, Кристофера Шиллинга, Марка Лафранса и др.), автор прослеживает, как новое местоположение и новое истолкование традиции в диаспоре влияет на тело, воспроизводящее эту традицию, и описывает то новое тело, что создается посредством подобной ритуальной деятельности. Анализируя ритуальные телесные практики различных групп мигрантов, выходцев из стран Южной Азии, Луксайте показывает, как преображенное и заново воссозданное новое ритуализированное тело становится проводником диаспорического опыта и генератором сопровождающих его смыслов.
Сходную проблематику разрабатывает Энди Байфорд, исследующий появление в 2000-х годах русскоязычной диаспоры в Великобритании[28]. Он отмечает, что в силу неоднородности эмигрантского сообщества, формирующегося из полиэтнического и многоконфессионального населения бывшего Советского Союза, общность языка (русского) оказалась недостаточным основанием для структурирования диаспоральной идентичности. Используя антропологические практики наблюдения и интервьюирования, а также опираясь на теорию социального взаимодействия Ирвинга Гофмана и антропологию ритуального действа Виктора Тёрнера, Байфорд обнаруживает центральный механизм кристаллизации диаспоральной идентичности — перформативные публичные акции (фестиваль «Русская зима» на Трафальгарской площади, псевдоцарские балы для «высшего общества», маскарады с советской атрибутикой и т.д.), через которые социально и символически конструируется (и деконструируется) русская диаспора в Великобритании. С позиции автора, диаспоральное сообщество проявляется и обретает свой смысл именно в процессе самого исполнения.
Не менее существенным фактором развития диаспоральной идентичности являются визуальные художественные технологии, и в первую очередь кинематограф. Лоренцо Кьеза в статье, основанной на сравнительном исследовании сериалов об италоамериканской мафии, наглядно показывает диалектику трансформации диаспоральной идентичности итальянского сообщества в Америке: от создания идиллического мифа о патриархальных устоях Италии («Крестный отец» Фрэнсиса Копполы) до развенчания этой криминализованной утопии («Клан Сопрано» Дэвида Чейза) ввиду усиливающейся интеграции итальянских эмигрантов в американское общество и усвоения его системы ценностей[29].
Все без исключения исследователи диаспор отмечают решающую роль различных современных медиа в развитии и укреплении диаспоральной идентичности. Пальма первенства здесь, безусловно, отдается Интернету, с появлением которого начинается новый этап в структуризации локальных сообществ. Тема Интернета так или иначе появляется почти во всех материалах нашего спецвыпуска. Я хочу специально выделить лишь статью Оксаны Моргуновой, посвященную описанию большого международного проекта «Атлас электронных диаспор» и особенностям цифрового пространства русскоязычной диаспоры[30]. Среди многих важных выводов, сделанных в ходе исследования Интернета постсоветских диаспоральных сообществ, особенно интересно наблюдение о гендерной специфике русскоязычной диаспоры: социальное и культурное измерение большинства мигрантских постсоветских общин в значительной степени определяется деятельностью женщин, однако наблюдается большой разрыв между их активным стилем жизни и профессиональной вовлеченностью.
Я постаралась кратко обозначить ряд важных тематических вех на обширном концептуальном поле диаспороведения, попавших в фокус внимания при подготовке этого спецномера. Мы не стремились к полноте охвата материала: это изначально не входило в задачу данного проекта, да и физически невозможно в рамках одного тома. Цель наших нынешних усилий (как и предыдущих тематических выпусков) — наметить, пусть и в пунктирном виде, новые перспективные территории интердисциплинарных исследований в русистике, сделать еще один шаг к разработке новой антропологической парадигмы, способной предложить принципиально новые подходы к человеческой истории поверх узких рамок эссенциалистских национально-имперских дискурсов. Нам представляется, что концептуальная база диаспорального знания потенциально способна предложить обществу альтернативное видение мировой истории как серии (пользуясь метафорой Эрла Льюиса) «взаимопересекающихся диаспоризаций»[31].
[1] «НЛО» уже обращалось к диаспоральной проблематике: в 2012 году XX Банные чтения (ежегодная научная конференция, проходящая под эгидой журнала), называвшиеся «Между собакой и волком: Культурные механизмы конструирования идентичности в диаспорах», были посвящены предварительной разработке этой темы.
[2] Интервью с Х. Тололяном, У. Сафраном, Р. Коэном и Й. Шаином см. в наст. номере. С. 29—48.
[3] Подробнее об этом см.: Clifford J. Diasporas // Cultural Anthropology. 1994. Vol. 9. № 3. P. 302—308.
[4] Подробный обзор журнала см. в наст. номере: Третьяков В. Конец диаспор? (Обзор журнала «Diaspora: A Journal of Transnational Studies»). С. 49—61.
[5] Connor W. The Impact of Homelands upon Diasporas // Modern Diasporas in International Politics / G. Sheffer (Ed.). New York, 1986. P. 16—46.
[6] Safran W. Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return // Diaspora: A Journal of Transnational Studies. Spring, 1991. P. 83—84.
[7] Ibid. P. 84.
[8] Butler K.D. Defining Diaspora, Refining a Discourse // Diaspora. 2001. № 10 (2). P. 192.
[9] Cohen R. Global Diasporas. An Introduction. London: UCL Press, 1997. P. x—xi.
[10] Tololyan Kh. The Contemporary Discourse of Diaspora Studies // Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East. 2007. Vol. 27. № 3. P. 648.
[11] О потенциале развития антропологических исследований диаспор см., например: Levy A. Diasporas through Anthropological Lenses: Contexts of Postmodernity // Diaspora. 2000. № 9 (1). P. 137—157.
[12] Harutyunyan A. Challenging the Theory of Diaspora from the Field // Working Papers des Sonderforschungsbereiches 640: Reprasentationen sozialer Ordnungen im Wandel. 2012. № 1. S. 5.
[13] Hall S. Introduction: Who Needs 'Identity'? // Questions of Cultural Identity / S. Hall, P. du Gay (Eds.). London, 1996. P. 1 — 17.
[14] О журнале «Диаспоры» см. обзор в наст. номере: Рейт- блат А. Диаспоры и «Диаспоры» (Обзор журнала «Диаспоры»). С. 62—70.
[15] Матич О. Литература третьей волны: границы, идеология, язык // Наст. изд. С. 317.
[16] Отдельная и практически не разработанная тема — это диаспоризация отдельных этнических групп, произошедшая в результате сталинских депортаций целых народов. Об этом см.: Кустова Э. «Спецконтингент» как диаспора? Спецпереселенцы из Литвы на пересечении множественных сообществ // Наст. номер. С. 543—557.
[17] Подробный обзор обширной научной литературы о кризисе еврейской идентичности в ХХ веке см.: Носенко- Штейн Е. В поисках самости: Изучение еврейской идентичности // Наст. номер. С. 71—94.
[18] Ваннер А. Тройная идентичность: русскоязычные евреи — немецкие, американские и израильские писатели // Наст. номер. С. 126.
[19] Brubaker R. Ethnicity, Race, and Nationalism // Annual Review of Sociology. 2009. № 35. P. 21—42.
[20] Упомяну лишь несколько наиболее важных текстов о роли диаспоральных исследований в развитии теории национализма: Clifford J. Diasporas // Cultural Anthropology. 1994. Vol. 9. № 3. P. 302—338; Tololyan Kh. Rethinking Diaspora(s): Stateless Power in the Transnational Moment // Diaspora. 1996. Vol. 5. № 1. P. 3—56; Brubaker R. The 'Diaspora' Diaspora // Ethnography of Racial Studies. 2005. Vol. 28. № 1. P. 1 — 19; Laitin D. Identity in Formation: The Russian-Speaking Populations in the Near Abroad. Ithaca et al., 1998; Idem. Nations, States, and Violence. New York, 2007.
[21] Кларк К. Интеллектуалы немецкоязычной антифашистской диаспоры в поисках идентичности // Наст. номер. С. 178—194.
[22] Статья Джеймса Е. Кастила «Русские немцы и немецкое национальное воображение в межвоенный период» описывает формирование идентификационной нацистской парадигмы «крови и почвы» как результат переоформления немецкого национального самосознания после Первой мировой войны. Опираясь на известную книгу Роджерса Брубейкера «Переосмысленный национализм» (Bruba- ker R. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. New York, 1996), Кастил показывает, как война, размыв границы между гражданской и военными сферами жизни, способствовала милитаризации сознания общества и породила идею тотальной мобилизации во имя воскрешения великой Германии. Эта доктрина привела к возникновению так называемого «транснационального» национализма, в котором этнические немецкие меньшинства, проживающие на территориях различных стран, стали рассматриваться как части единого «национального тела», требующие защиты от агрессоров. Все это позволило легитимизировать вторжения в другие государства и развязывание Второй мировой войны.
[23] Келли К. «Гости нашего города»: мигранты в «самом европейском городе России» // Наст. номер. С. 487—522.
[24] Аксель Б.К. Диаспоральное воображаемое // Наст. номер. С. 417—430.
[25] Там же. С. 417.
[26] CliffordJ. Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge, 1997. P. 250.
[27] Луксайте Е. Конструирование тела в диаспоре: ритуальные практики южноазиатского населения Великобритании // Наст. номер. С. 403—416.
[28] Байфорд Э. Разыгрывая «сообщество»: русскоязычные мигранты современной Британии // Наст. номер. С. 377— 395.
[29] Кьеза Л. «Вы из НАТО?»: Демистификация итальянского наследия в «Клане Сопрано» // Наст. номер. С. 148—158.
[30] Моргунова О. Аспекты электронного картографирования русскоязычной диаспоры // Наст. номер. С. 431—444.
[31] Lewis E. To Turn as on a Pivot: Writing African Americans into a History of Overlapping Diasporas // American Historical Review. 1995. Vol. 100. № 3. P. 765—798.
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Тройная идентичность: русскоязычные евреи — немецкие, американские и израильские писатели
(авториз. пер. с англ. Ю. Бернштейн и М. Крутикова)
Адриан Ваннер
В последнее десятилетие все больше молодых писателей еврейского происхождения из бывшего СССР получают признание в литературах своих новых стран проживания[1]. Избрав немецкий, английский или иврит инструментом литературного самовыражения, они оказываются носителями своеобразной тройной транснациональной идентичности, сочетающей русские корни в языке и культуре, еврейскую «этничность» (как правило, не связанную с религиозностью) и германское, австрийское, американское, канадское или израильское гражданство. Их творчество стало заметным явлением в литературах их стран, а некоторые из их книг стали международными бестселлерами. Благодаря успеху этих писателей сейчас мы наблюдаем настоящий бум интереса к русской эмигрантской художественной литературе в различных странах, прежде всего в Германии и США.
Несмотря на громкий успех в новых странах проживания и за их пределами, в России творчество русских евреев-эмигрантов встретило в лучшем случае безразличный, в худшем — враждебный прием. Лишь несколько книг этих авторов — Владимира Каминера, Владимира Вертлиба, Гари Штейнгарта, Михаила Идова и, совсем недавно, Лары Вапняр — были переведены на русский язык[2]. Ни одна из этих публикаций не стала бестселлером, а реакция критики была достаточно прохладной. В русскоязычной блогосфере иногда можно встретить комментарии, осуждающие эмигрантских авторов русско-еврейского происхождения как распространителей этнического китча[3]. Отчасти такую негативную реакцию можно отнести на счет уязвленной национальной гордости. В глазах тех, кто разделяет романтический взгляд И.Г. Гердера на язык как на «душу» народа и выразителя национальной сущности, отказ от родного языка в значительной степени влечет утрату национальной идентичности. Конечно, будучи евреями, эти писатели никогда не считались «истинно русскими» на своей родине. Но можно также утверждать, что, именно создавая книги не на родном русском языке, они превращают «русскость» в своего рода товар. По выражению Бориса Гройса, эти авторы напоминают «вождя африканского племени, посетившего выставку кубистического искусства, или Эдипа, прочитавшего сочинения Фрейда об эдиповом комплексе»[4]. Такого рода русскость всегда сознательно сконструирована с позиции западного наблюдателя и предназначена специально для него. Территориальный и лингвистический уход из России в сконструированную «русскость для иностранцев» затрагивает множество проблем, связанных с аутентичностью такой транснациональной литературы, — таких, как роль языка в национальной категоризации писателя, функция культурных стереотипов в формировании этнонациональной идентичности, ценность русского бренда в сравнении с еврейским на разных литературных рынках и т.д.
Я попытаюсь рассмотреть эти темы на примерах нескольких ведущих писателей еврейского происхождения из бывшего СССР, живущих в Германии, Австрии, США и Израиле. Начну с современной литературы Германии, ставшей домом для более чем двухсот тысяч русскоязычных евреев-эмигрантов (на немецком бюрократическом жаргоне — Kontingentfluchtlinge, «контингентных беженцев»). Один из них, Владимир Каминер, сегодня принадлежит к числу самых популярных немецких писателей. Каминер родился в Москве в 1967 году, получил диплом звукоинженера, затем учился в театральном институте, откуда был на два года призван в армию. Примечательно, что к моменту эмиграции в 1990-м году в тогда еще существовавшую ГДР Каминер не знал немецкого языка. В начале своей берлинской жизни будущий писатель жил случайными заработками, в том числе выступая в клубах и кабаре. В 1998 году он начал писать по-немецки свою первую книгу, собрание виньеток из жизни русских иммигрантов в Берлине. Вышедшая в 2000 году под названием «Russendinsko» («Русское диско»), эта книга стала бестселлером, а ее автор — новой восходящей звездой немецкой литературы. За «Русским диско» последовало еще шестнадцать книг, и к 2004 году общий тираж книг Каминера, вышедших и проданных в пятнадцати странах, достиг 1,2 млн. экземпляров[5]. Помимо книг значительный доход Каминеру приносит продажа аудиоверсий его произведений. К тому же он ведет колонки во многих немецких газетах и журналах и выступает в еженедельном радиошоу. Наконец, что не менее важно, Каминер выступает как диджей в собственном клубе «Russendisko» в Восточном Берлине, ставшем достопримечательностью ночной жизни города и привлекающем толпы немцев, русских иммигрантов и туристов[6]. Многие немцы видят в писателе «типичного русского»; исполнение этой роли с привкусом самоиронии Каминер довел до совершенства.
Как подсказывает название его первой книги, тема русской идентичности очень важна для формирования литературной персоны Каминера. Русскость бросается в глаза очевидными банальными графическими элементами оформления обложки — матрешкой и красной звездой. Каминер умело обращает себе на пользу немецкие клишированные представления о русском национальном характере. Играя на таких стереотипах, как пьянство, сентиментальность, хаотическая спонтанность, он антагонистически противопоставляет их представлениям о немецкой аккуратности, тупости и педантизме. Не случайно, что помимо бумажной версии книг Каминера особой популярностью у немецкой публики пользуются аудиодиски, демонстрирующие ярко выраженный русский акцент писателя. Такого же рода «экзотичностью» привлекают публику и радиопрограммы Каминера, и публичные чтения им своих произведений. Нередко он называет себя «дежурным русским» («der Russe vom Dienst»), а свои публичные выступления анонсирует объявлениями типа «Русский идет!» («Der Russe kommt!»). По контрасту с русскостью, еврейское происхождение Каминера проявляется более слабо. Не скрывая своего еврейства, писатель предпочитает не заострять на нем внимания. «Русские», а не «евреи» — вот тот общий знаменатель, которым Каминер обозначает иммигрантов из бывшего Советского Союза. Тем не менее, хотя об этом и не принято говорить, для популярности писателя у немецкой публики очень важно то обстоятельство, что Каминер, будучи евреем, с энтузиазмом овладел немецким языком и культурой, содействуя тем самым упрочению образа Германии как филосемитской страны.
Учитывая многочисленность русскоязычных эмигрантов в Германии и успех созданного Каминером русского бренда, можно с уверенностью предположить значительный потенциал «новых Каминеров». Одна из более молодых «конкурентов» писателя — уроженка Ленинграда Лена Горелик. Так же как Каминер, она приехала в Германию как еврейская беженка, но, в отличие от него, уехала из России еще ребенком. Горелик, 1981 года рождения, эмигрировала с родителями в Германию в 1992 году, выросла недалеко от Штутгарта и закончила Школу журналистики Мюнхенского университета. В 2006 году она закончила этот университет, выбрав в качестве специализации Восточную Европу. Темой выпускной работы Горелик выбрала репрезентацию русскоязычных евреев-эмигрантов в немецких средствах массовой информации. Начиная с 2004 года она опубликовала четыре книги: «Meine weiBen Nachte» («Мои белые ночи», 2004), «Hochzeit in Jerusalem» («Свадьба в Иерусалиме», 2007), «Verliebt in Sankt Petersburg: Meine russische Reise» («Влюбленная в Санкт-Петербург: Мое путешествие в Россию», 2008) и «Lieber Mischa» («Дорогой Миша», 2011). Книги встретили одобрение прессы и принесли писательнице несколько литературных премий. Автобиографическая героиня этих романов — еврейская девушка из бывшего СССР, приехавшая в одиннадцать лет в Германию и вместе со всей своей семьей успешно интегрировавшаяся в немецкую жизнь. Хотя Горелик пишет о своем еврейском происхождении более открыто, чем Каминер, для нее, как и для него, основным инструментом самоидентификации и саморекламы стала русскость.
Каминер и Горелик преподносят себя как ассимилированных светских «безобидных» эмигрантов, развлекающих немецкую публику насмешливыми и ироничными историями о культуре, из которой они произошли. Доля их успеха в том, что они смогли представить себя одновременно и русскими, и немцами. Ключевым элементом стратегии Каминера, позволяющим публике видеть в нем как своего, так и иностранца, является двойное обыгрывание стереотипов «типичного русского» и «типичного немца». Как замечает австрийская исследовательница Ева Хаусбахер, «[Каминер] говорит о немцах как русский, и в то же время он стал "немецким писателем"; он говорит о русских как "немецкий писатель", но тем не менее воспринимается как "дежурный русский"»[7]. Похожий путь выбирает и Горелик: в романе «Влюбленная в Санкт-Петербург» она знакомит немецкого друга со своим родным городом, беря на себя роль гида и культурного посредника и представляя себя одновременно своей и чужой в России. В отличие от тройной русско-еврейско-немецкой идентичности главных героинь двух первых романов писательницы, в этой книге идентичность героини сведена к бинарной русско-немецкой. Ее родственники показаны типичными русскими без всяких отсылок к их еврейскому происхождению.
Интересно, что в следующей книге, написанной в форме письма к новорожденному сыну, Горелик проделывает обратную операцию, фокусируя внимание на своей еврейской идентичности и едва упоминая о своих русских корнях. Барочное заглавие отражает сатирический тон книги: «Дорогой Миша, <...> чье имя должно было бы быть Шломо Адольф Гринблюм Глюк, очень жаль, но я не смогла оградить тебя вот от чего: ты еврей...» Украшенная толкованиями, напоминающими талмудические глоссы, и перемежающая еврейскую гордость с еврейской самоиронией, эта книга не пропускает ни одного клише — от еврейского носа до еврейской мамы и еврейского мирового заговора. Суперобложка книги заявляет: «Лена Горелик принадлежит к новому поколению немецких евреев, определяющих себя не через прошлое, а через будущее Германии». При этом создается впечатление, что немецкие филосемиты раздражают Горелик гораздо больше, чем антисемиты. Она особо презирает немцев, перешедших в иудаизм в надежде, что, став «сверхъевреями» («Uberjuden»), они смогут избавиться от коллективной вины за прошлое. По мнению Горелик, эти новообращенные не понимают, что «хотя и можно перейти в иудаизм, но нельзя стать евреем»[8]. Писательница связывает еврейскую идентичность не с соблюдением религиозных правил, а с ощущением групповой принадлежности и солидарности, а также с особым чувством юмора и самоиронией (полностью отсутствующими, по ее мнению, у многих немцев).
Проблематичность существования еврейского писателя в Германии после Холокоста мало заботит Каминера и Горелик. Антисемитизм если и упоминается в их книгах, то скорее как русская, чем немецкая, проблема. Отчасти этому они обязаны статусом «образцовых» немецких евреев. Институт Гёте поручает Каминеру роль эмиссара современной немецкой культуры, приглашая его читать отрывки своих произведений за границей, в том числе в США и в России. Каминер представлен и в построенном по проекту Д. Либескинда берлинском Еврейском музее, одной из главных достопримечательностей новой столицы. В зале, посвященном жизни евреев в современной Германии, турист может подойти к фотографии писателя и услышать в наушниках его рассказ о своей советской еврейской жизни. Каминер вспоминает, как, когда в шестнадцать лет он получил свой первый паспорт, его одноклассники насмехались над ним из-за его национальности. Он открыл для себя, что «быть евреем может быть весело», когда вместе с друзьями-хиппи он дразнил КГБ на демонстрациях во время еврейских праздников, опрокидывал милицейские машины и требовал права на отъезд в Израиль[9]. Характерно, что Каминеру нечего сказать о своей еврейской жизни в Германии. Горелик, как мы видели, затрагивает тему немецко-еврейских отношений, но антисемитизм в ее произведениях практически не играет роли. Если какие-то из ее персонажей и относятся снисходительно к русским евреям-иммигрантам, то это немецкие евреи. Во время мероприятия в еврейском общинном центре на новоприбывших русских евреев пренебрежительно смотрят как на социально-нежелательные элементы. В противоположность этому общественная церемония в память годовщины «хрустальной ночи» трогает описанную в книге семью до слез[10]. Таким образом, светское общество, каковым является современная толерантная Германия, оказывается более подходящим домом для русских евреев, чем еврейская религиозная община с ее узким кругозором.
Не все русские евреи в Германии разделяют подобную германофилию. Примером другого рода может служить Владимир Вертлиб, также добившийся в Германии писательского успеха. Он родился в Ленинграде в 1966 году и поселился в Австрии в возрасте пятнадцати лет. Этому предшествовала десятилетняя одиссея, включавшая многочисленные пересечения государственных границ и проживание в Израиле, Голландии, Италии и других странах. В США семья писателя сначала обосновалась в нью-йоркском эмигрантском районе Брайтон-Бич, затем переехала в Бостон, откуда они были депортированы как нелегальные иммигранты[11]. Литературный герой Вертлиба — это одинокий аутсайдер, а не успешно вписавшийся в немецкое общество эмигрант. В то время как главный герой Горелик (в тон патриотизму писательницы) страстно болеет за немецкую футбольную команду на мировом первенстве, немецко-еврейский герой романа Вертлиба «Letzter Wunsch» («Последнее желание», 2003) занимает в сходной ситуации более сложную позицию. Он дает разные ответы простакам, которые, испытывая его лояльность, спрашивают, за какую команду он бы болел в гипотетическом матче между Израилем и Германией. Немцу он говорит, что болел бы за Израиль, иностранцу, особенно еврею, — за Германию[12].
Как Вертлиб рассказал в интервью в 2004 году, ему удалось освободиться от навязчивой потребности постоянно эмигрировать, лишь начав писать на немецком языке, к которому он начал относиться положительно лишь со вре- менем[13]. Несмотря на это, Австрия так и не стала для него «домом», в котором все проблемы уже решены. В отличие от Каминера и Горелик, избегающих темы немецкого антисемитизма, Вертлиб хорошо осознает, какой багаж несет с собой немецкоязычный еврейский писатель, да еще в Австрии, которая не желает разбираться в своем нацистском прошлом. В романе «Последнее желание» еврейский ученик провинциальной немецкой школы шокирует своего учителя предложением сохранить, в интересах исторической справедливости, названия местной Хорст-Вессель-штрассе и Герман-Геринг-плац, а также восстановить памятник Гитлеру на прежнем месте перед мэрией. Видя растерянность учителя, одноклассники также не знают, что возразить: «...как можно ответить еврею, призывающему возвести памятник Гитлеру, не сказав при этом ничего неуместного?»[14] Вертлиб показывает, что за бросающимся в глаза филосемитизмом немцев скрывается смутное недовольство. Сварливая главная героиня романа «Das besondere Gedachtnis der Rosa Masur» («Особая память Розы Мазур», 2001), прототипом которой послужила писателю его бабушка, замечает: «.ведь немцы сейчас евреев любят, во всяком случае, пока евреи не ведут себя слишком по-еврейски, то есть так, как они себя вести — по мнению немцев — вполне могли бы, но не должны»[15].
Самой характерной особенностью самоощущения Вертлиба остается чувство промежуточности его положения. Автор сопротивляется попыткам выставить его как образцового представителя определенной этнической группы. Как и Каминер, Вертлиб подрывает эссенциалистские представления об этнической идентичности, превращая их в иронический перформанс. Автобиографический роман «Zwischenstationen» («Остановки в пути») он завершает приездом героя-рассказчика в Зальцбург, новое место постоянного проживания в провинциальной Австрии. Выйдя из здания вокзала, герой первым делом покупает тирольскую шляпу и запевает жизнерадостный йодль. Его одиссея, прошедшая через множество стран, завершается на фальшивой ноте тирольского фольклора. Однако в целом, при всем тонком и едком юморе, Вертлиб в отношении собственной идентичности далек от Каминера с его постмодернистской игрой в клише. Вместо того чтобы разыгрывать стереотипного русского, он предпочитает дистанцироваться от поверхностного освоения знакового жаргона мультикультурализма. К чести Вертлиба, можно сказать, что, будучи ничуть не менее русским, чем Каминер или Горелик, он отказался прямолинейно разыгрывать «русскую карту», вместо этого делая свою русскость частью сложной и противоречивой космополитической идентичности.
Гари Штейнгарт, чей роман «The Russian Debutante's Handbook» (в русских переводах «Записки русского дебютанта» или «Приключения русского дебютанта») породил целый жанр современной русско-еврейской эмигрантской прозы в Северной Америке, служит очевидным примером для сравнения с вышеупомянутыми авторами. Штейнгарт родился в Ленинграде в 1972-м и эмигрировал с родителями в США в 1979 году. Он учился в частной еврейской школе в Нью-Йорке и закончил престижный Оберлинский колледж, специализируясь на политологии. Первый роман Штейнгарта быстро стал бестселлером в США и в других странах, получив восторженные рецензии как произведение «нового Набокова». При этом сам Штейнгарт стал восприниматься как своего рода канонический русский американец. На фотографии, занимающей целую полосу воскресного журнального приложения «The New York Times Magazine» лета 2002 года, он изображен в меланхолической позе со стаканом водки в манхэттенском ресторане «Русский самовар». Летом 2006 года, когда еженедельное книжное приложение «The New York Times Book Review» приветствовало его второй роман «Абсурдистан», портрет писателя с подписью «Russian Unorthodox» («Неортодоксальный русский», игра слов с Russian Orthodox — православный) занимал всю обложку выпуска.
В некотором отношении самоироничное обыгрывание Штейнгартом своей этнической идентичности напоминает Каминера. Однако, в отличие от каминеровского образа интегрированного иностранца и ироничного эмигранта, Штейнгарт, так же как и Вертлиб, культивируют образ аутсайдера, отчужденного от господствующей культуры. Если Каминер принижает значимость своего еврейского происхождения, то Штейнгарт выдвигает его на передний план как дополнительный фактор отчуждения. Подобно русско-немецким писателям-эмигрантам, но менее убежденно и последовательно, чем Каминер, Штейнгарт использует антиэссенциалистскую культурную гибридность для конструирования собственной идентичности. Отвечая в 2003 году на вопрос «Немецкой волны», считает ли он себя немецким, русским или еврейским писателем, Каминер сказал: «Я понимаю, что другим это различие кажется существенным. Лично для меня это все ерунда»[16]. В то же время соединенный дефисом двойной, русско-еврейский статус Штейнгарта все еще предполагает композицию «настоящих» этничностей. При всей иронии, писатель демонстрирует нечто вроде этнической гордости. В разговоре с Наташей Гринберг он заявил, что «гордится быть светским евреем», хотя и не считает себя ни в каком смысле «знаменосцем»[17], а в русском интервью на Радио «Свобода» писатель утверждал, что введение в жанр американской эмигрантской литературы русского элемента было его сознательным намерением:
Я смотрел на другие этнические группы, и почти у каждой было по три-четыре романа. Китайцы, индийцы, доминиканцы... А у русских ничего не было тогда. И меня все время смущало тогда. Ведь русская литература на первом месте в мире. Почему это так? Наше поколение молодое не пишет ничего. Может быть, из-за того, что наши родители всегда пихали нас стать доктором или адвокатом. Или есть какое-то смущение печатать насчет своей этнической группы, чувствовать себя немножко предателем[18].
Эти слова, сказанные в 2005 году, быстро оказались устаревшими. Так же как Каминер в Германии, Штейнгарт стал первопроходцем для целого поколения рожденных в СССР эмигрантских писателей Северной Америки. К этой растущей плеяде принадлежат сейчас такие авторы, как Дэвид Безмозгис, Лара Вапняр, Эллен Литман, Аня Улинич, Ольга Грушин, Сана Красиков, Ирина Рейн, Марк Будман, Кейт Гессен, Михаил Идов, Михаил Алейников, Светлана Бойм, Максим Шраер, Надя Калман и Михаил Иоссель. В последние годы эти авторы составили яркую и живую часть современной американской литературы. Благодаря им «русскость» стала востребованным брендом на американском книжном рынке. Как несколько гиперболично заметила Маша Гессен в журнале «Сноб» в 2009 году, «модно быть "русским", модно писать об этом, модно быть редактором или агентом "русского американского писателя". Точнее, так: американскому писателю сегодня лучше всего быть русским»[19].
Сравнивая русско-немецких писателей с русско-американскими, можно заметить, что и те, и другие прибегают к схожей стратегии для превращения русскости в рыночный товар для своих читательских аудиторий. Все они используют стереотипные представления о русской культуре в качестве маркеров этнического отличия, а в некоторых случаях и в качестве приема иронической автоэкзотизации. На обложке американского издания «Записок русского дебютанта» Штейнгарт изображен в мешковатой шубе и шерстяной шапке с медвежонком на поводке. Символ русской культуры — матрешка — украшает обложки книг писателей русско-еврейского происхождения по всему миру: канадца Дэвида Безмозгиса, жителей Германии Владимира Каминера и Лены Горелик и израильтянина Бориса Зайдмана[20]. Престиж высокой русской культуры и мистический шарм тоталитаризма бывшей враждебной сверхдержавы создали дополнительный ресурс для продвижения русских культурных продуктов в США и других западных странах.
Тем не менее между русско-немецкими и русско-американскими писателями есть важные различия, связанные с разной общественной культурой этих стран. Эмигрантский опыт лежит в основе «самопредставления» и культурной мифологии американской нации, что позволяет новоприбывшим русским вписать себя в долгую традицию эмигрантской и еврейской литературы Америки. Как считает американский критик Эндрю Фурман, русскость может помочь оживить еврейско-американскую литературу и обеспечить евреям признанное место в мультикультурном каноне[21]. Иная ситуация в Германии, традиционно определявшей себя в категориях этнически гомогенного народа,Volk. Германия лишь недавно и с нерешительностью стала признавать тот факт, что она становится страной, привлекающей мигрантов. Каминеровское описание германского общества как жизнерадостного смешения различных культур противопоставляет себя стереотипу немцев как гомогенной массы тевтонских зануд или нацистских головорезов. Возникает вопрос, не способствует ли успеху Каминера и Горелик также и то обстоятельство, что они освобождают господствующее в принявшем их обществе ощущение собственного превосходства от бремени вины, изображая «субалтернов», радостно прославляющих доминирующую культуру.
Благожелательное описание Германии Каминером и вторящей ему Горелик привлекает немецкую публику больше, нежели крамольные произведения Вертлиба, продолжающего затрагивать неудобные темы немецкой ксенофобии и антисемитизма. Обыгрывание роли «крутого», но при этом абсолютно безобидного русского Каминером, так же как и авторская маска эмигрантки — «круглой отличницы» у Горелик отлично ложатся на утопический образ Германии как счастливой мультикультурной общности[22].
Теперь обратимся к Израилю, принявшему наибольшее число еврейских эмигрантов из СССР. Более миллиона «русских», составляющих пятую часть сегодняшнего еврейского населения страны, создали процветающую субкультуру со своими продуктовыми магазинами, средствами массовой информации, политическими партиями и разнообразной литературной продукцией на русском языке. Лишь очень немногие из этих израильских «русских» стали писать на иврите. При этом в большинстве своем такие писатели предпочитают не останавливаться на своем русском происхождении — возможно, из желания быть принятыми как «обычные» израильтяне. Единственное исключение из этого правила пока что представляет Борис Зайдман, который в романе «Хемингуэй и дождь мертвых птиц» (2006) выстраивает собственную двойную русско-израильскую идентичность.
Зайдман родился в 1963 году в Кишиневе и эмигрировал с родителями в Израиль в возрасте тринадцати лет. Его семья, как и большинство эмигрантов «третьей волны», приехавших в 1970-е годы, стремилась избавиться от своей русской идентичности и как можно скорее ассимилироваться. Получив инженерное образования в области видеокоммуникаций, Зайдман до публикации своего первого романа работал арт-директором и менеджером рекламного агентства. Его роман вошел в число пяти финалистов престижной премии Сапира в 2008 году и был переведен на многие языки (но не на английский и русский)[23]. Главный герой книги, Тал Шани, так же как и сам писатель, приехал в Израиль в возрасте тринадцати лет. Теперь, в тридцать с чем-то, он живет как «нормальный израильтянин». Получив от Еврейского агентства «Сохнут» приглашение участвовать в фестивале израильской культуры в родном украинском городе, Шани неожиданно оказывается лицом к лицу со своим прошлым. На борту летящего из Тель-Авива в вымышленный украинский город Днестроград самолета его окружают воспоминания о советском детстве. Поездка в родной город становится путешествием назад во времени по мере того, как в воображении Шани оживает его прежнее существование под именем Толика Шнайдермана. По существу, роман состоит из серии слабо связанных друг с другом новелл, повествующих о разных эпизодах из жизни Толика в бывшем Советском Союзе, его эмиграции и приезде в Израиль.
Повествование Зайдмана устанавливает определенную симметрию между жизнью еврея в Советском Союзе и жизнью «русского» в Израиле: в обоих случаях конкретная этническая идентичность влечет за собой статус аутсайдера, к которому надлежит относиться как к «грязному секрету». Поскольку роман «Хемингуэй и дождь мертвых птиц» показывает с иронией и сарказмом как Израиль, так и Советский Союз, то разные критики, в зависимости от своих взглядов, видели в нем или осуждение советского тоталитаризма и антисемитизма, или выражение разочарования в израильской реальности, приводящее к ностальгии по России[24]. Обе интерпретации одинаково односторонни. В действительности книга Зайдмана позволяет почувствовать «двойственность», присущую всякому эмигрантскому существованию. В израильском контексте новизна такого подхода заключается в том, что он ставит под вопрос ассимиляторский или «абсорбционистский» миф об израильском плавильном котле, изображая травматические последствия резкой принудительной смены идентичности и вскрывая неизгладимые глубинные следы русскости, сохраняющиеся даже у внешне полностью ассимилированного иммигранта[25].
Почитание русского литературного канона является характерной чертой русскости в отличие от других иммигрантских этнических брендов. Новые русские эмигранты в Израиле, по Зайдману, жалуются на «неграмотность» местного населения «в отношении всего, что касается Пушкина, Лермонтова и Достоевского»[26]. Фетишизированная сущность русскости проявляется в поклонении классикам русской литературы. Перед внутренним взором юного Толика проходят ряды собраний сочинений на книжной полке, ведущих, подобно боевым фалангам, символическое сражение за мировое господство. Сходное отношение можно заметить и у писателей русско-еврейского происхождения в других странах. Романы Гари Штейнгарта, как и произведения многих его коллег, пронизаны аллюзиями на русских классиков. Иногда целый сюжет рассказа или романа оказывается «заимствован» из канонического русского литературного источника. Примерами могут служить переработка гоголевского «Портрета» в рассказе Штейнгарта «Шейлок на Неве»[27]или роман Ирины Рейн «Что случилось с Анной К.», представляющий «Анну Каренину» в нью-йоркской русско-еврейской эмигрантской среде. Для многих русских евреев идентификация с каноническим русским искусством стала своего рода светским эквивалентом религии. По словам социолога Ларисы Ременник, исследовательницы русской еврейской эмиграции в Израиле, Северной Америке и Германии, «если у них и были божества, то это Пушкин и Чехов, Пастернак и Булгаков»[28].
При всех важных и значимых различиях между отдельными русскоязычными евреями, начавшими писать на других языках, можно сделать несколько общих выводов. Хотя все они обладают составной идентичностью, большинство из них на первый план в своих произведениях выдвигает именно русскость. Парадоксально, что, будучи евреями, они получили полное признание в качестве «русских» только за пределами России. Такая ситуация ставит их в незавидное положение навечно униженного «другого», отчужденного мигранта, чужого как дома, так и за границей. «Грязный еврей» в России превращается в «грязного русского» в Израиле, Америке и Германии. С другой стороны, статус аутсайдера с множественной идентичностью может стать для писателя ценным ресурсом, особенно в среде, ценящей «мультикультурализм» или «гибридность». Важно подчеркнуть, что русская идентичность не следует автоматически из происхождения, языка или места рождения писателя; одного факта рождения в Советском Союзе и владения русским языком как родным для такого рода «русскости» недостаточно. Эта идентичность активно создается в процессе изобретения собственной литературной личности[29]. Возможно, чтобы компенсировать неизбежную при переходе на другой язык утрату ощущения собственной русскости, писатели-эмигранты нередко помещают действие и героев своих произведений в русскую эмигрантскую среду, бывший Советский Союз или в современную постсоветскую Россию. Главным героем этих произведений часто служит двойник самого автора, погруженный в размышления о собственной конфликтной идентичности.
Для описания еврейской идентичности эти писатели выбирают различные способы. Хотя почти никто из них не соблюдает предписаний иудаизма[30], их отношение к еврейской религии колеблется от своего рода меланхолической ностальгии, как у Дэвида Безмозгиса[31], и серьезного отношения к религиозной традиции, как у Владимира Вертлиба, до безразличия (чаще всего), иронии или неприкрытой враждебности, как у Гари Штейнгарта. Миша Вайнберг, выступающий героем и рассказчиком в романе Штейнгарта «Абсурдистан», называет иудаизм — предположительно выражая мнение самого писателя — «кодифицированной системой страхов», созданной для того, чтобы «держать под контролем и без того нервный и вредный народ». По его мнению, «лучшие из евреев всегда были свободомыслящими и ассимилированными»[32]. Решение об эмиграции в большинстве случаев вызвано стремлением к экономическому процветанию или страхом антисемитизма, а вовсе не стремлением исполнять предписания еврейской религии. Высокомерный американский еврей, ожидающий благодарности за спасение своих братьев из советского плена и пытающийся навязать иудейскую религиозную идентичность новоприбывшим русским евреям, оказывается объектом сатирического осмеяния в нескольких книгах русско-американских писателей.
Таким образом, эти писатели настаивают на русской, а не еврейской идентичности. Именно так их рекламируют издатели, и именно эту идентичность они сознательно предпочитают подчеркивать в своих литературных авторепрезентациях. Прагматической причиной такого положения дел может служить то, что на современном литературном рынке русскость продается лучше, чем еврейство: книга с названием типа «Руководство еврейского дебютанта» продавалась бы гораздо хуже, чем «Руководство русского дебютанта». В то же время для такого русско-израильского писателя, как Борис Зайдман, русскость оказывается единственной доступной этнической идентичностью, выделяющей его среди других авторов[33].
Неудивительно, что литература, вышедшая из-под пера этих эмигрантов, вызвала в России совершенно другую реакцию. Отсутствие энтузиазма по отношению к этим писателям на их бывшей родине показывает, до какой степени успех этнической литературы зависит от местных особенностей той культуры, к которой она обращается. Именно ставшие источником экзотической привлекательности для западной целевой аудитории «русские» черты этих писателей производят на русского читателя впечатление подделки или клише. За границей этим писателям нужно было стать иностранцами и продвигать себя на книжном рынке как русских. Но если они захотят, чтобы их прежние сограждане отнеслись к ним серьезно, им придется избавиться от этой русской идентичности[34].
Национальную идентичность этих писателей лучше всего представлять себе не как неизменную сущность, а как сознательное и непрерывное позиционирование, в которое вовлечены как сами авторы, так и интерпретирующие сообщества прежней и нынешней стран проживания. Конечно, идея о том, что государственная и этническая идентичность «сконструирована», «воображена» или «создана», уже практически стала трюизмом. Неожиданный поворот этой темы состоит в том, что творчество рассматриваемых писателей включает в себя ситуацию перевода культуры, присущую любому этнографическому проекту. В этом смысле их роль подобна роли «туземного этнографа», объясняющего собственную культуру чужой аудитории. Выбор языка определяет адресата — немецкую, североамериканскую или израильскую читающую публику. Фокусирование на стране происхождения отвечает любопытству читателей, стремящихся больше узнать о месте, которое долгое время было недоступно взгляду иностранца и до сих пор в какой-то мере остается «покрытым тайной». Предполагаемый авторитет этих писателей как экспертов в русскости еще более усиливается автобиографичностью большинства их произведений.
В то же время выбор неродного языка в качестве средства литературного самовыражения предполагает радикальный акт ассимиляции в культуру нового общества, что чревато определенными рисками. Помимо раздраженной реакции бывших соотечественников, отказ от родного языка может вызывать упреки в том, что писатель «продался» глобализированной коммерческой монокультуре[35]. В этом смысле переход на другой язык и превращение писателя в обитателя мирового космополитического «плавильного котла» подрывает его статус как подлинного представителя уникальной этнической группы.
Рано или поздно, по мере интеграции и ассимиляции эмигранты переступают тот порог, за которым их иностранные корни перестают быть переживаемой реальностью и превращаются в отдаленные воспоминания. Таким образом, опыт иммиграции не сможет служить пожизненным источником вдохновения; в противном случае он рискует свестись к этническому китчу. В моде на эмигрантскую литературу таится угроза повторения и предсказуемости. Как отметил Морис Дикштейн, «все писатели-эмигранты рискуют рассказывать одну и ту же историю о взрослении, отчуждении и перемещении из одной культуры в другую, мучительном освоения языка, межпоколенческих конфликтах и потребности быть признанным в новом мире»[36]. Поэтому неудивительно, что эти авторы стремятся к созданию индивидуального стиля, в диапазоне от барочной пикарески до сознательно сниженного минималистичного натурализма. Будущее покажет, до какой степени они захотят и сумеют преодолеть свою русскость: некоторые из них уже дали понять, что собираются уйти от русской темы в новых работах, но, несмотря на такие заявления, если учесть доходность рынка подобной литературы, можно усомниться, что как эти, так и другие, схожие с ними авторы захотят в обозримом будущем отказаться разыгрывать «русскую карту».
Поучительным примером может служить последний роман Штейнгарта «Super Sad True Love Story» («Очень грустная правдивая история любви», 2010) — антиутопическая фантазия о ближайшем будущем Америки. По сравнению с двумя первыми книгами русская тема звучит в романе приглушенно. Главный герой, Ленни Абрамов, родившийся в США сын русских иммигрантов, никогда не бывал в России, и, как он заявляет, ему никогда не выпадал «шанс любить и ненавидеть ее так, как… родители»[37]. Тем не менее Абрамов пытается оказать сопротивление функциональной безграмотности американского общества, где книги стали слегка безвкусными, «грязными» объектами, посредством погружения в мир Толстого и Чехова. Штейнгарт мобилизует мощь русской литературной классики для противостояния предполагаемой пустоте американского образа жизни, обращаясь к испытанному стереотипному противопоставлению русского духовного богатства американскому потребительскому материализму. Похоже, что Штейнгарт непоколебимо убежден, что русская литература находится «на первом месте в мире». Можно заподозрить, что и многие упомянутые в этой статье писатели разделяют это мнение.
Авторизованный пер. с англ. Юлии Бернштейн и Михаила Крутикова
[1] Подробнее о современной литературе, созданной русскоязычными эмигрантами на французском, немецком, иврите и английском, см.: Wanner A. Out of Russia: Fictions of a New Translingual Diaspora. Evanston, IL: Northwestern University Press, 2011.
[2] Каминер В. Russendisko. Рассказы / Пер. с нем. Н. Климе- нюка и И. Кивель. М.: Новое литературное обозрение, 2003; ВертлибВ. Остановки в пути / Пер. с нем. В. Ахтыр- ской. СПб.: Симпозиум, 2009 (эта книга получила положительный отзыв Олега Юрьева, см.: http://booknik.ru/eviews/fiction/malchik-motl-ostanovilsya-v-zaltsburge/); Штейнгарт Г. Приключения русского дебютанта / Пер. с англ. Е. Полецкой. М.: Фантом-пресс, 2004; Он же. Аб- сурдистан / Пер. с англ. Е. Фрадкиной. СПб.: Амфора, 2007; ИдовМ. Кофемолка / Пер. с англ. М. Идова и Л. Идовой. М.: Астрель, 2010; Вапняр Л. Мемуары музы / Пер. с англ. И. Комаровой. СПб.: Азбука, 2012; Она же. Брокколи и другие рассказы о еде и любви. СПб.: Азбука, 2012.
[3] См., например, обсуждение в блоге http://gem.livejournal.com/213405.html, подвергающее критике в основном Лару Вапняр, но также и Дэвида Безмозгиса и Гари Штейнгарта. Единственным исключением, получившим благосклонные отзывы русской прессы, стал Михаил Идов.
[4] Groys B. Die Erfindung RuBlands. Munchen: Carl Hanser Verlag, 1995. S. 11.
[5] Электронное письмо автору от пресс-службы издательства «Random House» от 8 июня 2004 г. Единственная книга Каминера, переведенная на английский: Kaminer W. Russian Disco / Trans. by M. Hulse. London: Ebury Press, 2002.
[6] Cм. иллюстрации, образцы звучания и обновленную информацию на сайте:http://www.russendisko.de.
[7] HausbacherE. Poetik der Migration: Transnational Schreib- weisen in der zeitgenossischen russischen Literatur. Tubingen: Stauffenburg Verlag, 2009. S. 256. Остается неясным, действительно ли такой бифокальный способ видения позволяет, как полагает Хаусбахер, считать Каминера обитателем некоего подрывающего основы постколониального «промежуточного места», поскольку Каминер одновременно и деконструирует, и поддерживает национальные стереотипы. Как признает сама Хаусбахер, успехом Ками- нер обязан обильному воспроизводству клише, допускающих различные, противоречащие один другому варианты восприятия. В конечном итоге смысл его произведений определяется тем, «захочет ли читатель остановить маятник, качающийся между деконструкцией стереотипов и их утверждением» (Ibid. S. 249).
[8] Gorelik L. Lieber Mischa. Munchen: Graf Verlag, 2011. S. 119.
[9] Полностью текст можно найти в книге: Kaminer W. Es gab keinen Sex im Sozialismus: Legenden und Missverstandnisse des vorigen Jahrhunderts. Munchen: Goldmann Manhattan, 2009. S. 126—134. В версию, которую предлагает еврейский музей, вошла только первая часть истории. Вторая часть рассказывает о еврее-хиппи, эмигрировавшем в Израиль, но не нашедшем там счастья: не подходит климат, нет «забавных демонстраций», да и все соседи оказываются евреями, в чем также нет «ничего особенного» (S. 131). Герой перебирается в Калифорнию, потом в Берлин и в конце концов возвращается в Москву.
[10] Gorelik L. Hochzeit in Jerusalem. Munchen: Diana Verlag, 2008. S. 61—62.
[11] Этот эпизод лег в основу первой книги Вертлиба, новеллы «Die Abschiebung» («Депортация»), опубликованной около 1995 года. Вторая книга, автобиографический роман «Остановки в пути» (1999), представляет собой беллетри- зованный отчет о скитаниях автора по континентам и языкам. С тех пор Вертлиб опубликовал еще пять книг: «Das besondere Gedachtnis der Rosa Masur» (2001), «Letzter Wunsch» (2003), «Mein erster Morder: Lebensgeschichten» (2006), «Am Morgen des zwolften Tages» (2009) и «Schi- mons Schweigen» (2012).
[12] Vertlib V. Letzter Wunsch: Roman. Munchen: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2006. S. 231.
[13] Vertlib V. Spiegel im fremden Wort: Die Erfindung des Lebens als Literatur. Dresdner Chamisso-Poetikvorlesungen 2006. Dresden: Thelem, 2007. S. 209.
[14] Vertlib V. Letzter Wunsch. S. 246.
[15] Vertlib V. Das besondere Gedachtnis der Rosa Masur: Roman. Munchen: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2003. S. 227.
[16] Kaminer W. «Eine sehr skurrile Gemeinde» // Deutsche Welle. 2003. 10. Feb. (http://www.dw-world.de/dw/article/0,,657365,00.html).
[17] «Can't Live Long Without Writing». A Conversation with Gary Stheyngart // Web del Sol (http://www.webdelsol.com/Literary_Dialogues/interview-wds-shteyngart.html).
[18] Генис А. Бернар-Анри Леви об Америке. // Радио «Свобода». 2005. 19 апр. (http://www.svobodanews.ru/content/article/127943.html).
[19] Гессен М. Иностранная литература // Сноб. 2009. № 8. С. 103.
[20] См.: Bezmozgis D. Natasha. New York: Farrar, Straus and Gi- roux, 2004; Kaminer W. Ich mache mir Sorgen Mama. Munchen: Manhattan, 2004; Gorelik L. Meine weiBen Nachte. Munchen: Diana Verlag, 2006; Zaidman B. Safa Shesu'a. Tel Aviv: Zmora-Bitan, 2010. Еще один русско-американский автор, Сана Красиков, рассказала Маше Гессен, что издательство также собиралось поместить матрешку на обложке ее книги «One More Year», но писательнице удалось этому воспрепятствовать (см.: Гессен М. Иностранная литература. С. 111). Матрешка красуется и на обложке недавно вышедшего сборника эссе русско-французских авторов (Autour des ecrivains franco-russes / M.L. Clement (Ed.). Paris: L'Harmattan, 2008).
[21] См.: Furman A. The Russification of Jewish-American Fiction // Zeek. April 2008 (http://www.zeek.net/804furman). Более скептическая точка зрения высказана в статье: Rov- ner A. So Easily Assimilated: The New Immigrant Chic // AJS Review. 2006. Vol. 30. № 2. P. 313—324. Обсуждение этой проблемы можно найти в моей статье: Wanner A. Russian Jews as American Writers: A New Paradigm for Jewish Mul- ticulturalism? // MELUS: Multi-Ethnic Literature of the U.S. 2012. Vol. 37. № 2. P. 157—176.
[22] Важно заметить, что в своей последней книге, «Sie konnen aber gut Deutsch!» (Munchen: Pantheon Verlag, 2012), написанной в форме полемического эссе, писательница порывает с этой позицией. Прежде всего, ее не удовлетворяет роль «образцового иммигранта» («Vorzeigeauslander»), который якобы может дать другим иностранцам в Германии пример того, как можно успешно интегрироваться в новое общество.
[23] Небольшой отрывок из этого романа в английском переводе был опубликован в: Zeek. 2008. Spring/Summer. P. 59— 64. К настоящему времени книга вышла на немецком, французском и итальянском; ожидается испанское издание. Учитывая мое неважное знание иврита, я прибегал к немецкому изданию: Saidman B. Hemingway und die toten Vogel. Berlin: Berlin Verlag, 2008.
[24] Первая точка зрения представлена в рецензии: Balzer V. Tote Vogel: Als Jude in der Sowjetunion, опубликованной на немецком еврейском сайте «haGalil» (http://buecher.hagalil.com/2008/07/saidman/); как пример второй позиции см.: Loffler S. 60 Jahre Israel: Seht nur, was geschehen ist//Literaturen 5. Aug (http://literaturen.partituren.org/de/archiv/2008/ausgabe_0508/index.html...).
[25] В 2010 году Зайдман опубликовал свой второй роман, «Safa Shesu'a» (2010), в котором он продолжает изучение лингвистической гибридности. В буквальном переводе «safa shesu'a» означает «заячья губа», но в иврите слово «губа» имеет еще значение «язык», то есть название книги имеет отношение к билингвизму автора и героя. Книга рассказывает о службе Тала Шани в армии во время Первой интифады и о его путешествии по Франции вдвоем с подругой, чья семья оттуда приехала в Израиль. Теперь, когда лингвистическая ситуация усложняется, герой разрывается между тремя языками — русским, ивритом и французским. Сам Зайдман женат на женщине французского происхождения и имеет французское гражданство (см. его интервью «Le nouvel observateur», 13 марта 2008 г. (http://bibliobs.nouvelobs.com/2008/03/13/boris-zaidman-lhomme-qui-venait...)).
[26] Saidman B. Hemingway und die toten Vogel. S. 40. Жалобы на незнание иностранцами русской литературы можно встретить также в романах Лены Горелик. Ее литературный двойник с некоторым раздражением замечает, что, хотя немцы убеждены, что все русские — пьяницы, «вряд ли хоть кто-то из них [немцев] читал Достоевского». Ее возмущает, когда нужно объяснять, что «Пушкин — это поэт, а не марка водки» (Gorelik L. Meine weiBen Nachte. S. 26, 29).
[27] См. мою статью: Wanner A. Gogol's 'Portrait' Repainted: On Gary Shteyngart's 'Shylock on the Neva' // Canadian Slavonic Papers. 2009. Vol. 51. № 2/3. P. 333—348.
[28] Remennick L. Russian Jews on Three Continents: Identity, Integration, and Conflict. New Brunswick, N.J.: Transaction, 2007. P. 48—49.
[29] Не все перешедшие на новый язык писатели непременно настаивают на русской самоидентификации. Например, в произведениях успешного французского новеллиста Егора Грана (Iegor Gran), сына Андрея Синявского (его псевдонимом стала фамилия жены писателя), русское происхождение протагониста не затрагивается. Родившийся в Москве К. Гессен (Keith Gessen) в своем романе «All the Sad Young Literary Men» (2008) также не останавливается подробно на своем русском происхождении, а роман не рекламируется как «русский». То же самое можно сказать о романе Михаила Идова «Кофемолка» («Ground Up»), главный герой которого не «типичный русский», а космополитический яппи.
[30] Возможно, единственным исключением является Максим Шраер, считающий иудаизм не подлежащим обсуждению основанием еврейской идентичности. Он осуждает перешедших в христианство евреев как «предателей» и «апо- статов» (Shrayer M.D. Waiting for America: A Story of Emigration. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 2007. P. 140, 149), а сюжет нескольких его рассказов из сборника «Yom Kippur in Amsterdam» (Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 2009) развивается вокруг моральной дилеммы еврея, влюбившегося в «шиксу». Трудно себе представить, чтобы другие русские писатели-эмигранты обратились к такой теме, разве что в сатире (как это делает Гари Штейнгарт в «Приключениях русского дебютанта», где главный герой в конце концов женится на своей нееврейской возлюбленной с американского Среднего Запада).
[31] О роли иудаизма в произведениях Безмозгиса см.: Hofmann B. David Bezmozgis — Muscles, Minyan and Menorah: Judaism in Natasha and Other Stories // Studies in American Jewish Literature. 2006. Vol. 25. P. 101 — 111.
[32] Shteyngart G. Absurdistan. New York: Random House, 2006. P. 88, 251.
[33] По мнению Дэвида Лэйтина, именно поэтому советские евреи в Израиле подчеркивают свою русскую идентичность, а в Америке, где принадлежность к евреям имеет больший политический вес по сравнению с принадлежностью к русским, — еврейскую (см. его статью в этом номере «НЛО»). Мои наблюдения за тем, как русско-еврейские эмигрантские писатели в США и других странах стараются выставить на первый план свою русскость, казалось бы, опровергают это мнение. По-видимому, можно утверждать, что если еврейская идентичность придает больший политический вес, то русская оказывается выгоднее на литературном рынке.
[34] Это заключение справедливо и по отношению к тому, как воспринимаются книги Зайдмана в Израиле. Тогда как сабры дружелюбно приняли его романы, русскоязычные израильтяне в целом отреагировали на них безразлично или раздраженно. См. интервью Зайдмана Роману Яну- шевскому (Зайдман Б. Долгое возвращение домой // Вести. 7/10/2010 (http://www.proza.ru/2010/10/08/797).
[35] По словам Эмили Аптер: «Создавая произведение непосредственно на неродном языке <...>, многие писатели, по- видимому, обходятся без акта перевода, полагая, что он создает проблему для более обширного проекта репрезентации культуры или личности. В этом представлении понятие "глобальный" обозначает не столько конгломерацию мировых культур с присущими им различиями, сколько проблемную монокультурную эстетическую программу, участие в которой предполагает пересечение национальных границ» (Apter E. The Translation Zone: A New Comparative Literature. Princeton: Princeton University Press, 2006. P. 99).
[36] Dickstein M. Questions of Identity: The New World of the Immigrant Writer // The Writer Uprooted: Contemporary Jewish Exile Literature / A.H. Rosenfeld (Ed.). Bloomington: Indiana University Press, 2008. P. 129—130.
[37] Shteyngart G. Super Sad True Love Story: A Novel. New York: Random House, 2010. P. 136.
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
«Вы из НАТО?»: демистификация итальянского наследия в «Клане Сопрано»
(пер. с англ. Н. Сафонова под ред. А. Скидана)
Лоренцо Кьеза
Сериал Дэвида Чейза «Клан Сопрано» (1999—2007), в центре внимания которого — италоамериканский гангстер из Нью-Джерси Тони Сопрано и его неудачливое руководство кровной и мафиозной семьями, стал для публики одновременно международным хитом и объектом бурных критических обсуждений. Если некоторые критики обвиняли его в использовании расистских и сексистских стереотипов, не говоря уже о крайней жестокости, другие хвалили за предположительно реалистичное изображение организованной преступности и жизни американской семьи из верхнего среднего класса. В этой статье я хочу обратить внимание на то, как этот сериал переизобретает жанр фильма об италоамериканской мафии тридцать лет спустя после выхода на экраны эпохального «Крестного отца» Копполы, а также, что важнее, как он, по сравнению с последним, диегетически усложняет способность выдавать искусственное за действительное и, с другой стороны, оказывать влияние на общество (особенно на италоамериканское сообщество и его публичный образ). Также я хочу показать, почему «Клан Сопрано» может быть причислен к линии итальянского неореализма в кинематографе, при том что, сохраняя верность этой традиции, он радикально размывает границу между реальностью и ее изображением. В конце я хотел бы сосредоточиться на эффектном развенчивании в сериале мифа об идиллической Италии, какой мы ее часто видим в американских фильмах о мафии, на противоречиях между тем, что Тони защищает итальянское наследие, будучи белым гражданином США и представителем верхнего среднего класса, и его нежеланием признать, что он стал более образцовым среднестатистическим американцем, чем сам готов допустить.
«Крестный отец» (1972) Фрэнсиса Форда Копполы уже во многих отношениях преодолел рамки жанра классического гангстерского фильма 1930-х годов («Маленький цезарь», «Враг общества», «Лицо со шрамом»). Так, например, он предлагает более откровенное изображение насилия и убийства, избегая при этом изображения италоамериканцев как просто жестоких и примитивных кровожадных чудовищ. Это совмещается с радикальной критикой господствующих американских ценностей, которой не было раньше. Классические гангстерские фильмы ограничивались описанием того, как в соответствии с идеологией эпохи Великой депрессии, в ситуации явно расистских антииммиграционных законов определенное этническое меньшинство, которое науки о жизни и психология того времени называли «низшим», было вынужденно бороться за американскую мечту нелегальными способами по причине своих «плохих» генов. С другой стороны, «Крестный отец» показывает, что криминальная деятельность с целью наживы в конечном счете не отличается от достижения финансового успеха якобы законным путем: американский капитализм с его агрессивной индивидуалистической этикой, основанной на борьбе за выживание и восходящей к истреблению коренного населения, беззаконен по своей сути. Как говорит Коппола в одном из интервью: «Мафия — это метафора Америки <...> У мафии, как и у Америки, корни в Европе. И мафия, и Америка считают себя великодушными. У мафии, как и у Америки, руки в крови из-за необходимости защищать свою власть и собственные интересы. Обе они — полностью капиталистический феномен и ориентированы на получение прибыли»[1]. При этом, однако, социальное послание самого «Крестного отца» оказывается в конечном счете увязшим в неразрешимом парадоксе. Открытое осуждение мифа «хорошей» Америки как агента цивилизации и, с другой стороны, борца с дикарями и людьми «вне закона» (что воплощают фильмы в жанре вестерн и персонажи актера Джона Уэйна) невозможно отделить от пропаганды семейных ценностей. Защита этих коллективных и в то же время ограниченных ценностей — сама по себе консервативна. Главная цель всей нелегальной деятельности дона Вито Корлеоне — власть и процветание его клана, а не его самого (это еще одно отличие «Крестного отца» от классического гангстерского фильма 1930-х). Критики считают, что именно это принесло фильму огромный успех. Как пишет Пун: «…во времена политической и социальной нестабильности 1970-х — вспомнить хотя бы вьетнамскую войну, студенческие протесты 68-го, движение за права человека — консервативные семейные ценности дона [Корлеоне] стали любимой фантазией многих [обычных] американцев»[2]. Другими словами, несмотря на всю критику Америки Копполой, «Крестный отец» все же стал крайне реакционным фильмом. Тот факт, что специализированные киножурналы называют его одним из лучших, если не самым лучшим, фильмом всех времен, связан в первую очередь с его способностью удовлетворить возрастающие неприличные фантазии типичных белых американцев в то самое время, когда эти грезы поставлены под вопрос. «Крестный отец» показывает семью как объединяющую и авторитарную патриархальную структуру, в которой немафиози слабы, а женщины находятся в подчинении, как оппозицию обществу крайнего индивидуализма, при этом не подрывающую его. По словам Фредерика Джеймисона, фильм предлагает «образ социальной реинтеграции»[3]. В этой связи стоит отметить, что дон Вито сам мечтает о легитимации — передавая своему сыну Майклу дела, он говорит: «Я бы хотел, чтобы ты стал сенатором Корлеоне, мэром Корлеоне».
Здесь мы можем предположить, что Коппола способен выдать искусственное за действительное. Хотя антиреализм «Крестного отца» зачастую слишком очевиден, особенно в своем эпическом измерении (персонажи походят скорее на героев и антигероев мифической саги или оперы, чем на настоящих преступников, несмотря на акцент Копполы на домашнем быте членов мафии) и в романтизированных образах Италии (кажется, что пейзажи Сицилии взяты из путеводителя «Одинокая планета», а персонажи-сицилийцы говорят и ведут себя как в костюмированном представлении для туристов), фильм тем не менее убедительно заменяет старые расистские стереотипы италоамериканцевновыми стереотипами (сплоченность их патриархальных семей и т. п.), которые вызывали больше доверия и потому выглядели более реалистичными[4]. Если по поводу этнической правдоподобности «Крестного отца» можно спорить, то его успех в создании публичного образа остается неоспоримым. Благодаря своему сверхфантазматизму фильм широко повлиял на реальную жизнь: семья Корлеоне стала частью американского мейнстрима, а посредством политики культурного колониализма — частью международной массовой культуры (подобно Каннингемам из «Счастливых дней» или — из более современных — Симпсонам из одноименного мультсериала). Как мы только что убедились, западный человек находит в «Крестном отце» «примеры мужского контроля и власти, которые уже не так открыто ценятся в обществе»[5]. Сам публичный образ италоамериканского сообщества также подвергся сильным изменениям: бедные и жестокие иммигранты уступили путь гламурным иконам преступного мира[6]. Но не менее важно и то, что реальная мафия также находилась под сильным влиянием фильма. Во времена упадка ее власти в Соединенных Штатах «Крестный отец» предоставил прекрасный пример идеализированного образа жизни преступников. Как сказал старый мафиозо: «Годы идут, и все, что я могу любить в этой жизни, — это [эти] фильмы. [В реальной жизни] нет чести, нет никакого уважения»[7]. Мы замечаем странную инверсию художественного вымысла и реальности, которая остро проблематизирует любую традиционную идею кинематографического реализма[8].
Мне кажется, что в случае «Клана Сопрано» эта проблематизация еще заметнее. Этот сериал расширяет и усложняет жанр гангстерского фильма, одновременно показывая, как «граница между реальностью и медиаобразом стала незаметной»[9]. Выделим пять пунктов, которые описывают, как это происходит.
1. Одной из главных основ сюжета и психологических портретов персонажей является исторический упадок итальянской мафии в США с 1970-х годов (вследствие давления со стороны ФБР и разногласий внутри преступных семей). Но в то же время сериал демонстрирует, что вдохновленная им гангстерская «культура» никуда не девается — как объясняет Филдс: «.несмотря на последовательное исчезновение гангстерской жизни с улиц, воображаемые жизни преступников процветают в фильмах, телевидении, музыке и компьютерных играх»[10]. Сопрано при этом уязвимее Корлеоне: внутренние предатели атакуют их так же часто, как федеральное правительство. В отличие от Корлеоне, жизнеспособность клана Сопрано зависит в большей степени от осознания своего права на определенный социальный статус и финансовый успех, чем от герметичности собственной организации (которая, в свою очередь, изъедена уголовными преследованиями, внутренними распрями и так называемыми «крысами», работающими на полицейских). Таким образом, витальность «Клана Сопрано» полностью соответствует витальности американского капиталиста, желающего «делать деньги».
2. В отличие от Корлеоне, мечтавших о легитимации, Сопрано чувствуют, что они уже (отчасти) легитимированы. Как пишет Филдс: «Сопрано уже почти могут сойти за рядовых обывателей. Хотя Тони с трудом удается примирить кодекс поведения и властные замашки бандита со своими повседневными обывательскими заботами, он и другие персонажи непосредственно встроены в современный американский образ жизни»[11]. Иными словами, Сопраноявляются типичными представителями верхнего среднего класса Америки, в то время как Корлеоне только стремились таковыми стать. Из этого следует, что феномен мафии, трансформировавшийся со времен «Крестного отца», уже нельзя назвать метафорой американского агрессивного капитализма. Наоборот, саму Америку можно теперь изобразить посредством описания жизни италоамериканской бандитской семьи. Что, конечно, также является следствием того, на что мы указали выше: если образ итало-американской мафии гораздо мощнее своей версии в реальной жизни, если по прошествии десятилетий широкая аудитория стала идентифицировать себя с персонажами мафиозных фильмов и видеоигр, получив доступ к этой культуре, то реальному мафиозо становится проще интегрироваться в буржуазное американское общество. Суммируя вышесказанное, мы можем предположить, что, в отличие от «Крестного отца», который пытается критиковать типичную Америку, предлагая ей (нелегальную) альтернативу и скатываясь в итоге к парадоксальному удвоению и усилению ее консервативных черт, «Клан Сопрано» критикует типичную Америку, воплощая ее напрямую.
3. Сплоченность клана Сопрано основывается во многом на мифе о романтизированном гангстерском прошлом, зачастую эксплицитно представленном в сериале главными героями «Крестного отца». Если, с одной стороны, ценности Корлеоне действительно зависели от этого романтизированного прошлого (Сицилия как утраченная, более «нравственная» земля), то, с другой стороны, они это прошлое так или иначе персонифицировали. В особенности — сам дон Вито; он и есть миф: в этом его чары и причина, в конечном счете, неправдоподобности как персонажа. Тони Сопрано, напротив, не может стать тем, кем мечтает, потому что романтизированное гангстерское прошлое все чаще формируется посредством фильмов, даже в случае самих мафиози. Тони, как персонаж вымышленный, разрываясь между существованием в качестве постмодернистского дона и в качестве нормального провинциального отца, сочетает в себе ностальгию старого мафиозо по прекрасному прошлому с упоением фантазиями о власти и контроле, которые свойственны типичному зрителю «Крестного отца». Вкратце, проблема Тони (которому в первом же — говорящем за себя — эпизоде терапевт выписывает «прозак» от панических атак) именно в том и состоит, что общество не позволяет ему быть Крестным отцом, как в «Крестном отце». Проще говоря, как неоднократно показано в сериале, он способен справиться со своими несовместимыми желаниями — пребывать в воображаемом мире золотого века мафии и одновременно быть любимым paterfamilias XXI века и успешным бизнесменом — только за просмотром фильмов вроде «Крестного отца».
4. «Клан Сопрано» развенчивает миф «хороших» семейных ценностей, утверждавшийся «Крестным отцом»: бандитские италоамериканские семьи пребывают не в меньшем кризисе, чем средние американские семьи. Иными словами, в «Клане Сопрано» семейные ценности, стоящие во главе кодекса чести дона Корлеоне, разоблачаются как полные противоречий. То, чего мы так мало видим в «Крестном отце», стало залогом успеха сериала: психопатология семейной повседневной жизни вместо демонстрации ее прочности сопоставляется с неприкрытой жестокостью бандитской жизни. Тони знает, что у него нет реальной авторитарной власти над своей семьей. На этот счет, например, точно высказывается Уиллис, утверждающий, что Тони и его жена Кармела «хранят маленький грязный родительский секрет среднего класса девяностых: нельзя контролировать поведение подростка, не становясь тюремными надсмотрщиками, бдящими двадцать четыре часа в сутки»[12]. После того как стало известно, что дочь Медоу употребляла кислоту, Тони всего лишь предупреждает Кармелу: «Главное не переусердствовать, как только она увидит, что мы бессильны, — нам крышка». Как отмечают критики, эта его фрустрация, которую Лакан назвал бы «унижением» отцовской фигуры, не проходит без последствий — чем беспомощнее Тони как биологический отец, тем чаще он прибегает к насилию, действуя как отец другой своей Семьи (в отличие от дона Вито, который пользовался в основном словесным внушением и тактикой переговоров). В дополнение к этому очередному пункту, резко отличающему «Клан Сопрано» от «Крестного отца», стоит указать на сильные и твердые женские характеры, представленные в сериале. Все они выступают на протяжении разных серий основным источником беспокойства и злости Тони: мать Ливия постоянно пытается его «опустить», потому что считает его тряпкой (поскольку он посещает психотерапевта) и к тому же он упек ее в дом престарелых; сестра Дженис, полагающая, что она «вне» мафии, следует идиотским эзотерическим псевдобуддистским учениям, но в итоге всегда достигает своих оппортунистических целей только благодаря связям с бандитами; дочь Медоу встречается с молодыми парнями, которые, каждый по-своему, являют собой полную противоположность идеалам Тони — как полуафроамериканский-полуеврейский студент-активист из снобистского университета или юный безрассудный мафиозо, которого Тони безрезультатно пытается держать подальше от улиц[13].
5. «Крестного отца» можно назвать морально релятивистским фильмом в той мере, в какой он изображает дона одновременно и как преступника, и как носителя «альтернативной» справедливости (в этом отношении парадигматичен первый эпизод фильма: мужчина просит у Крестного отца «правосудия», которого не может ему дать американский суд). Вито Корлеоне не принимает правил общества, в котором живет, потому что они обрекают его (и других, таких же как он) на «несправедливую» жизнь. Фильм Копполы, таким образом, показывает нам нелегальный и насильственный выход для эксплуатируемых низших классов — тех самых людей, которыми интересовался классический итальянский неореализм. В конечном итоге, как мы видели, этот выход завершается укреплением социального status quo — как на уровне мечты дона о собственной легитимации, так и на уровне фантазматического присвоения аудиторией его консервативной этики. «Клан Сопрано», напротив, постоянно ставит под вопрос удовольствие зрителей от идентификации себя с гангстерами с их в конечном счете противоречивым кодексом чести. Чем больше нас привлекают промахи Тони в повседневной жизни, его квазиинфантильная невинность, тем больше нам напоминают о его брутальной жестокости, заставляя в результате задуматься о своей идентификации с ним[14].
Последний аргумент заставляет подробнее рассмотреть непростой вопрос реализма в «Клане Сопрано». Несомненно, сериал использует некоторые основные принципы сюжетного построения и кинематографические приемы итальянского неореализма. Конкретная географическая реальность (заброшенные постиндустриальные пустыри северного Нью-Джерси) в конкретный период (поздние 1990-е — начало 2000-х) изображается в квазидокументальной и антропологической манере. Истории персонажей тесно связаны по сюжету с историческим и социальным контекстом действительности, в которой они живут. Титры в начале каждой серии на фоне кадров с Тони, возвращающимся домой с работы в Нью-Йорке, — синекдоха и гипербола этого метода. То, как преподносится связь «Клана Сопрано» с Нью-Джерси, таким образом, многим обязано связи «Рима — открытого города» или «Похитителей велосипедов» с Римом. В добавок к этому игра и диалоги в общем и целом подчеркнуто реалистичны. Лэйвери говорит о «далеких в своей речи от стереотипов главных и второстепенных персонажах, которые общаются на перемежаемом жаргонизмами языке-как-он-есть»[15]. В отличие от «Крестного отца», в сериал не стали приглашать знаменитостей и задействовали в съемках несколько непрофессиональных актеров. Вместе с тем, «Клан Сопрано» сознательно подрывает саму состоятельность логики разделения между якобы нереалистичными звездами кинематографа и предположительно более реалистичными непрофессиональными актерами. Наиболее показательным образом это происходит с персонажем по имени Сильвио, одним из напарников и друзей Тони, которого играет Стивен ван Зандт, соло-гитарист группы Брюса Спрингстина «E-Street Band». В этом случае непрофессиональный актер, являясь одновременно известной личностью, исполняет одну из немногих по-настоящему драматических ролей сериала.
В общем, было бы ошибкой рассматривать «Клан Сопрано» исключительно в рамках традиции неореализма, по крайней мере если понимать последний наивно, в духе высказываний Росселлини, что он стремится показать реальность «как она есть», «сохраняя подлинность вещей». Еще раз: обращаясь к вопросу о реализме «Клана Сопрано», необходимо сосредоточиться на более сложном взаимодействии реальной жизни с тем реальным воздействием, которое оказывают на нее художественные образы. В этом отношении примечательно, что в начале 2000-х в Нью-Джерси можно было найти продавцов, рекламирующих «внедорожники Тони Сопрано со встроенной битой», а полиция принялась активно отлавливать тамошних бандитов, когда те стали меньше скрывать свою деятельность, пытаясь соответствовать ролевым моделям, заимствованным из сериала[16].
Деконструкция тонкой линии, отделяющей реальность от изображения, открыто осуществляется в «Клане Сопрано» в том числе и на диегетическом уровне: Тони и его банда, как мы уже говорили, не только имитируют поведение мафиози из «Крестного отца» или «Славных парней», но и сами становятся объектами фантазий обычных законопослушных граждан, мечтающих о тех же фильмах. К примеру, в одном из эпизодов Тони принимает приглашение состоятельных соседей поиграть в гольф только для того, чтобы осознать, что его роль — пощекотать им нервы (как ни парадоксально, он легитимирован гражданским обществом лишь до тех пор, пока соответствует незаконному и несуществующему архетипу). Еще более любопытно то, что сериал активно включает в себя критику, исходящую от людей, возмущенных подобным образом италоамериканца: некоторые второстепенные персонажи, в особенности бывший муж психотерапевта Тони, озвучивают эти претензии прямо с экрана (к примеру: «Согласно статистике, лишь очень небольшое число италоамериканцев — мафиози», «Такие, как Тони Сопрано, дискредитируют нас»). Представляя свойственные реальному италоамериканскому сообществу конфликты, «Клан Сопрано» выдвигает сильнейший аргумент против любого овеществления этнического наследия: вне зависимости от того, сами ли италоамериканцы называют себя потомками «хорошего» Колумба либо «плохого» Аль Капоне или их так называют другие, после четырех поколений жизни в Соединенных Штатах от их родословной остался не более чем культурный миф, обслуживающий разные, зачастую несовместимые идеологии.
В конце этой статьи я хочу остановиться на трех конкретных эпизодах, которые имеют дело с такой демистификацией, и проанализировать противоречивые отношения Тони с его итальянским наследием. Если в первом из них он полностью отождествляет себя с этим наследием, несмотря на то что оно не имеет отношения к реальной Италии, а во втором делает вид, что верит в него, то в третьем он нерешительно и лишь на время примиряется с тем, что все это — иллюзия. Неудивительно, что все три эпизода открыто отсылают к «Крестному отцу», однако приписывают ему при этом различные символические функции: бессознательный и неоспоримый авторитет отца; устаревший и тем не менее необходимый кумир поколения; легко заменяемый, если вообще не одноразового использования, образец для подражания, соответственно.
В эпизоде «Командор», превосходном примере постмодернистской кинематографической интертекстуальности, «Клан Сопрано» разоблачает миф идиллической Италии, показанный в «сицилийской» части «Крестного отца». Серия начинается с того, что банда Сопрано смотрит фильм и Тони робко говорит, что путешествие Майкла Корлеоне на Сицилию, «сверчки в тишине» — его любимый фрагмент. Затем мы отправляемся вместе с ними в сумбурную «деловую» поездку в Неаполь, и вскоре становится ясно, что город и его жители вовсе не соответствуют романтическим представлениям гангстеров. Все идеалы итальянской мафии из фильма Копполы безжалостно подорваны. Семью Каморра возглавляет женщина, так как боссы-мужчины либо впали в старческое слабоумие[17], либо сидят в тюрьме. Тони сперва отказывается иметь с ней дело и фантазирует о сексе a tergo с ней в римском одеянии. У местных гангстеров нет никакого уважения к кодексу чести или этикету: они избивают подростка, напугавшего их на улице фейерверком; самые молодые из них сидят на героине. За столом переговоров на вежливое английское со стороны Тони: «Это честь — быть здесь» — среднего возраста мафиозо отвечает по-итальянски: «Не крути мне яйца, давай о деле». Неаполитанские «гражданские» тоже отнюдь не отзывчивы и дружелюбны. Поли, компаньон Тони, в жажде припасть к родным корням терпит неудачу, сняв проститутку и утомив ее своими разговорами (та оказывается из деревни его деда). Ко всем мужчинам в барах и на улице он обращается с приветствием «commendatore» («командор»)[18], на что один из них отвечает: «Вы из НАТО? Вы нам трос канатной дороги порвали!»[19] Поли неохотно признает, что он американец. По возвращении в США он тем не менее говорит, что поездка была «сказочной»: «Я чувствовал себя как дома».
Второй эпизод — «Колледж» — о том, как Тони возит свою дочь Медоу по разным кампусам в Новой Англии на дни открытых дверей. Во время путешествия случайным образом он обнаруживает «крысу», живущую под программой защиты свидетелей, и убивает предателя. Как пишет Уиллис, эпизод хорошо показывает расколотую идентичность Тони, «который частично укоренен в умирающей племенной культуре, частично представляет собой обычного провинциального отца[20] широких взглядов (что видно из разговоров об Индии и контрацепции), искренне желающего, чтобы его дочь поступила в хороший университет». Душевная атмосфера путешествия и ужин при свечах располагают Медоу к тому, чтобы напрямую спросить отца, состоит ли он в мафии. Сперва Тони все отрицает, но затем признается в своей нелегальной деятельности, оправдывая ее италоамериканским наследием: «Мой отец был таким, мой дядя. Были времена, когда у итальянцев не было выбора». Реакция Медоу лишает его дара речи: «И у Марио Куомо [бывший мэр штата Нью-Йорк] не было?»[21] Она не просто разоблачает морально несостоятельные оправдания отца, но и обличает миф, за который он так отчаянно цепляется. Филдс отмечает, что, когда она говорит о детях в школе, которые считают, что мафия — это круто, Тони с надеждой спрашивает: «Как в "Крестном отце"?» Медоу пресекает его романтизирование бандитов, отвечая: «Нет, скорее как в "Казино". Одежда семидесятых, таблетки...» Концепция мафии у ее поколения претерпела определенные эстетические изменения, выставляя версию Пьюзо консервативной и неподходящей[22].
Наконец, в эпизоде «Христофор» американские индейцы митингуют против парада на День Колумба, а Тони и Сильвио яростно спорят о своих этнических корнях и о том, как те влияют на мафиози. Сильвио возмущен, потому что считает, что любая критика Колумба — это еще одно проявление дискриминации итальянцев. Тони обрушивается на его натужные, мелодраматичные жалобы, тем самым косвенно признавая, что все апелляции к их предполагаемой «итальянскости» с ее жертвенностью и страданиями — всего лишь предлог для оправдания своего существования вне закона. Похоже, Тони усвоил преподанный дочерью урок. Но при этом принижение фигуры Крестного отца (когда он кричит на Сильвио: «Где твое самоуважение? Вся эта херня не из-за Колумба или "Крестного отца"!») тотчас же компенсируется обнаружением нового и неожиданного символического отца — Гэри Купера, сильного, немногословного типа, белого англосакса-протестанта. Стоит привести один из их разговоров полностью:
Сильвио: Я не понимаю, чего ты горячишься. Они дискриминируют всех итальянцев как группу, когда запрещают День Колумба.
Тони: Ты, бл***, можешь остановиться? Группа! Группа! Что, бл***, случилось с Гэри Купером, вот что я хотел бы знать!.. сильный, молчаливый тип. Он делал то, что должен был делать... И разве он жаловался? Разве он говорил: «Ах, я приехал из бедной техасской ирландской неграмотной среды или х** знает откуда, так что, пожалуйста, отвалите от нас, потому что мой народ на***ли»? <...>
С и л ь в и о: Ти, не принимай близко к сердцу, это всего лишь кино.
Т о н и: А какая, на***, разница? Колумб был так давно, что, может, он тоже гребаное кино! Ты сам говорил об образах!
С и л ь в и о: Я хочу сказать, что Гэри Купер, реальный Гэри Купер или кто угодно по имени Купер, никогда не страдал так, как итальянцы. Mericano [т.е. неитальянцы, англоамериканцы] вроде него поимели всех — итальянцев, поляков, черных.
Т о н и: Будь он mericano в наши дни, он принадлежал бы к какой-нибудь группе жертв — к христианским фундаменталистам, оскорбленным ковбоям, геям, х*** знает к кому.
Критики справедливо подчеркивали, что это уникальный момент всего сериала. Тони срывает маску и признает, что стал среднестатистическим белым гражданином США. По словам Косела, «эпизод "Христофор" тонко показывает, что когда италоамериканцы становятся белыми американцами, их власть в качестве крестного отца в своей семье не зависит уже только от их "кровных" связей со старой итальянской патриархальностью. Скорее, она также зависит от сложных отношений с символическими фигурами "белых" отцов»[23]. Я разделяю эту точку зрения, но в то же время думаю, что ряд аргументов, используемых Тони, говорит нам нечто большее: он ставит Гэри Купера как сильного, молчаливого типа выше дона Корлеоне (или Колумба, который жил так давно, что сам уже стал образом) вместо того, чтобы признать, что первый не менее мифичен, или идеализирован, и столь же бесполезен, как второй. В конце спора Тони возражает Сильвио: «Гэри Купера тоже на***! Живи он сейчас, он сам бы оказался униженной отцовской фигурой, выступающей за права своей группы; наверняка он считал бы себя эксплуатируемым, жертвой. И все же я выбрал бы скорее его в качестве Господствующего Означающего, чем итальянского отца. Я американец!»
Зачем вообще нужен Гэри Купер, чтобы осознать себя американцем? И как может Тони одновременно понимать всю пустоту сильного, молчаливого образа — который сегодня, вероятно, защищал бы права и свободы своей сильной-и-молчаливой группы — и продолжать отождествлять себя с ним?
Это противоречие можно разрешить, если мы примем, что Тони, временно осознавший фиктивность традиционного отца (в любых его вариантах) и его фальшивую генеалогию, тем не менее сознательно выбирает проблематичный путь идентификации себя с безжалостным американским индивидуализмом («Группа! Группа!») — вот что образ «реального Гэри Купера» как человека, который всего добился сам, символизирует в этом контексте, в отличие от пустой и неправдоподобной голливудской иконы Гэри Купера. Самоучка «из техасской ирландской неграмотной среды», всего добившийся в жизни, по-прежнему остается притягательной иконой капитализма, а сильный, молчаливый тип — всего лишь алиби. Мою гипотезу подтверждает еще одно замечание Тони в том же разговоре:
Позволь кое о чем тебя спросить. Все хорошее, что ты получил от жизни, было потому, что ты — Калабрезе? Я скажу тебе. Ответ — нет... Ты получил его, потому что ты — это ты, потому что ты умный, потому что ты х*** знает что еще.
«Клан Сопрано» изящно развенчивает италоамериканские фантазии из старых гангстерских фильмов, но и платит за это свою цену: Тони цинично усваивает те самые (не)ценности капитализма, которые Коппола был намерен критиковать в первую очередь. Преодоление необходимости искать оправдание своим незаконным действиям через виктимизацию неизбежно приводит Тони к тому, что он занимает позицию mericano — тех, кто, по словам Сильвио, законно «поимел всех остальных» (а теперь еще и жалуется). Но в то же время он сознает, что их символические конструкции (такие, как сильный, молчаливый тип) больше не заслуживают доверия.
Перевод с англ. Н. Сафонова под ред. А. Скидана
[1] Lourdeaux L. Italian and Irish Filmmakers in America: Ford, Capra, Coppola, and Scorsese. Philadelphia: Temple University Press, 1993. P. 186.
[2] Poon Ph. The Corleone Chronicles: Revisiting «The Godfather» Films as a Trilogy // Journal of Popular Film and Television. 2006.Vol. 33. № 4. P. 191.
[3] Jameson F. Reification and Utopia in Mass Culture // Social Text. 1979. № 1. P. 146.
[4] Интересно то, как итальянским неореализмом ставилось под сомнение значение семейного единства для итальянского и италоамериканского общества. Характерной чертой таких разных фильмов, как «Рим — открытый город», «Похитители велосипедов», «Чудо в Милане», «Витто- рио Д.» (список можно продолжить), является то, что можно назвать мотивом несемейности: Пину убивают до ее свадьбы с Франческо, Антонио теряет отцовскую власть и его молодой сын Бруно плохо за ним ухаживает, Тото — сирота, Умберто — одинокий старик.
[5] Mannino M.A. Рецензия на книгу: Messenger C. The Godfather and American Culture: How the Corleones Became «Our Gang» // MELUS. 2003. Vol. 28. № 3. P. 218.
[6] «Италоамериканцы стали синонимом телевизионной криминальности» (Cortes C.E. Italian-Americans in Film: From Immigrants to Icons // MELUS. 1987. Vol. 14. № 3/4. P. 108).
[7] Цит. по: FieldsI.W. Family Values and Feudal Codes: The Social Politics of America's Twenty-First Century Gangster // Journal of Popular Culture. 2004. Vol. 37. № 4 (http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=c4de8cda-...).
[8] «Многие мафиози смотрят эти фильмы, чтобы жить, соотносясь с ними» (Ibid.).
[9] Willis E. Our Mobsters, Ourselves // The Nation. 2001. April 2 (http://www.thenation.com/article/our-mobsters-ourselves).
[10] Fields I. W. Family Values and Feudal Codes. Нужно также отметить, что в США и во всем мире есть мафиозные группы, которые так или иначе процветают вне зависимости от создаваемых культурных образов. Это диегетически показано в «Клане Сопрано» посредством нарастающего присутствия русской мафии.
[11] Ibid.
[12] Willis E. Our Mobsters, Ourselves.
[13] Кармела и доктор Мелфи, психотерапевт Тони, определенно должны быть в этом списке, но они являются все же более сложными персонажами.
[14] «Сериал эпизод за эпизодом и сезон за сезоном показывает нам всю несостоятельность шарма Тони перед лицом преступлений и других форм социально неприемлемых действий» (Nochimson M.P. Waddaya Lookin' At?: Re-reading the Gangster Genre Through «The Sopranos» // Film Quarterly. 2002. Vol. 56. № 2. P. 7).
[15] Lavery D. Coming Heavy: The Significance of The Sopranos // This Thing of Ours: Investigating «The Sopranos» / D. Lavery (Ed.). New York: Columbia University Press, 2002. P. XIV.
[16] Можно подумать, что они стали уязвимы после того, как стали примерять на себя идеализированный образ жизни, который на экранах изображал их самих!
[17] «Смутная завороженность впавшего в старческое слабоумие итальянца американскими клише сравнивается с потерей италоамериканцами своих корней, их удаленностью от настоящей "итальянскости"» (YacowarM. The Sopranos on the Couch. Analyzing Television's Greatest Series. New York; London: Continuum, 2005. P. 89).
[18] В фильме «Крестный отец: Часть III» к Майклу Кор- леоне на Сицилии обращаются: «Commendatore Майкл Корлеоне».
[19] В контексте деконструкции границы между реальным/вымышленным, доведенной до критической точки, это высказывание является отсылкой к действительному инциденту, произошедшему в 1998 году в Кабалезе, когда в итальянских Альпах военный самолет США порвал трос канатной дороги, что привело к двадцати жертвам.
[20] Willis E. Our Mobsters, Ourselves.
[21] Здесь Медоу как будто отсылает к фразе дона Вито «Я бы хотел, чтобы ты стал сенатором Корлеоне, мэром Кор- леоне» (но время для этого еще не пришло), ставя отца перед тем фактом, что тридцать лет спустя он вполне мог бы стать сенатором Сопрано.
[22] Fields I.W. Family Values and Feudal Codes.
[23] Kocela C. From Columbus to Gary Cooper: Mourning the Lost White Father in «The Sopranos» // Reading the Sopranos / D. Lavery (Ed.). London; New York: I.B. Tauris, 2006. P. 116.
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Интервью с Хачиком Тололяном
(пер. с англ. А. Зубова и А. Логутова)
«НЛО»: Как бы вы могли вкратце обрисовать современное состояние диаспоральных исследований?
ХАЧИК ТОЛОЛЯН: Это поле исследований представляется достаточно интересным и активным, но в то же время неоднородным. Во-первых, эта категория сама по себе весьма инклюзивна и сейчас включает в себя ряд конфликтующих рабочих определений, что отличает современную ситуацию от ситуации, скажем, 1990 года, когда только лишь еврейские, армянские и греческие диаспоры опознавались как таковые. Во-вторых, в diaspora studies оказываются вовлеченными многие другие научные дисциплины: от антропологии, социологии и политологии до исследований в области постколониальной литературы, религиоведения, социально-экономической географии и т.д. В-третьих, это поле поистине интернационально. Журнал «Diaspora: A Journal of Transnational Studies», который я издаю, является типичным в этом отношении, так как в нем печатаются статьи авторов из Англии и США, Малайзии и Южной Африки, Индии и Франции и т.д. Каждый из авторов по-своему использует те же понятийные категории и привносит что- то новое в методологию.
«НЛО»: У стороннего наблюдателя, оценивающего ситуацию из российского контекста, складывается впечатление, будто концептуальное поле diaspora studies как таковое уже сложилось, но понятийный аппарат для его осмысления еще находится на стадии становления, внутренние границы между различными аспектами изучения диаспор до сих пор не определены. Насколько верно такое впечатление или, наоборот, оно не соответствует истине?
Х.Т.: И да, и нет. Да — в том смысле, что в diaspora studies нет одного авторитетного лица, которое диктовало бы, что такое diaspora studies, как следует определять эту дисциплину и как ее изучать. Ученые постигают традиции своей дисциплины в своей стране, они изучают подходы, появляющиеся в других странах и других дисциплинах, затем пишут сами и учат других. Если их работа принимается, то сперва она расширяет все поле исследований, а затем с течением времени те или иные подходы принимаются другими последователями дисциплины и становятся доминирующими. Но здесь нет полного согласия, и ни у кого нет достаточного авторитета, чтобы насильно утвердить его. В каком-то смысле взгляды, убеждающие большее количество ученых, побеждают.
К примеру, многие влиятельные ученые верят, что для диаспоры необходимо сохранять ориентацию на покинутую в свое время родину. Этого мнения придерживаются многие диаспоральные группы. Сионисты, например, подтверждают, что стремятся к тому, чтобы как можно большее число евреев вернулось в Израиль, но ведь к тому же стремятся и Государственный департамент США, и представители Всемирного банка, поскольку они бы хотели, чтобы диаспоры, появившиеся на Западе и ведущие происхождение из экономически малоразвитых стран, инвестировали в свои родные страны и способствовали их развитию. Эти представления обладают как концептуальными, так и политическими компонентами. Напротив, ряд других ученых полагает, что диаспоры должны обладать только двумя качествами: дисперсией и стремлением поддержать единую идентичность, т.е. сопротивление ассимиляции. В таком случае романи, или цыгане, которые не помнят родину и не заинтересованы в возвращении в родную северо-западную Индию, которую они оставили около 800 года н.э., составляют диаспору во втором смысле, а согласно первому определению — нет.
Более того, существуют категории, которые ученые принимают в теории, но на которых никто не фокусируется на практике. Диаспора, изучаемая с точки зрения количества денег, которые транснациональные эмигранты посылают домой («римесса»), и та же диаспора, рассмотренная с позиции обмена культурной продукцией, к примеру музыкой, циркулирующей между метрополией и различными диаспоральными сообществами, в результате может показаться двумя разными диаспорами. В том случае, если ученый не концентрируется на транснациональном, кросскультурном обмене, но, напротив, изучает функционирование институций диаспоры, таких как школы, места религиозного почитания и политические органы, то та же диаспора вновь будет выглядеть иначе. В теории, эти и другие подходы должны быть синтезированы, что в итоге позволило бы увидеть полную картину той или иной диаспоры, но на практике это малодостижимо.
«НЛО»: Насколько сильно — или, наоборот, слабо — понимание диаспоры в современных теориях отличается от традиционного представления? Я имею в виду такие определения, как предложенное в английском разделе «Вики- педии»: «Диаспора — это рассеянное население с общим происхождением на небольшой географической территории. Диаспора также может означать миграцию населения с исторической родины».
Х.Т.: Трудно сказать, поскольку даже традиционные определения могут отличаться друг от друга. Рассмотрим несколько наиболее существенных пунктов, ставших объектами споров в ранних определениях понятия. Во-первых, это причины миграции с родины: еврейские и американские мыслители делают акцент на насильственной высылке как причине возникновения диаспоры. Но это далеко не единственная причина. Первая волна евреев, несомненно, была сослана в Вавилонское изгнание силой, но в Египте к тому моменту уже существовали еврейские общины, и уже после окончания Вавилонского изгнания многие евреи «добровольно» продолжали эмигрировать по экономическим причинам. Первая волна дисперсии армян была спровоцирована жестокой политикой тюркских правителей Сельджукидов, однако причинами последующих волн эмиграции были уже экономическая бедность и поиск более благоприятных возможностей в жизни. Рассмотрим и другой пункт, особенно ценный для ряда еврейских ученых: цель любой диаспоры — возвращение в метрополию. В то же время большинство людей — представителей одной диаспоры, раз обосновавшись в новой стране, предпочитают там и остаться. Так, в настоящее время многие евреи возвращаются в Израиль, многие, наоборот, уезжают, но многие же продолжают оставаться на своих местах, в Англии или Бразилии. Такие разные типы поведения характеризуют большие, наиболее развитые диаспоры.
Мне кажется, такое усложнение частично связано с тем, как по-разному можно понимать «принудительную высылку». Миграция киргизских и армянских рабочих в Россию с 1991 года связана не с тем, что они подвергались преследованию на родине, а, в первую очередь, с отсутствием там рабочих мест или с заработной платой ниже прожиточного минимума. Можно ли описать эту ситуацию как экономическое насилие? Является ли диаспора, возникшая в результате экономической нищеты, в той же степени диаспорой, как и та, которую составляют пережившие резню или геноцид? Очевидно, эти две диаспоры во многом отличаются: к примеру, механизмы коллективной памяти диаспоры, скрепляющей ее в единое сообщество, в обоих случаях функционируют по-разному. В то же время обе они представляют собой сообщества рассеянных по миру людей, сохраняющих транснациональные связи и общее желание сопротивляться ассимиляции и сохранять собственную идентичность. Моя позиция и позиция многих моих коллег состоит в том, что все это примеры диаспор, однако они не поддаются единой концептуализации.
«НЛО»: Обычно считается, что диаспоральное сообщество — это сообщество с твердой и последовательной установкой на закрытость, но насколько закрытыми можно считать реальные диаспоры? Можно ли приблизительно выстроить какую-либо «градацию» этой закрытости? Насколько вообще диа- споральное сообщество закрыто или открыто для соседних культур и этносов?
Х.Т.: Опять же, ответ зависит от места и времени. Раньше было проще сохранять закрытость диаспоральных сообществ, когда доминировали такие факторы, как религиозная самоидентификация, этнические и расовые предрассудки, затрудненная и ограниченная мобильность, сокращенный уровень коммуникации, закрытое хозяйствование с определенными экономическими нишами только для представителей диаспор, недоступность высшего образования, необязательность несения военной службы для всех. При таких условиях, которые до недавнего времени были превалирующими для всего мира, лидерам диаспоральных сообществ было проще разрабатывать стратегии убеждения своих членов в необходимости сохранения и поддержания границ сообщества закрытыми, а также успешно добиваться определенной модели поведения — запрета на междиаспоральные браки, ограниченных и формализованных контактов между членами диаспоры и представителями сообщества принимающей страны и полного отсутствия ассимиляции. Однако и в этой ситуации многое зависело от поведения именно принимающей стороны: если общество оказывается нетерпимым, то оно не позволяет интеграцию меньшинств, включающих и диаспоральные меньшинства, она для него оказывается нежелательной. Ни одно общество Европы, кажется, не пожелало интегрировать цыган; американское общество было более открыто интеграции поляков и евреев, чем афроамериканцев. Некоторые общества и страны практиковали религиозные преследования и попытки обращения в определенную веру — к примеру, в Византии армяне массово принимали православие, с одной стороны, из-за давления правительства, с другой — стремясь использовать карьерные возможности, открытые для обращенных в православие.
Сегодня правительства многих стран меньше демонстрируют националистическое и пуританское отношение к сообществам и, наоборот, более открыты для культурной гибридизации, не практикуют жесткого и принудительного приобщения к социальным, культурным и экономическим нормам. Они все чаще позволяют социальное, культурное и экономическое самоопределение, возможности и способы интеграции в сообщество принимающей страны и получения гражданства. (Я знаю, что до сих пор существует ряд государств, где подобное отношение не в ходу, однако в глобализированных странах это доминирующая линия поведения.) Мы наблюдали примеры такого прогрессивного движения в сообществах, ориентированных на открытость и инклюзивность, что ведет к облегченному контакту с обычаями другой культуры, как это происходит сейчас в Америке. На настоящий момент подавляющее большинство японо-американских браков совершаются за пределами одной группы. Это заметное изменение по сравнению с ситуацией 1970-х годов. Значительный процент браков евреев и армян в Америке заключается не с членами их диаспоральных групп. Снижение роли религии, распространение университетского образования, телевидение, музыка и Интернет — все это способствует становлению единой глобальной молодежной культуры, более сильной, чем культура диаспоры. Однако это движение может быть замедлено или даже обращено вспять при изменении поведения принимающей стороны. Может казаться, что история неумолимо движется в одном направлении, но затем она внезапно меняет курс.
«НЛО»: Какова реальная или воображаемая связь диаспоры с метрополией? Каково взаимоотношение культур диаспоры и метрополии? Х.Т.: На этот вопрос не может быть единого ответа ни с точки зрения исторической перспективы, ни в настоящем. Древнейшая и в каком-то смысле показательная диаспора — еврейская — не могла иметь контактов с метрополией, поскольку в 66—134 годах н.э. войны с Римской империей привели не только к разрушению священного города Иерусалима, но и буквально к разорению всей страны. В течение нескольких веков продолжали существовать маленькие религиозные сообщества, и они же создали первый Иерусалимский Талмуд. Однако уже к 500 году н.э. первенство получили вавилонские евреи и их Талмуд. С трудом верится, что между 500 и 1880 годами н.э. в Палестине / Израиле могло быть больше 3—4 тысяч евреев одновременно. Схожим образом, африканские рабы в США не имели возможности устанавливать контакты с родиной, однако диаспора имела четкие границы, так как американское правительство препятствовало ассимиляции, а такие факторы, как жестокость извне и создание внутри сообщества сильной религиозной, устной и музыкальной культуры, унаследованной потомками рабов, помогли становлению особой идентичности. Другие диаспоры, к примеру армяне, никогда не теряли контакта с метрополией, однако количество и качество контактов могли сильно различаться.
Отчасти отличительной чертой диаспор в ситуации после 1960-х годов является легкость, с которой можно путешествовать на родину, и постоянная циркуляция видео-, телефонных и электронных сообщений между странами. Даже в тех случаях, когда метрополия располагается далеко, как, к примеру, Индия от Америки, большое количество состоятельных индусов ежегодно посещают родину. Для сравнения вспомним, что в 1910 году письмо из Чикаго в Одессу могло идти около трех недель, и столько же обратно. В год таких контактов могло совершаться не более семи-восьми. Сейчас я знаю мигрантов, которые ежедневно общаются со своими семьями, живущими на расстоянии семи тысяч километров. Они могут пересылать деньги, подарки, видео и «селфи». Сейчас упрощение контактов с родиной продолжает усиливаться.
Разумеется, формы культурных и других видов взаимодействий имеют куда более комплексный характер. Связи с литературной традицией метрополии исчезают быстро, поскольку многие мигранты либо малообразованны, либо слишком заняты зарабатыванием денег, либо утрачивают язык метрополии за одно поколение. Если правительство принимающей страны практикует политику подавления, то возможности контакта еще более усложняются. При экономическом подавлении контакты полностью прекращаются. Между 1979 и 1989 годами, после того как Дэн Сяопин открыл экономику Китая, 85% всех иностранных инвестиций в Китай поступило от китайцев из Южной Азии. Последние повели себя стремительно и эффективно, как только для них стало очевидно, что они могут свободно инвестировать средства в свою страну и получать от этого выгоду.
«НЛО»: С позиции живущих в диаспоре людей, она выступает как депозитарий культурных кодов, идеологем и ценностей, которые были присущи метрополии и теперь должны быть сохранены. Насколько это правдиво с точки зрения внешнего наблюдателя-антрополога?
Х.Т.: И да, и нет. Распространенная проблема состоит в том, что открытые диаспоры, т.е. те, которые не загоняются в гетто, стремительно теряют многие из этих кодов и ценностей. В то же время многие меньшие фракции, наоборот, придерживаются их. О диаспоральных социальных формациях (таких, как в национальных сообществах) лучше думать как о массе населения, занятой работой или отдыхом и вовлеченной в прочие рутинные практики, маркирующие ее идентичность. Однако всегда существует маленькая группа людей, более преданных и активных, посвятивших себя общей идее. Они и составляют ядро сообщества, работающее на сохранение угасающих традиций, некоторые из которых время от времени могут возрождаться.
В качестве иллюстрации приведу пример. Некоторое время назад израильское правительство решило документировать все еврейские танцы в каждой диаспоре, начиная с исполняемых в Йемене и Марокко и заканчивая теми, что существовали в Восточной Европе до становления Израиля. Обнаружилось, что никто в Израиле не имел ни малейшего представления, как исполнять определенные танцы, скажем, из Восточной Польши, хотя название танца в памяти диаспоры продолжало жить. В то же время проживающие в Бруклине хасиды до сих пор сохраняют традицию исполнения этого танца. Этот пример показывает возможность сохранения старых традиций в диаспоре и говорит о важности того факта, что сообщества метрополий могут меняться очень быстро. И в процессе изменений эти сообщества, будучи уверенными в своей идентичности, уходящей корнями в их родину, отбрасывают старые традиции с большей легкостью, нежели более мелкие диаспоральные группы. Но в целом следует сказать, что в диаспорах традиции исчезают стремительно.
Важно отметить, что это не всегда является следствием ассимиляции. Те диаспоры, которые придерживаются старых культурных практик, определяющих их идентичность, продолжают существовать. Однако когда эти практики исчезают, сообщество просто-напросто изобретает новые с целью поддержания определения себя как особой диаспоральной группы, отличной от окружающего общества принимающей страны. Механизм выживания диаспоры — непрерывное производство маркеров различия. В конце концов они оказываются отличающимися не только от принимающей страны, но и от культуры предков их родной метрополии. Такая двунаправленная дифференциация является основной особенностью диаспор. Конечно, связь с утраченными традициями может быть более или менее выраженной. Так, в 1970-е годы в молодежных клубах Лондона группа молодых пенджабцев, иммигрантов из Индии, вдохновившись древним земледельческим танцем из их родного региона и усовершенствовав его танцевальными стилями черных иммигрантов с Карибских островов, изобрели танец «бхангра». Этот танец, будучи продуктом этой диаспоры, также получил широкое распространение и популярность в среде молодежи в Индии. В настоящее время дифференциация нередко становится следствием транснациональной циркуляции практик и смыслов.
«НЛО»: Каким образом сообщество, в основе которого уже не лежат привычные категории территории / гражданства / национальной идентичности, выстраивает свою культурную идентичность и какие компенсаторные механизмы оказываются вовлечены в это производство идентичности?
Х.Т.: Для начала к этим трем категориям я бы хотел добавить еще две: экономическую и религиозную идентичность. Не думаю, что здесь стоит распространяться о религиозной идентичности. Эта категория говорит сама за себя. Но позвольте мне подробнее остановиться на экономической идентичности. Единственное, в чем полностью соглашаются и убежденные марксисты, и «махровые» капиталисты, — это то, что экономика является базовой категорией человеческой жизни. Сегодня под воздействием глобализации народы, живущие на своей территории как граждане своего национального, независимого государства, говорящие на родном языке, обнаруживают, что условия их жизни изменились кардинально из-за того, что экономика больше не является национальной. По определению, это всегда было верно для диаспор — они всегда живут в «чьей-то еще» (народной или государственной) экономической среде. Диаспоры изначально занимают определенную экономическую нишу. Существует старый термин — «меньшинство комиссионеров», описывающий преимущественно евреев, армян, китайцев и диаспоры индийцев в Британской Восточной Африке. Эти диаспоральные меньшинства выработали не только свои собственные коммерческие практики, но и коллективную идентичность в экономической нише в качестве посредников между превалирующим земледельческим населением и полуфеодальной аристократией. Евреи и армяне в Польше между 1340 и 1650 годами были ювелирами, ростовщиками, искусными ремесленниками, но не крестьянами. Китайцы играли схожую роль в Индонезии и Таиланде, однако этот пример немного сложнее, так как в некоторых случаях они также выступали и в роли «рабочих-кули» (наемных землепашцев). Путешествуя по Европе и Северной Америке, нельзя не заметить, что менялы, владельцы газетных киосков, заправочных станций и мотелей и мелкие лавочники в большинстве случаев — индийцы. Все эти нишевые экономики позволяют определить культурную ориентацию и идентичность диаспоральной мелкой буржуазии, тем не менее обладающей сильными транснациональными связями.
Уместным будет добавить, что вопрос об «идентичности» сам по себе крайне сложный и практически нерешаемый. Два уважаемых американских исследователя, Роджерс Брубейкер и Фредерик Купер, в длинной статье «За гранью идентичности» пишут, что хотя мы и используем термин «идентичность», но по-настоящему в нем не нуждаемся, а его использование часто приводит к путанице. В рамках академического дискурса, утверждают авторы, исследование, проводимое через призму понятия «идентичность», может стать более продуктивным, если использовать комбинацию других, менее абстрактных терминов. Насколько я могу судить, хотя и не существует общепринятой и наглядной теории идентичности, многие из нас тем не менее продолжают до сих пор использовать термины «идентичность» и «культурная идентичность» в повседневном общении, в академических дебатах и научных исследованиях. Очевидно, если и существуют русская или американская коллективные идентичности, которые продолжали бы работать на протяжении длительного времени, то в таком случае нам необходим анализ того, как общество и культура, работающие через семью и институциональные структуры, воспроизводят эту идентичность внутри индивидуумов, обеспечивая ею каждого новорожденного внутри сообщества. Сейчас у нас накопилось много наблюдений и идей, но никакой адекватной общей теории. Конечно, мы знаем, что родительские институциональные практики имеют значение. Но в то же время мы не можем объяснить, почему, когда в диаспоре в одной семье рождаются два сына, скажем, с разницей в два года, один из них наследует диаспоральную идентичность, а второй — наоборот, максимально отдаляется от «породившего» его сообщества. И в этом нет ничего удивительного, ведь точно так же мы не можем ответить на вопрос, почему, в то время как один из двух братьев, выросших в одной семье, становится трудолюбивым и порядочным человеком, другой превращается в грабителя-наркомана. Вопрос, что является решающим фактором в становлении человеческой личности — биология, семья, более крупная родовая группа или сообщество, — большая загадка для ученых, чем они готовы признать. И эта загадка тесно связана с вопросом о диаспоральной идентичности.
«НЛО»: Существует конструктивистское представление, что диаспора, как инация, — это конструкт, «воображаемое сообщество». Насколько это представление можно считать работающим? Является ли диаспора сообществом, сконструированным только изнутри, или окружающий контекст тоже ее конструирует? И если да, то как?
Х.Т.: Когда Бенедикт Андерсон ввел представление о том, что нации — это непременно воображаемые сообщества, он имел в виду то, что — в отличие, например, от жителей деревни — члены нации не вовлечены в повседневное личное взаимодействие друг с другом и не связаны интересами и целями, возникающими в подобном взаимодействии. Будучи специалистом по Индонезии, Андерсон хотел обратить внимание читателя на то, что, к примеру, жители северо-западной Суматры, отделенные, скажем, от острова Малуку тремя тысячами километров океана, восприняли новую общую индонезийскую идентичность, научившись воображать себя частью обширного, но закрытого сообщества. Им это удалось во многом благодаря технологическим инновациям XIX века, и в особенности — развитию печати.
В андерсоновском смысле диаспоры всегда и неизбежно «воображаемы». Чтобы дать им адекватное описание, нужно отметить существование локальныхдиаспоральных сообществ, связанных друг с другом различными способами. Во-первых, это интранациональные связи, существующие, к примеру, между армянскими общинами Парижа, Марселя и Лиона или — насколько я могу предполагать — Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону и Краснодара. Во-вторых, они вступают в транснациональные, преодолевающие государственные границы, связи с другими локальными сообществами. Например, армяне Москвы могут поддерживать контакты с армянами Лос-Анджелеса, Парижа или Нью-Йорка. Разумеется, все эти сообщества не теряют связи с Арменией. Подобное сочетание локальных и транснациональных связей и обеспечивает существование абстракции, известной как глобальная армянская диаспора.
Диаспора представляет себя не в абстрактных терминах, а посредством различных форм интенсивного коммуникационного обмена, превышающего по силе любые формы печатной коммуникации, доступные в XIX столетии. Сегодня турки в Берлине, ереванские армяне в Лос-Анджелесе и ливанцы в Нью-Йорке могут благодаря спутниковому телевидению круглосуточно следить за новостями из метрополии; многие из них также пользуются компьютерами и мобильными телефонами для оперативного общения со своей родней. Кроме того, существуют институционализированные формы контактов, обеспечиваемые низкой стоимостью путешествий: священники, филантропы, политические активисты, ученые, интеллектуалы и люди творческих профессий постоянно перемещаются с места на место. В обмен вовлечены и идеи, и деньги. Значительная часть онлайн-общения происходит на английском или французском языке, так как китайцам в Сингапуре, Гавайях или Лондоне (так же как индийцам из Калькутты, Йоханнесбурга или Сан-Франциско, гаитянам из Майами, Монреаля или Парижа) легче удается спорить или соглашаться со своими онлайн-респондентами на этих языках. Исследователи диаспор нередко читают эту переписку и наблюдают новые интересные способы конструирования диаспоральной идентичности: в онлайн-общении черты местных диаспоральных сообществ играют меньшую роль, чем дискурс воображаемой глобальной диаспоры. Иногда это может привести к опасным последствиям: появлению глобальных форм национализма, не привязанного к национальному государству.
«НЛО»: Какую роль в жизни диаспор играют практики памяти? Каким образом передается эта память?
Х.Т.: Память — это, несомненно, один из ключевых связующих элементов, обеспечивающих единство диаспоры во времени и пространстве. Но обобщить этот очевидный факт нелегко. В каком-то смысле память в диаспоре работает так же, как и в метрополии. В диаспорах, как правило, празднуются все те исторически памятные события, что и в метрополии: для мексиканских общин США «Синко де майо» (5 мая) не менее важен, чем для жителей Мехико. Праздники местного значения также сохраняют свою значимость: население Маленькой Италии в Нью-Йорке отмечает день Святого Януария с тем же размахом, что и в Неаполе (как это верно изображено в «Крестном отце 2» Копполы). В маленьком городке Миддлтаун (50 тысяч жителей), где я живу, польский праздник Ченстоховской Черной Мадонны и сицилийский праздник Святого Себастьяна отмечаются этническими группами, нередко демонстрирующими диаспоральное поведение. (Этнические группы и диаспоры — разные явления; все диаспоры являются этническими группами, но не все этнические группы диаспоральны.)
Повторю еще раз, что особенно остро личное и коллективное сталкиваются именно в сфере памяти. Каким образом коллективные воспоминания становятся личными? В диаспорах, переживших акты принуждения и насилия, особенно устойчивы воспоминания о травматических событиях. Но каким образом я, сын армян, переживших геноцид в Османской империи, или дети евреев — жертв Холокоста (такие, как моя коллега и подруга Мариан Хирш) способны сохранять эту память? Ни я, ни она не переживали этих страшных событий. Как можно помнить то, что с тобой не происходило? Исследуя старые фотографии и тексты, профессор Хирш ввела новый термин «постпамять» (postmemory), обозначающий воспоминания, внушаемые при помощи семейных и прочих нарративов тем, кто, по определению, не может помнить самих событий.
Разумеется, уже во втором поколении потомков переживших катастрофу передача памяти становится довольно сложной и основывается на очень разнообразных приемах и практиках. К примеру, существуют так называемые «объекты наследия» (legacy objects) — не обязательно обладающие художественной ценностью ремесленные изделия, несущие в себе стиль или способ производства, характерный для метрополии до катастрофы: керамическая поделка, привезенная немецкой семьей из Венгрии в Миннесоту в 1848 году; лакированная шкатулка, привезенная из Китая около 1850 года; вышитый носовой платок, привезенный из армянского Мараша век назад; кулинария, местные песни и, конечно же, разнообразные типы повествований (истории, фотокарточки, письма, дневники и т.д.). Все это вносит вклад [в сохранение памяти]. Изучение форм культурной памяти стало сейчас особой научной субдисциплиной, основанной на работах ряда исследователей — от Мориса Хальбвакса до Яна Ассмана или Питера Бёрка, а также на мемуарных и художественных текстах. Музеи, временные выставки, учебники по истории для диаспоральных школ, споры вокруг устной истории, психоаналитические подходы к анализу травмы и бессознательного — все эти объекты, механизмы и практики формируют культурную и социальную память и способствуют образованию постпамяти у членов диаспоры.
«НЛО»: Каким образом изменение доступности текстовых, визуальных, аудиальных и т.д. медиатехнологий в диаспоре и метрополии отражается на конструировании и циркуляции идентичностей? Каким образом такие ключевые компоненты наций и диаспор, как коллективная память и общий язык, изменяются с появлением новых медиа?
Х.Т.: Переход к цифровым медиа изменил все — начиная от сексуальных практик и кончая преступностью в диаспорах. Влияние медиа на диаспоральные сообщества необходимо анализировать в терминах двух отдельных феноменов. Необходимо прояснить способы передачи информации и способы культурногопроизводства. В определенном смысле я уже касался этой темы: в настоящее время члены диаспоры могут с поразительной скоростью узнавать подробности о событиях в жизни метрополии, их семей, об экономических и политических изменениях в масштабах целой нации — и эта информация не подвергается фильтрации или контролю со стороны крупных организаций. К примеру, я подписан на ANN, армянскую новостную службу, которая генерирует подборку из всех онлайн-новостей, содержащих слова «Armenia» или «Armenian». В результате каждое утро я получаю 100—150 новостей на английском или французском языке самого разного объема и тематики: начиная от описания того, как армяне отмечали годовщину геноцида в Марселе, и кончая тем, как поживает футболист Генрих Мхитарян, играющий за немецкую «Боруссию». Кроме того, в моих руках оказываются десятки веб-ссылок на разного рода статьи и видео. В обычный день я трачу на просмотр этих сообщений не менее часа, иногда — больше. Разумеется, это делают далеко не все. По разным оценкам, около двух или трех тысяч армян занимаются чем-то подобным ежедневно. По выражению Габриеля Шеффера, их можно назвать «ядерными» членами диаспоры. Как говорилось выше, разные люди по-разному участвуют в поддержании существования диаспор, и главная роль в этом деле принадлежит целеустремленным, активным, легко мобилизующимся индивидам.
Участие в общении, в обмене идеями, изображениями и аудиовизуальными материалами очень важно. Со временем даже интеллектуалы старшего поколения, такие как я, привыкшие читать бумажные книги, овладевают цифровыми технологиями. Для наших молодых коллег цифровой мир стал естественной средой существования, в которой они живут, работают, развлекаются и принимают на себя разного рода обязательства. «Цифровое целеполагание» (digital commitments) активно исследуется учеными. Каким образом рассеянные по миру члены диаспоры, сидя за экраном компьютера, создают новые связи, затевают новые разговоры, конструируют новые диаспоральные дискурсы и практики, в которых не просто воспроизводится уже известная, доступная иными способами информация, но придумывается ипроизводится новая?
Немецкий антрополог Мартин Зёкефельд предпринял попытку показать то, каким образом социальные движения могут создаваться в Сети, на примере возрождения уникального (как в этническом, так и в религиозном смысле) сообщества алевитов в Турции, которое последовательно уничтожалось властями с 1923-го по 1980 год. Начиная с 1960-х годов некоторые алевиты начали в индивидуальном порядке переезжать в Германию, утратив практически все устные традиции и коллективные практики. Зёкефельд демонстрирует, как с конца 1980-х им удалось восстановить утраченные традиции и воссоздать свое сообщество при помощи использования цифровых технологий не только в политических, но и в культурных и религиозных целях.
В своем исследовании диаспорального киберпространства Виктория Бернал показала, как беженцы из Эритреи и другие мигранты, покинувшие свою родину в результате тридцатилетней войны за независимость Эфиопии (1961—1991), использовали новые медиа для консолидации публичного пространства диаспоры и политической мобилизации культурных центров. Пнина Вербнер, работавшая с пакистанским населением Англии, и Арджун Аппадураи, более известный теоретическими исследованиями, также подчеркивают важность цифровых технологий для развития публичного пространства диаспор. Разумеется, этот процесс имеет и негативные стороны. Анонимность интернет-общения открывает возможности для распространения нелицеприятных политических мнений и культурных предрассудков. Пожалуй, самые уродливые формы индусского диаспорального национализма родились именно в Сети. В статье «Кибераудитории и диаспоральная политика в транснациональном китайском сообществе» («Cyberpublics and Diaspora Politics among Transnational Chinese») антрополог Айхва Онг показывает, как глобальная цифровая диаспора, оторванная от повседневности социальных взаимодействий, порождает новый культурный дискурс, предпочтение в котором отдается сомнительным эссенциалистским абстракциям.
«НЛО»: В какой степени жизнь диаспоры определяется культурными стереотипами? На основании каких критериев представители диаспоры формулируют свои отличия от окружающих обществ? Какими способами конструируются эти отличия?
Х.Т.: Стереотипы распространены в диаспорах, но в меньшей степени, чем в окружающих их сообществах, где, подкрепляемые государственной властью, они особенно опасны. И весело, и грустно наблюдать за тем, как разные диаспоры часто пытаются подтвердить свою уникальность, прибегая к одним и тем же стереотипам. «Мы — семейные люди», — говорят о себе итальянцы, армяне, китайцы и вьетнамцы в Америке, полагая, что только им свойственно уважение к семейным ценностям, которым они объясняют свои успехи и в котором отказывают другим диаспорам.
На практике стереотипы используются диаспоральными меньшинствами как орудие критики большинства, среди которого они живут. К примеру, я слышал от американских армян и корейцев утверждение: «Мы — трудолюбивые семейные люди, в отличие от американцев, которые здесь всегда жили». Иногда подобные высказывания принимают форму настоящего расизма, направленного против афроамериканцев. Иногда они носят более общий характер: многие иммигрантские диаспоры (евреи, армяне, греки, китайцы, индийцы) в среднем более экономически успешны, чем коренные американцы — как белые, так и черные. У членов этих диаспор возникает недоумение по поводу того, почему коренные жители за многие века так и не воспользовались преимуществами жизни на «благословенной» (blessed) земле (в США, Австралии или Канаде), и они склонны объяснять свой быстрый успех при помощи снисходительной стереотипизации местного большинства, приписывая последнему лень, любовь к алкоголю и наркотикам или сексуальную распущенность. Разумеется, большинство отвечает тем же, только уже в более опасных формах. Меньшинствам, специализировавшимся на посредничестве в торговле (евреи, армяне, китайцы и индийцы) и достигшим делового успеха в преимущественно сельскохозяйственных районах, часто приписывалась жадность и нечестность: «Разве приезжие могут разбогатеть за одно поколение? Наверняка они нас грабят». Подобные идеи могут привести к дискриминациям или даже массовым убийствам. Так что — да, стереотипы существуют. Но, по крайней мере, в США и Канаде их становится меньше.
«НЛО»: Можно ли — и если да, то на каких основаниях — причислить к диаспорам «пограничные» социальные формы: например, микросообщества, образуемые в процессе «внутренней миграции» в закрытых обществах, или вовлеченные в трудовую миграцию «переходные» группы, еще не обретшие гражданского статуса в новой стране, не организовавшие собственных культурных институтов и находящиеся в «серой зоне неразличимости» между двумя или несколькими социумами?
Х.Т.: По этому поводу есть самые разные мнения. Мобильность стала частью человеческой жизни с тех пор, как первый Homo sapiens вышел из Африки 150 тысяч лет назад. То есть диаспора, понимаемая в смысле результата расселения популяции, возникла еще в древности. В своих работах я использую термин «расселение» как общую категорию, частным случаем которой является «диаспора», которая — в силу исторических причин — стала тем, что в риторике определяется как «синекдоха», т.е. частью, заменяющей целое.
В каких условиях сообщества расселения становятся диаспорами? Можно ли назвать все сообщества мигрантов диаспоральными? Моя исследовательская позиция по этому вопросу не самая популярная. По моему мнению, диаспоры должны отвечать целому ряду критериев: (1) члены диаспоры должны быть разбросаны по государствам вне своей метрополии, но при этом (2) как можно дольше сохранять свою изначальную идентичность, чтобы затем создать новую, основанную на поддержании культурных и прочих различий. Кроме того, (3a) они ощущают родство со своими бывшими соотечественниками, разбросанными по другим странам, а также — в большинстве случаев — (3b) с теми, кто остался в метрополии. И, наконец, (4) я предпочитаю определять подобные людские образования как «транснациональные сообщества» в переходном состоянии, превращающиеся через три и больше поколений в «настоящие диаспоры». Подобные критерии кажутся большинству моих коллег слишком произвольными, но, по-моему, это не так. У первого поколения мигрантов независимо от того, покинули они свою родину вынужденно или добровольно, еще сильна память о доме и о семейных узах — они живут в «транснациональной семье». Во втором поколении эти связи ослабевают, но остаются значимыми — дети мигрантов знают своих бабушек, дедушек, дядей и племянниц, проживающих в метрополии. В третьем и последующих поколениях, когда связи с бабушками и дедушками, двоюродными братьями и сестрами окончательно исчезают, а личные обязательства не успевают приобрести фундаментальное значение, выбор в пользу сохранения и дальнейшего развития особой идентичности становится по-настоящему осмысленным. Разумеется, в разные исторические периоды это происходит по-разному. Как уже было сказано выше, если большинство населения новой страны отвергает ваше сообщество, оно с легкостью остается диаспоральным. Но если в условиях культурной гибридизации, отсутствия проблем с получением гражданства и равенства экономических возможностей, характерных для многих современных социумов, группа продолжает поддерживать свою обособленность, то можно говорить о ее полной диаспоризации.
Большинство других определений не столь детальны и строги, а потому довольно разнообразны. Робин Коэн, работающий в Оксфорде и много сделавший для расширения определения «диаспоры», выделяет такие типы, как вик- тимная диаспора (victim diaspora), торговые и купеческие диаспоры, трудовая диаспора, а также «имперская диаспора», состоящая из колониальных чиновников и поселенцев. Пол Гилрой, используя термин «Черная Атлантика», выделяет культурную диаспору чернокожих, вышедших из Африки и обретших вторую родину в Бразилии, на Ямайке, в Гайане, США, на Кубе или в Лондоне, для которых путешествия, культурный обмен и циркуляция произведений искусств, художников и интеллектуалов стали определяющими факторами единства сообщества. В этом смысле «черная диаспора» как социальная формация обязана своим существованием культуре, производимой меньшинством и открытой к заимствованиям со стороны большинства. На мой взгляд, подобное положение имело место во многих диаспорах на протяжении очень долгого времени. Тем не менее споры продолжаются — и, поскольку интеллектуальные, психологические и политические силы уже преодолели национальные границы, точка в них будет поставлена еще очень нескоро.
Пер. с англ. Артема Зубова и Андрея Логутова
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Еврейская память и «парасоветский» хронотоп:
Александр Гольдштейн, Олег Юрьев, Александр Иличевский
Михаил Крутиков
OFF-SOVIET КАК КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП
Антрополог Алексей Юрчак в своей книге о культуре «последнего советского поколения» определяет «поколение застоя» как продукт «общего опыта нормализованного, вездесущего и непреложно-властного дискурса брежневского времени»[2]. И в отличие от других советских поколений, сформировавшихся под знаком одного большого исторического события — такого, как война, «оттепель» или же перестройка и распад СССР, — для «поколения застоя» такого определяющего события не было. Даже само понятие «застой» как «несобытие» для определения брежневского периода вошло в оборот позже, для противопоставления горбачевскому «ускорению», а затем перестройке. Характерным ощущением, оставшимся от того времени в памяти интеллигенции этого поколения, было чувство «непринадлежности», «нахождения вне» общественных структур, как официальных советских, так и диссидентских антисоветских[3]. Например, Дина Рубина так комментирует автобиографическую основу своей прозы: «Я пока свидетельствую только о своей личной легкомысленной, никогда не советской (я умудрилась даже в комсомол не вступить) и никогда не диссидентской (для этого был необходим другой темперамент) жизни»[4]. Или, как сказал Олег Юрьев в речи при вручении немецкой Премии имени Хильде Домин: «Для меня вся советская действительность была нереальной — мутная пленка вокруг подлинной жизни, реального существования»[5]. Такое «внесистемное» существование предполагало, как считает Юрчак, «активное участие в создании разнообразных новых увлечений, форм идентичности и стилей жизни, которые допускались, но не обязательно определялись официальным властным дискурсом»[6]. К таким «формам идентичности» можно отнести самые разнообразные неформальные сообщества — от обществ охраны памятников старины до панк-движения. Говоря о неформальных сообществах, возникших в это время вне официально признанных форм общественной жизни, Юрчак использует термин «детерриториализованные сообщества» (deterritorialized milieus), заимствуя понятие детерриториализации у Делёза и Гваттари. По аналогии с предложенным Светланой Бойм понятием off-modern такой культурно-антропологический тип можно было бы назвать off-Soviet.
Специфический еврейский вариант такой детерриториализации внутри городского советского социума представляло собой так называемое «культурническое» направление в еврейском движении 1970— 1980-х годов, претендовавшее на то, чтобы занимать срединную позицию между активным диссидентством и официальной советской культурой. Как объясняет этнограф Михаил Членов, один из немногих активистов этого движения, которому удавалось совмещать престижную академическую работу с подпольным преподаванием иврита: «...евреи в Советском Союзе оказались в таком сложном положении, когда они ничего о себе не знают. Когда государство всячески препятствует проникновению любого еврейского знания, будь то языковое, историческое, литературное, культурное, религиозное или какое-нибудь другое знание. И наша задача, во-первых, — освоить это знание самим; во-вторых, — передать его другим»[7]. Членов подчеркивает обыденный, негероический характер «культурнического» движения: «Сюда приходили самые обычные люди; они приходили не бороться, а некоторым образом жить. В этом отношении еврейское движение сильно отличалось от диссидентского. Диссидентское движение ставило себе целью изменение ситуации в Советском Союзе. А участники еврейского движения не ставили перед собой такой цели. Принципиально не ставили и об этом громко заявляли»[8]. Таким образом, всем, интересующимся еврейской культурой в самом широком смысле, не оставалось иного выбора, кроме как создавать свою «детерриториализованную» инфраструктуру по модели, описанной Юрчаком. Эта инфраструктура, охватывавшая тысячи человек, живших преимущественно в крупных городах, и была небольшим фрагментом обширного открытого пространства, включавшего самые различные неформальные группы и формы активности, а также занимавшего промежуточное положение — в терминологии постколониальной теории «третье место» — между более четко обозначенными «советским» и «антисоветским» полюсами. В результате перестройки и распада СССР эта аморфная конфигурация распалась, поскольку ограничивающие ее полюса потеряли свою значимость. Исчезли и препятствия как для легальной еврейской деятельности на местах, так и для эмиграции.
Интересную попытку осмыслить происходившие на его глазах перемены сделал московский искусствовед Евгений Штейнер, специалист по средневековому японскому искусству и раннему советскому авангарду, эмигрировавший в 1991 году в Израиль. В эссе «Апология застойного юноши», опубликованном сразу по приезде в израильском журнале «Звенья», Штейнер обозначил признаки своей уходящей в прошлое социальной группы, во многом предвосхитив концепцию Юрчака: «Речь пойдет о некоем типе, или, по- нашему, карассе, носителей парасоветской ментальности, круг которых довольно узок, и страшно далеки они от какого бы то ни было народа. Да, далеки, на том и стоят, тем и интересны, через то в истории народа (не того, так этого) и останутся. В самом деле, история любого народа без истории его антиномических отношений с его инородцами будет неполной»[9]. По Штейнеру, этот тип был чужд как советской идеологии с ее образом жизни и эстетическими нормами, так и активному, «героическому» диссидентству, однако он был и «определенно не несоветский», по простой причине: «.ибо откуда же было взяться европейскому, или американскому, или просто досоветскому»[10]. В результате возник некий «мутант советской системы», имевший «негативный опыт отторжения от господствующей социокультурной ситуации», но не имевший никакого «позитивного опыта вхождения в принципиально иную макросистему». Эмиграцию многих представителей этого типа — включая себя самого — Штейнер объяснял не стремлением убежать от надоевшей советской реальности, а желанием сохранить этот уникальный «парасоветский» образ жизни, ставший невозможным в условиях новой России: «...ныне наш карассе оказался реликтом — исчезла породившая его среда обитания, и он, не желая ничего перестраивать, никого обустраивать, а паче всего — растворяться, откочевал в земной Иерусалим, по-прежнему взыскуя вневременного Небесного»[11]. Штейнер заключает свое рассуждение вопросами: «Насколько в новой ситуации окажется возможным актуализовать наработанный в специфической теплице скотского хутора багаж? Какие тексты сумеют создать, какой отпечаток сумеют наложить на окружающее общество (а центр его, несомненно, несколько сместится в эту сторону) те, кто как психологический тип со своими поведенческими стереотипами и культурными нормами возник в доброе застойное время, по недосмотру и благодаря покойнице Советской Власти?»[12]
Переходя от культурной антропологии к словесности, можно попытаться взглянуть на описанную ситуацию и ее продолжение с точки зрения художественных репрезентаций на языке метафор и символов. Как поиски «парасоветского третьего места» за рамками советской/антисоветской дихотомии воспроизводятся post factum в художественных текстах? Сохраняет ли «еврейский случай» свою особенность, как это было при советской власти, или же произошла его нормализация после того, как исчезли навязанные извне ограничения? Каким образом заполняется — и заполняется ли — тот вакуум еврейской идентичности, о котором говорил Членов?
РУССКИЙ ЛЕВАНТ АЛЕКСАНДРА ГОЛЬДШТЕЙНА
Оппонентом Штейнеру в «Звеньях» выступил Александр Гольдштейн, бывший журналист и редактор из Баку, вынужденный эмигрировать в Израиль из-за волны этнического насилия в Азербайджане, сопровождавшей карабахскую войну. Для Гольдштейна «этот внешне столь привлекательный, а внутренне столь амбициозный образ жизни и даже целый круг существования на самом деле в основе своей был в значительной степени потребительским, накопительским, сберегательно-рачительным <...> — одним словом, каким угодно, но только в последнюю очередь по-настоящему творческим, то есть создающим нечто принципиально новое»[13]. Писатель воспринимал эмиграцию как переход от мнимого существования к реальному: «А потом мы уехали и приехали в Израиль. И здесь "действительности" оказалось больше, и была она круче, "подлиннее"»[14]. Израиль стал для Гольдштейна не только новым местом жительства, откуда он мог критически обозревать советское прошлое, но и пунктом для наблюдения за всей мировой цивилизацией. Зарабатывая на жизнь газетной поденщиной, он получил признание среди российской интеллигенции благодаря книге «Расставание с Нарциссом», подводившей итог советской культуре как «нарциссической цивилизации». Он закончил свой некролог этой культуре призывом к созданию нового и самостоятельного средиземноморского извода русской культуры в русской израильской диаспоре: «...русскому слову на Святой Земле лучше бы поменьше кружиться вокруг дорогих могил и священных камней». Вместо этого следует «прорубать себе выход к Средиземному морю и левантийскому мифу, к соленой мореходной метафизике. Это стало бы исполнением заповедных травматических интенций нашей культуры, так долго тосковавшей по утраченной эллинистической целокупности, по александрийскому своему окоему»[15]. В этом призыве Гольдштейна слышится отголосок чаяний молодого Бабеля, писавшего в 1916 году в порыве военного патриотизма: «И думается мне: потянутся русские люди на юг, к морю и солнцу. Потянутся — это, впрочем, ошибка. Тянутся уже много столетий. В неистребимом стремлении к степям, даже м[ожет] б[ыть] "к кресту на Святой Софии" таятся важнейшие пути для России. Чувствуют — надо освежить кровь. Становится душно. Литературный Мессия, которого ждут столь долго и столь бесплодно, придет оттуда — из солнечных степей, обтекаемых морем»[16]. Это стремление расширить границы «русского мира» на восточное Средиземноморье имеет, конечно, глубокие корни в русской имперской традиции.
В отличие от столичной интеллигенции, пережившей распад СССР относительно комфортно, для Гольдштейна агония советской власти была связана с этническим насилием. От уютного «застойного» Баку остаются лишь зыбкие воспоминания: «Привычный город исчезал на глазах. Да и был ли он вовсе? Этот беспечный циник-космополит, прожженно-советский и насквозь несоветский, теплый, морской и фруктовый, обаятельно двоемысленный (каждый знал наперед, что отдать кесарю, а что взять себе) — он служил впечатляющей иллюстрацией к известной поэтической максиме, согласно которой "ворюга мне милей, чем кровопийца"»[17]. Баку в описании Гольд- штейна напоминает постколониальные ностальгические образы других космополитических городов, уничтоженных войнами и революциями ХХ века, — Александрии, Салоников, Бейрута. Американский литературовед Дэвид Мур удачно определил этот стиль репрезентации прошлого как «ретроспективный космополитизм» (retrospective cosmopolitanism)[18]. В новом, постсоветском мире Тель-Авив оказался для Гольдштейна реинкарнацией исчезнувшего Баку. Гольдштейн вновь оказался «в провинции у моря», откуда он мог наблюдать за миром и разгадывать смысл происходящего, делясь своими соображениями с ближними и дальними читателями. В Тель-Авиве ему интересны и близки не по-европейски фешенебельные центральные и северные приморские районы, а населенные неудачливыми эмигрантами и приезжими рабочими из «третьего» и «второго» мира южные и восточные окраины и пригороды, эти «белые найроби» среди «светской столицы евреев»: «Роль найроби огромна, самостоятельна, исторична. Теперь-то я знаю, найроби — магические пространства, не разрешавшие городу набрать ритм буржуазности, респектабельности, бурно ускориться в эту сторону»[19].
По Гольдштейну, роль «детерриториализованных» диаспор в литературе схожа с положением «белых найроби», этих «заряженных колдовской потенцией» «магических участков» чужеродности среди однородной буржуазной городской территории. Диаспора должна будоражить, раздражать и беспокоить свою культурную метрополию, не давая ей окончательно закоснеть в самодовольстве. В предисловии к стихотворному сборнику Александры Петровой «Вид на жительство» Гольдштейн писал:
[И]мперской литературе, какой и надлежит быть русской словесности, подобает тяготеть к иноприродности, инаковости своих проявлений. Культура империи выказывает мощь в тот момент, когда ей удается выпестовать полноценный омоним, выражающий чужое содержание посредством материнского языка. Исходя из собственной, подчеркиваю, собственной выгоды, культура остывшей империи должна сказать пишущим в диаспоре: ваша литература не русская, а русскоязычная, и это хорошо, именно это сейчас требуется. Она существует, она исполнена смысла. Добивайтесь максимального удаления от метрополии языка, развивайте свое иноземное областничество. Вы мне нужны такими, вы дороги мне как лекарство от автаркической замкнутости. В этом моя корысть, мое эгоистическое, оздоровительное к вам влечение, любовь к дальнему, разгоняющему застоявшуюся кровь[20].
В качестве примеров для подражания Гольдштейн приводил «франкоречивых авторов Магриба» и «индийских писателей английского языка». Периферийная литература должна противостоять «полированным кубикам» — «бедствию среднего вкуса», постигшему, по мнению Гольдштейна, современную русскую литературу[21]. Оптимистический взгляд Гольдштейна на литературу диаспоры противостоит скептицизму Иосифа Бродского, считавшего, что писатель в «изгнании» обречен на переживание своего прошлого: «.ретроспекция играет в его существовании чрезмерную (по сравнению с жизнью других людей) роль, затеняя его действительность и затемняя будущее»[22]. Для Бродского писатель-изгнанник по природе консервативен, обращен лицом к прошлому, поскольку «стилистические сдвиги и инновации в значительной степени зависят от состояния литературного языка "там", дома»[23], для Гольдштейна же именно диаспора является источником языковых «инноваций» и «стилистических сдвигов». Сам Гольдштейн критически оценивал эссеистику Бродского в эмиграции, усматривая причину стагнации в происхождении его поэтики из «рукава все того же петербургско-ленинградского мифа»[24].
Заочная полемика Гольдштейна с Бродским имеет и пространственное измерение. Для Гольдштейна эмиграция была не фактом биографии отдельного человека, а продуктом тектонических сдвигов в глубинах исторической материи: «.твой марш-бросок исполнили тобой и за тебя разъятая держава, разбухшие проценты эмиграций <...>. Люди редко узнают свою участь в лицо...»[25]Поэтому призвание писателя-эмигранта «словесно запечатлевать тягостные извороты и положения» является, возможно, единственным оправданием его личных «никчемных претерпеваний». Переезд из Баку в Тель-Авив был не «изгнанием», как отъезд Бродского из Ленинграда, а исторически обусловленным перемещением с восточного края древней ближневосточной ойкумены на западный, с Каспийского моря на Средиземное. Исторически, культурно и географически Баку и Тель-Авив Гольдштейна принадлежат одному пространству, в то время как Ленинград и Нью-Йорк Бродского относятся к разным мирам. Восток для Гольдштейна представляется неизменной в своей сути темной, нетерпимой и разрушительной силой, скрывающейся за орнаментальным фасадом учтивости — «я, ненавидя Восток, всю жизнь провел на Востоке»[26]. Восток принуждает каждого человека сохранять и культивировать свою национальную и религиозную особенность. На Востоке «[н]ет слова мощнее, чем нация. Взбухает, крепнет, раздается нация — трухлявятся другие слова. В нации соки мира кипят (в смысле world, в смысле мiр), бродят меркуриальные духи, нация темноречивая винокурня, тайнорунная колыбель, с благоуханными мощами рака»[27]. Запад же предлагает комфортную анонимность растворения в космополитической культуре. Мечта о Западе представляется Гольдштейну греховным соблазном: «А был нераскаянный грех, мечталось бродягой безродно с вокзала пройти в пакс-атлантическом каком-нибудь городке мимо двухбашенной церкви, бархатной мимо кондитерской <...>. Полвека хотел проскитаться из отеля в отель, на вопрос о корнях отвечая кислой гримаской, давно, дескать, снято с повестки, человек без родинки, песеннотихий никто, расплачиваюсь евро, нет наций после Голгофы, моей-то наверное — каюсь, был грех, о, нация, нация, все мое от тебя, я капля из дождевой твоей тучи»[28].
ЕВРЕЙСКИЙ МИФ ПЕТЕРБУРГА ОЛЕГА ЮРЬЕВА
В противоположность средиземноморскому бакинцу Гольдштейну, живущий во Франкфурте Олег Юрьев видит себя хранителем и продолжателем петербургской поэтической традиции: «…стихи — это единственная область, где я закоснелый шовинист и фундаменталист. Русская поэзия как система, как осмысленный непрерывный текст — это петербургская поэзия. Так будет всегда, пока будет стоять город, поскольку он пишет, а мы записываем. Вне этого города существовали и существуют по отдельности замечательные и великие поэты, сочиняющие по-русски, но из этого для меня не складывается никакой единой поэзии, никакого общего текста — только примечания»[29]. Не менее значимо присутствие Петербурга и в прозе Юрьева, прежде всего в романной трилогии «Полуостров Жидятин» (2000), «Голем, или Война стариков и детей» (2004) и «Винета» (2007), показывающей последнюю четверть ХХ века через сложную оптику мифологии, фантастики и гротеска. При всем изобилии постмодернистских приемов, проза Юрьева, как и его поэзия, ориентирована на традицию высокого модернизма, разыгрывающую основополагающие мифы европейской культуры в декорациях современности. Каждый роман трилогии имеет свой набор мифов, на котором строится повествование об определенном отрезке советской и постсоветской истории, но общим для всей трилогии служит «петербургский миф» в его новейшей, постсоветской вариации. В предисловии к роману «Винета» герой Юрьева рассуждает о природе «петербургского человека»:
Простой петербургский человек, рожденный сюда как бы авансом, ни за что ни про что, безо всяких со своей стороны на это заслуг, всегда отчасти смущен и постоянно слегка неуверен — а достоин ли он незаслуженной чести, а законна ли его прописка в Раю? <...> И в жизни петербургского человека наступает рано или поздно тот час, когда, больше не в силах жить на чужой счет, он отрывается — ведь и сам он, точно шарик, наполнен щекочущим газом. <...> И бедный шарик уносит — в Москву или Гамбург, в Венецию или Нью-Йорк, в простые беззазорно стоящие на земле (ну, пускай на воде) города — а те уж польщены будут, и благодарны, и счастливы, коли петербургский человек сойдет в них пожить. Для них — мы ангелы...[30]
Таким образом, жители Петербурга также оказываются своего рода «евреями», несущими миру тайное знание о городе, который «так и остался небесным островом — все и висит над землей и водой, чуть-чуть не касается»[31].
Действие первого романа трилогии, «Полуостров Жидятин», происходит весной 1985 года, в период короткого «междуцарствия» между смертью Черненко и назначением Горбачева. Напуганное слухами о погромах интеллигентное ленинградское еврейское семейство отправляется на школьные каникулы в «погранзапретзону полуостров Жидятин», расположенную у самой советско-финской границы на Карельском перешейке, где их родственник служит офицером по снабжению военно-морской части. Там они снимают нижнюю часть старого пакгауза, на втором этаже которого живут хозяева — последние на земле последователи секты «жидовствующих», с напряжением ожидающие чудесного избавления из векового пленения. Книга состоит из двух частей, написанных от лица двух подростков, ленинградца Вени Язычника и его ровесника из семейства Жидята. Сознание обоих рассказчиков несколько помутнено, в первом случае из-за острой болезни, а во втором — после произведенного собственными руками ритуального обрезания в ожидании скорого исхода из «римского» пленения, ассоциированного с Ленинградом, в «Иерусалим», находящийся в воображении сектантов на месте Хельсинки. Эта двойная перспектива задана симметрической конструкцией книги-перевертыша, которую можно с одинаковым успехом читать с двух концов.
Валерий Шубинский связывает зеркальную конструкцию романа с еврейско-русской темой: «."русское" и "еврейское" как будто отражаются друг в друге, взаимно пугаясь и не узнавая друг в друге — себя самое. Две семьи, имеющие реальные (но совершенно разные) основания считать себя еврейскими, видят друг в друге воплощение чуждого и опасного "русского" мира»[32]. Можно также сказать, что два рассказчика пародийным образом персонифицируют две антропологические модели еврейской идентичности, этническую и религиозную. Сам Веня Язычник далек от каких бы то ни было еврейских интересов, а брат его старшей сестры, учитель Яков Маркович Перманент, и вовсе принадлежит к группе ленинградских евреев-интеллигентов, обретших истину от простого деревенского попа, с доброй усмешкой окормляющего свою «пархатую епархию». Однако в потоке сознания Вени возникают говорящие на сочной смеси русского и идиша различные семейные персонажи старшего поколения. Их грубая «местечковая» речь по-бахтински подвергает осмеянию как официальный советский язык, так и антисоветские по содержанию и советские по форме рассуждения «человека европейской культуры» Перманента. Аналогичный стилистический прием мастерски использовал Фридрих Горенштейн в пьесе «Бердичев», где грубой и примитивной «аутентичной» местечковости старшего поколения бердичевских евреев противопоставлена шаблонная «интеллигентность» евреев московских. По-обэриутски виртуозно сочиненная сектантская речь Жидяты пронизана религиозной мифологией, скомпонованной из пестрой смеси исторических эпизодов, таких как изгнание евреев из Испании, новгородская ересь «жидовствующих» и завоевание Финляндии Россией. Если в глазах ленинградских евреев их дачные хозяева выглядят дикими русскими сектантами, то «последние жиды» из рода Жидята считают своих дачников из «языческого Рим-Города», он же «Ленин-Город и Петер-Город», типичными представителями завоевавшей их «забобонской» страны, чью власть они должны терпеть, покуда не прибудет мессианское избавление. Для Юрьева язык служит одновременно объектом и субъектом письма, темой и героем. Само имя Язычник (происходящее, как объясняет герой, от местечка Язычно) заключает в себе эту двойственность: с одной стороны, оно указывает на «язычество» советских евреев, утративших свою культуру и религию; с другой стороны, оно подчеркивает важность языка как инструмента для осознания, сохранения и отражения исторического опыта. При этом еврейский языковой материал с его двухслойной, религиозно-этнической стилистикой, сочетающий в себе как высокое, так и низкое, противопоставляется одномерной шаблонности советского сознания.
Действие романа «Новый Голем, или Война стариков и детей» происходит в 1992—1993 годах, в период следующего «междуцарствия и семибоярщины в бывшем Скифопарфянском Союзе», «единственной империи в мире, самораспустившейся по недоразумению»[33]. Место действия, пограничный чешско-немецкий городок Жидовска Ужлабина / Юденшлюхт («Еврейское ущелье») напоминает своим местоположением Жидятин. Но в отличие от Жидятина, расположенного на строго охраняемой советско-финской границе, разделяющей два враждебных мира, Юденшлюхт оказывается в центре новой объединенной Европы, стремящейся к стиранию всех границ: «Западный человек нашего нового времени будет красным зеленым голубым черным евреем-христианином-мусульманином»[34]. Герой романа, молодой ленинградский историк Юлий Гольдштейн (как выясняется в дальнейшем, двоюродный брат Вени Язычника) попадает в Юденшлюхт благодаря стипендии от фонда «Kulturbunker e.V.». Как и «Жидятин», «Новый Голем» наполнен иронической игрой в амбивалентность и зеркальность: для получения гранта, по условию предназначенного исключительно для женщин, Гольд- штейну приходится принимать женский облик всякий раз, когда он возвращается в свой бункер. Там он встречает своего двойника, переменившую свой пол на мужской американскую студентку Джулию Голдстин, которая тенью сопровождает Гольдштейна при всех его перемещениях. В центре интриги этого романа, который может восприниматься как пародия на триллер, находится тайна глубокого бункера, уцелевшего при бомбардировках Второй мировой войны. В глубине этого «еврейского ущелья» скрыта та самая волшебная глина, из которой в XVII веке пражский раввин Магарал слепил Голема и за которой сегодня охотятся спецслужбы США и России.
Как и в «Полуострове Жидятине», пространство «Нового Голема» разделено надвое. Карнавальной реальности новой Европы противопоставлен сохраняющий прошлое подземный мир, населенный истребленными с земной поверхности евреями. Позиция Европы по отношению к евреям сформулирована одним из персонажей романа в духе концепций радикальной ассимиляции XIX века: «...наивысшей пользой и защитой для евреев было бы их полное исчезновение! Тогда бы им уже ничего не грозило <...> Еврейство бы стало таким же полноценным наследием Западной Цивилизации, как и античность, и евреев, эту ушедшую шеренгу мудрецов и героев, все бы любили — никому же не придет в голову ненавидеть древних греков и римлян...»[35]Свободная от евреев Европа почувствовала себя более комфортно и с радостью приняла новую власть «Римской Империи Американской Нации», однако ценой этого комфорта оказалась утрата собственного европейского подсознания, ибо, как замечает рассказчик, «подсознания у американцев нет и никогда не было. У европейцев оно было, с конца XIX века до середины двадцатых годов, потом его начисто вылечили»[36]. Попасть в подземный «еврейский» мир, метафорически связанный с утраченным европейским подсознанием, можно через скрытые разломы в земной поверхности, такие как Юденшлюхтский бункер или петербургское еврейское кладбище. Под землей еврейские души «ртутными шариками укатываются по перепутанным трещинам и кротовьим проходам земли, лужицами и озерцами стекаются к подкладбищенским полостям <... > чтобы медленно течь дальше — под самый под Иерусалим», где, «разобравшись по родам и коленам», они ожидают «растворения недр и поименного вызова»[37].
Надземный и подземный миры различаются скоростью и направлением течения времени: «Еврейское время все медленнее, а нееврейское — все быстрей; все с большей скоростью размельчаются еврейские души — на половинки, на четвертушки, осьмушки, шестнадцатые <...> на многие тысячи тел едва-едва собирается одна хиленькая, с трудом вспоминающая дарованье скрижалей душа — поэтому все медленней и медленней дополняется Собранье Израиля»[38]. Христианское же время, по которому живет «победоносная часть» человечества, движется поступательно вперед, поскольку «христианская цивилизация связала ритм жизни человечества с ритмом жизни человека»[39], и лишь на короткий промежуток между Рождеством и Новым годом в этом поступательном течении времени наступает зазор. В этот короткий интервал открывается «межвременная щель», своего рода проблеск конца света, представляемого не как момент, а как процесс, размыкающий автоматическую связь между человеком и человечеством (источником этого образа послужили Юрьеву дневники Якова Друскина). Однако еврейство у Юрьева не является абсолютной данностью. Разделение на евреев и неевреев может быть навязано окружающим обществом, а может стать результатом собственного выбора какой-то группы людей. Такое еврейство по выбору как маркер различения и избранности принимает различные формы в зависимости от эпохи и культуры, но Юрьева занимает реализация еврейства в русском контексте. В главе «Двадцать граней русской натуры» содержится важное для понимания этой концепции утверждение, сформулированное рассказчиком в присущей Юрьеву иронической манере: «У русских и евреев вообще очень много сходных качеств (за вычетом разной конфигурации ума и инстинкта) — в первую очередь из-за того, что и русские, и евреи не народ, не раса, не культура, а нечто вроде отдельного человечества, внутри которого много народов, рас и культур. Им бы и жить на отдельных планетах»[40].
Действие романа «Винета», завершающего трилогию, происходит на рубеже нового тысячелетия в балтийском морском пространстве между Россией и Германией. Вениамин Язычник, повзрослевший и загрубевший в перипетиях девяностых годов, спасается от преследующих его петербургских бандитов на рефрижераторном судне «типа "Улисс"», везущем из Петербурга в Любек замороженные трупы, которые на поверку оказываются живыми людьми, стремящимися, как и он, убежать от ужасов российской действительности. При этом настоящая цель Язычника — найти легендарную Винету, предмет его кандидатской диссертации, «сказочно богатый славянский город на Балтийском море», по преданию, затонувший у берегов Германии где-то в начале второго тысячелетия в результате осады «народами низкого культурного уровня, но большой алчности» — датчанами, немцами и поляками. На корабле Язычник встречает своих одноклассников и как бы возвращается в свое советское прошлое, знакомое нам по «Жидятину». Среди встреченных им людей из прошлого оказывается и его покойный отец, капитан израильской подводной лодки «Иона-пророк алеф бис», погибший десять лет назад при выполнении секретного задания. В отличие от обычных, еврейские подводные лодки плавают в основном не под водой, а под землей, «по извилистым подземным проходам, по светящимся пещерным озерам, по страшным голубым рекам, выводящим отовсюду под Иерусалим, в огромное подскальное море под Масличной горой»[41]. По пути эта подводная лодка подбирает разных «жидовских людей», пробирающихся трудными подземными путями в Иерусалим, — русских субботников, судетских гномов и жидятинских цыган. Наступление нового тысячелетия возвращает героя в Петербург, мифологический двойник Винеты, соединенный с ней, как показал Язычник в своей диссертации, «по принципу ленты Мёбиуса»: «Собственно, мы даже можем сказать, что в конечном итоге Петербург — это и есть Винета, а Винета есть Петербург...»[42] Цикличность времени в романе обозначена обретением Винеты и одновременным возвращением в Петербург в момент наступления нового тысячелетия, то есть на исходе того самого «межвременного зазора», который был описан в «Новом Големе».
В интервью Валерию Шубинскому Юрьев объясняет свой интерес к еврейской теме преимущественно этическими соображениями: «Скажу сразу, прямо и определенно: еврейская тема для меня — ничто. Как, впрочем, и любая другая тема. Тематически я не мыслю. Надеюсь, что в моих сочинениях я мыслю образами, что от меня, собственно, и требуется. Другое дело, что моим происхождением, моей биографией, моими в том числе залитературными интересами мне предложен был в изобилии "еврейский строительный материал". Уклониться от него означало бы (в свое время) сознательно уклониться от того, что тебе по обстоятельствам исходно дано, причем по причинам, которые могли быть только низкими и стыдными»[43]. Само понятие «русско-еврейская» литература для Юрьева лишено смысла, так как, по его словам, литература полностью определяется языком: «Все равно ведь все расписывается по структурам общерусской литературы»[44]. Однако такая позиция, при всей ее определенности, не отвечает полностью на заданный вопрос. «Еврейская тема» в романах Юрьева — безусловно, нечто большее, чем просто «строительный материал», состоящий из знакомого по жизни советского еврейского быта и почерпнутых из книг знаний о еврейской культуре. Еврейский миф, наряду с петербургским, служит несущей опорой для замысловатых литературных конструкций в прозе Юрьева. Этот миф содержит языковые, исторические, религиозные пласты, позволяющие создавать особое, нелинейное пространство и время. Он объединяет как самых обычных ассимилированных советских евреев, так и всевозможных экзотических «жидят», соединяет живых и мертвых, настоящее и будущее. Этот миф продолжает жить в европейском подсознании, несмотря на то что Европа, казалось бы, это подсознание давно утратила. Еврейский миф выходит на поверхность из глубин прошлого в моменты перелома, когда иллюзия линейного течения времени нарушается. Именно в этот исторических момент «расхождения межвременной щели» становится видимым другое, «еврейское» время, где настоящее не разделяет, а замыкает прошлое и будущее. Это время сложным образом связано с концом света, представляемым не как момент, а как процесс, «с собственной сложной структурой подъемов и спадов»[45]. Трилогия Юрьева зафиксировала один из таких спадов, случившийся в России и Европе между 1985 и 2000 годами. Нелинейная фактура времени в романах отражает его эстетическую позицию по отношению к модернизму и постмодернизму. В своем блоге на сайте проекта «Новая камера хранения» Юрьев определяет себя как одного «из усердных употребителей понятий «новый или второй модерн»»[46], которое он противопоставляет постмодернизму. «Второй модерн» для Юрьева - «это еще одна попытка осуществить исторически недоосуществленное на новом антропологическом материале — т.е. на нашем»[47]. Тем самым «второй модерн» эстетически продолжает «первый», обращаясь к нему через всю советскую эпоху, которую Юрьев определяет как «второй XIX век», насильно вторгшийся в течение времени и прекративший естественное развитие модернизма. Возводя свою литературную генеалогию к петербургскому модерну первой половины ХХ века, Юрьев отностится к мифу как к основе всякого творчества, что отличает его от постмодернистских авторов, использующих мифологические элементы для литературной игры. Игра для Юрьева не цель, а средство, художественный прием, вовлекающий читателя в диалог с автором. При этом Юрьев всеяден в отношении используемого культурного материала, от советских шлягеров до «Улисса», от подросткового жаргона до высокой поэзии. В каждом предложении присутствует цитата, аллюзия или параллель, что придает его текстам живость и глубину. Но за всем этим стоит попытка художественного воссоздания — а не только отражения — действительности, раскрытия ее глубинных смыслов, недоступных линейному, «декартовому» мышлению.
ЗАОЧНАЯ ПАМЯТЬ АЛЕКСАНДРА ИЛИЧЕВСКОГО
Нелинейность является одним из определяющих свойств прозы Александра Иличевского. Первый роман Иличевского, «Нефть» (выходивший также под названиями «Мистер Нефть, друг» и «Solara»), построен на материале семейной истории автора, хотя его героя, подростка по имени Глеб, нельзя назвать двойником автора. Иличевский заставляет читателя самостоятельно выстраивать смысл происходящего, вылавливая и сопоставляя детали из фрагментов повествования. Рассказчик, по его собственному признанию, «всегда отличался ненормально взвинченной психосоматической реакцией»[48], и эта психическая неуравновешенность усугубилась преследованием со стороны родственников. Все это делает его историю путаной и непоследовательной; явь перемежается со снами и фантазиями, что, по-видимому, должно отражать его внутреннее переживание распадающегося исторического времени. В этой ситуации распада реальности единственной точкой опоры для автора становится семейная история, и даже не сама по себе история, а возможность писания о ней: «Сама история, если внимательно ее размыслить, не так уж и важна, поскольку она — кульминация и развязка, — и, как и все взвинченное и мгновенное, отчасти бессмысленна; но вот то, что ввело меня в нее, и то, благодаря чему она стала возможна как случай, мне самому представляется существенным и вполне достойным изложения»[49]. В писании для рассказчика важен не результат, который может существовать отдельно от автора в качестве книги, а сам процесс, посредством которого он восстанавливает свое «я». Писание позволяет остановить «осыпание действительности», зафиксировать себя во времени и пространстве.
Подобно своим героям, Иличевский занят поисками и реконструкцией своей литературной генеалогии, ведущей через метаметафоризм Алексея Парщикова к футуризму Велимира Хлебникова. Ключевую роль в этом поиске играет метафора, воспринимаемая не просто как литературный инструмент или прием (Иличевский не включает в свою генеалогию формалистов), а как принцип построения текста и «мощнейший инструмент познания». Через «управляющую смыслом» метафору автор стремится установить «телескопическое сродство» между природой, цивилизацией и человеком[50]. Яркой иллюстрацией этого художественного метода служит метафора нефти, объединяющая два романа, использующие автобиографический материал, «Нефть» и «Перс». Нефть выступает в этом истолковании как тройственная «метаметафора» источника в магическом, биологическом и психологическом смыслах: это «вариант "философского камня", превращающего что ни попадя в золото — деньги»[51](отсюда, по Иличевскому, вытекает вся экономика, основанная на семиотической операции «подмены» реальной ценности денежным знаком); это питательная среда, в которой зародились и развились первые микроорганизмы и с помощью которой они вышли на поверхность земли»; и, наконец, это «спрессованная злая воля, сумеречный первобытный мозг, звериная злоба»[52].
Прозу Иличевского можно читать как развернутый комментарий к стихотворению Парщикова «Нефть». Стихотворение Парщикова завершается пророчеством, задавшим Иличевскому направление для поиска нового человека и новых общественных форм, результатом которого и стал цикл из четырех романов:
Нефть — я записал, — это некий обещанный человек,
заочная память, уходящая от ответа и формы,
чтобы стереть начало...
«Любое открытие» — пишет Иличевский в своем анализе этого стихотворения — «осуществляется на деле как событие припоминания». Функция памяти заключена в самой структуре пространства, его топологической конфигурации, и текст — как «акт сознания» — является одновременно актом припоминания[53]. Мифогенный потенциал метафоры нефти как «заочной памяти» конца времен разрабатывается Иличевским в посвященном Парщикову романе «Перс», во многом продолжающем и развивающем темы романа «Нефть». Связь между ними подчеркнута общей семейной фамилией Дубнов, напоминающей о знаменитом российском еврейском историке и приверженце концепции «национально-культурной автономии» евреев в диаспоре. Рассказчик, геолог Илья Дубнов, в начале 1990-х эмигрировавший в Америку и вернувшийся в начале нового тысячелетия из Калифорнии в Москву, «сердце моей неведомой родины», отправляется в Азербайджан на поиски своего друга детства, иранца Хашема, бежавшего вместе с матерью в советский Азербайджан после гибели отца, офицера шахской тайной полиции, во время Исламской революции. Герои «Перса», как и трех других романов — «Матисс», «Математик» и «Анархисты», объединенных Иличевским в «квадригу», — своего рода «дауншифтеры», успешные в прошлом мужчины, которые прошли через внутренний кризис, отказавшись от карьерных устремлений и найдя свой собственный путь. Выбранный героем вариант пути определяет не только сюжет, но и стилистику и композицию романа. Для Дубнова этот путь ведет через возвращение в детство на пропитанном нефтью Апшеронском полуострове, что отражается в рекуррентной структуре текста, на каждом новом витке возвращающем читателя к определенным ключевым эпизодам и образам из детства и юности героев. Детство как исток жизни и источник памяти метафорически смыкается с нефтью: «Детство еще очень близко к небытию и потому, наверное, счастливо, что удалось сбежать от небытия. Теперь детство так далеко, будто и не существовало»[54].
Хашем воплощает для Дубнова путь от цивилизации к природе. Отказавшись от скромных благ, которые он мог получить в независимом Азербайджане как «единственный на всю республику переводчик и исследователь американской поэзии»[55], он создал небольшую анархистскую коммуну в заброшенном ширванском заповеднике. Там ему удалось воссоздать вымышленную реальность, подобную Голландии Уленшпигеля, в которую они играли в детстве вместе с Ильей. Тогда реальность воображаемого мира открылась им на занятиях в детской театральной студии «Капля» под руководством Льва Штейна, «бесстрашного солдата культуры в провинциальном Баку», познакомившего их с фигурой Хлебникова — «С этого-то все и началось». Фигура Штейна, неудачливого еврейского интеллигента-инженера, приехавшего в Азербайджан по распределению и нашедшего свое призвание в детском театре, наделена определенными чертами Александра Гольдштейна в его бытность в Баку. Это сходство проявляется в круге чтения: «...взахлеб Сартр, Камю, роялистского Солженицына отставить, взяться за самиздатных Шестова, Бердяева, Кьеркегора, пропесочить Белинкова, обожествить Олешу, разрыдаться над Поплавским, написать инсценировку по "Столбцам" и "Старухе", погрузиться в "Письма к Милене"»[56]. Как и Гольдштейн, Штейн мрачно оценивает свое положение: «Что ж обижаться на местожительство, провинция повсюду. Москва, Ленинград — всё провинция. С точки зрения цивилизации страна не существует уже многие десятилетия»[57]. В терминологии Евгения Штейнера, Штейн представляет собой «парасоветский» тип, создающий свой собственный воображаемый мир в вязкой и мрачной советской провинциальной среде. Если Штейнер относился к авангарду чисто эстетически, то для Штейна авангард — это «капля отравы — капля надежды на авангард, на безумие творчества. На то, что где-то в абсолютной, неожиданной абстракции, как здесь, в этом для Штейна одновременно родном и пронзительно чужом южном городе, некогда оплодотворенном пророком авангарда — Хлебниковым, зародится нечто осмысленное и жизнеспособное, нечто отличное от наследия симулянтского слоя и его впитывающего амальгамического подполья»[58]. Образ зарождения нового смысла в «симулянтском слое» и «амальгамическом подполье» возвращает воображение читателя к обобщающей метафоре нефти как среде зарождения новой жизни из остатков прежней.
От Штейна Илья и Хашем узнают о Баку двадцатых годов, городе, где жили Хлебников, Есенин, Вячеслав Иванов, Блюмкин, о советском шпионе Абихе, оставившем ценный «персидский» архив материалов Хлебникова. Впоследствии этот архив оказывается источником вдохновения для Хашема, а Хлебников становится его ролевой моделью — «роль должна нащупать его откровением». В свою очередь, учителем Хлебникова был бакинский цадик, каббалист Меюхес (на иврите — «человек знатного происхождения»), раскрывший русскому поэту религиозный смысл творчества: «Тора — не венец, не инструмент, Тора ради Торы, Господь на вершине Синая сидит и изучает Тору. Я хочу заглянуть ему через плечо»[59]. Каббала в интерпретации Меюхеса сближается с учением хуруфитов, средневековой исламской секты, обожествлявшей язык, слово и поэта. Вера в то, что «язык сильнее разума и власти», перешла от средневековых еврейских и исламских мистиков в теургическую концепцию авангарда и снова ожила на руинах советской империи. Мотив возвращения к «истоку», первоначальному моменту, лежащему за пределами знания и восприятия как отдельного человека, так и всего человечества, принимает в романе различные формы, от увлечения авангардом до занятий биоинформатикой. Стремление Дубнова оживить утраченный мир детства отражается и в его научном интересе. Он надеется найти в глубинных пластах бакинской нефти следы первичного генома, «Божьего семени» и «общего предка всего живого», того «избранного организма», который дал своими бесчисленными комбинациями начало всему многообразию живых форм. Поиск этих следов стал новым «вектором его жизни», приведшим его сначала в Россию, а потом на Апшерон, «первое на планете место промышленной добычи нефти»: «Нет больше места на земле, где существовали бы в течение многих веков нефтяные алтари. <...> Я жил среди нефти и слышал ее, я знаю, что нефть — зверь. Самый огромный страх детства — пожар в Черном городе — стоял у меня перед глазами. Нефть сочилась из недр в предвосхищенье войны...»[60] Нефть определяет городскую мифологию Баку, его прошлое, настоящее и будущее: «Древность и нефть, богатство и нефть, промышленность и нефть, великое опасное море, усыпанное искусственными островами, одолеваемое промыслом; золотое дно Каспия, легенды о гигантских подводных опрокинутых чашах, передвигающихся по дну моря вместе с буровыми установками»[61]. Нефть соединяет начало жизни героя с началом жизни на земле, и она же, по Парщикову, связана с образом «некоего обещанного человека», воплотившегося в романе Иличевского в Хашеме.
Хашем пытается возродить суфийский вариант ислама, с тем чтобы «предъявить ценности, способные противостоять шариату»[62]. Эклектическое учение Хашема включает остатки переживших советскую власть в далеких углах Азербайджана дервишских практик, переработанный для экспорта восточный вариант мировой революции, который пытались внедрить в Иране Блюмкин и Хлебников, а также охрану уникальной доледниковой природы Ширвана от разрушения и расхищения со стороны развращенной нефтью цивилизации. Для реализации своего плана Хашем создал в заброшенном Ширванском заповеднике «Апшеронский полк имени Велимира Хлебникова», совместив функции духовного учителя и полевого командира. Сверхзадача этого предприятия — «столкнуть вечность со временем»[63], как это завещал Хлебников в радикальной интерпретации Штейна: «Задача Хлебникова — весь мир превратить в авангард. Так — авангардом — обогнать время и им завладеть»[64]. Для Дубнова Хашем предстает «законченным героем некогда оборвавшегося и позабытого, но сейчас продолженного действа»[65], и одновременно реинкарнацией Хлебникова: «…передо мной сидел воскресший Хлебников. Никаких сомнений. Это был оживший и окрепший, исполнивший многие свои предназначения, какие не успел при жизни, Велимир Хлебников собственной поэтической персоной. Я вспомнил Штейна, давшего неимоверное задание своему талантливому ученику, и поежился»[66].
Столичному «вскормленному нефтью» Баку пространственно и концептуально противопоставлен пограничный Ширван, своего рода восточный аналог Жидятина и Юденшлюхта:
Здешнее пограничье всегда было особенным. Зажатая между горами и морем, эта полоска империи находилась в особенном состоянии — напряженном и возгонном одновременно, как жидкость у поверхности находится в состоянии постоянного возмущения испаряемыми потоками и осадками — и вдобавок стянута незаметным, но мощным поверхностным натяжением. Здесь жили сосланные сектанты — молокане, субботники, геры, духоборы; с ними сосуществовали и добровольные изгои, по призыву собратьев прибегшие к убежищу тучной отдаленности. Жили они тут будто на выданье, грезя об Иерусалиме за горами, и многие уходили, пройдя райскими устами Мазендерана в материнскую утробу. С сектантами соседствовали казачьи заставы, чье население к началу двадцатого века было давно укоренившимся. В советское время все эти места были охвачены погранзоной с особым режимом допуска, тремя КПП, обеспечивавшими заповедность[67].
Ширван, как и пограничные локусы у Юрьева, изоморфно связан со Святой землей — «Ширван, собственно, был для Хашема скрижалью. Карту древнего Израиля Хашем переносил на Ширван контурным методом»[68]. Но в отличие от чешско-немецкого пограничья в самом центре новой европейской провинции американской империи, граница между Азербайджаном и Ираном отделяет далекого и ненадежного вассала Америки от ее врага. Эта граница открыта для птиц, главного достояния Ширванского заповедника, чьи подробнейшие описания занимают десятки страниц «Перса». Птицы, метафорически воплощающие идею небесной свободы, противопоставлены нефти и земле. Персия/Иран, «Новый Свет для русских колумбов», куда течет главная русская река Волга, наделена в мифологии романа двойственным смыслом, представляя одновременно смерть и свободу. В далеких горах обитает антипод Хашема по прозванию Принц, за которым угадывается Осама Бен-Ладен, лидер исламского фундаментализма, одного из последствий нефтяной лихорадки. Аналогом утопической Винеты у Иличевского служит древняя Хазария, защищенное со всех сторон убежище гонимых евреев: «Страна была желанной и неприступной, как иная дева. Или — тайна, что наследует смерти. Иудеи, бежавшие из Персии, священно правили ею, призвав Бога Израиля, Бога отцов их, на охрану и во благо своего нового прибежища. Царь и народ вняли призыву. В половодье протоки меняли русла. Моряна внезапно гнала в камышовые дебри волну со взморья — на погибель. Страна плыла, менялась вместе с дельтой, как рука, пытающаяся удержать горсть песка, то есть время. Для чужаков страна была неприступна, будто призрак»[69]. Обращение к популярному хазарскому мифу позволяет Юрьеву и Иличевскому образно передать амбивалентность положения евреев Евразии как одновременно исконных жителей региона, но при этом всегда отчужденных от массы населения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Распад СССР изменил не только политическую географию мира, но и личное ощущение своего места у каждого жителя этой бывшей страны. Каждый пишущий по-русски литератор, независимо от своего постоянного или временного местожительства, пытается заново определить свое положение во времени и пространстве. Агрессивная Москва, с ее претензией на верховодство в новом постсоветском «русском мире», вызывает отторжение у писателей, пытающихся художественно осмыслить новую пространственную конфигурацию, в которой границы русской культуры не совпадают с границами Российской Федерации. Герой-рассказчик «Перса» Дубнов возвращается в Москву после долгих лет, проведенных в Калифорнии и Израиле: «Москва — сердце моей неведомой родины. Призрак империи страдает фантомной болью. Боль эта взаимная, и оторванные ударом истории колонии тоскуют по целости. Здесь почти всегда вы на ровном месте — в любой области жизни, будь то культура, общество, наука, мыслительный процесс как таковой — сталкиваетесь с препонами, которые из-за своей непроницаемости выглядят сначала злостными, затем комическими и, наконец, зловещими»[70]. В петербургском мире-мифе Юрьева Москва служит средоточием художественной эклектики и безвкусия на грани безумия: «У меня вот был один знакомый писатель когда-то, из Москвы, так он себе целью поставил объединить, в художественном смысле, конечно, Кафку и Зощенко. И знаете, что вышло? — Кащенко!»[71] Характерно, что интеллигентный ленинградский юноша, к которому обращена эта шутка, «не будучи москвичом, бонма не просек»[72]. Персонажу Юрьева вторит Хашем у Иличевского: «Москва грузный город, слепой. В Питере горизонт с любой улицы видно»[73]. Для Гольдштейна и Иличевского, выходцев с южной советской окраины, Москва представляет собой колониальный имперский «фантом», одновременно притягательный и отталкивающий. Все три писателя противопоставляют «грузной и слепой» Москве иронически романтизированный «детерриториализированный» «парасоветский» еврейский хронотоп. Не случайно русской литературе не удалось создать «еврейский миф» Москвы, несмотря на то что Москва была самым крупным и динамичным еврейским центром СССР. Некоторой компенсацией может служить «слободской» миф еврейских пригородов — Черкизова, Останкина, Марьиной Рощи, Томилина, — возникших вокруг исторической Москвы с появлением еврейских беженцев в начале Первой мировой войны и разросшихся в первые годы советской власти. На русском языке этот миф лучше всего воплощен в рассказах Асара Эппеля, герои которых редко попадают в совершенно чуждый им центр города, а также в романе Юрия Карабчиевского «Жизнь Александра Зильбера». Именно бывшая советская периферия активно порождает метафорические и символические конструкции «еврейского» хронотопа.
[1] Автор признателен Олегу Юрьеву и Алексанру Иличевскому за замечания и поправки к тексту статьи.
[2] Yurchak A. Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation. Princeton: Princeton University Press, 2006. P. 31—32.
[3] Ibid. P. 31—32.
[4] Рубина Д. Ни жеста, ни слова // Вопросы литературы. 1999. № 5/6 (http://www.dinarubina.com/interview/nizhe-stanislova.html).
[5] Neue Zurcher Zeitung. 2010. 1 Jan. S. 19.
[6] Yurchak A. Everything Was Forever. P. 31—32.
[7] Членов М. У истоков еврейского движения. Интервью Polit.ru. Опубл. 18 мая 2011 г. // http://www.polit.ru/article/201l/05/18/chlenov/.
[8] Там же.
[9] Звенья. 1992. № 6. Перепечатано в тель-авивском журнале «Зеркало» (2009. № 33 (http://zerkalo-litart.com/?p=3042)).
[10] Там же.
[11] Там же.
[12] Там же.
[13] Гольдштейн А. На ту же тему // Звенья. 1992. № 7. Перепечатано в журнале «Зеркало» (2009. № 33 (http://zerkalo- litart.com/?cat=38)).
[14] Там же.
[15] Гольдштейн А. Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики. М.: Новое литературное обозрение, 1997. С. 373—374.
[16] Бабель И. Одесса // Он же. Сочинения. Т. 1. М.: Художественная литература, 1991. С. 65.
[17] Гольдштейн А. Конец одного пантеона // Знак времени. 1992. № 2. Перепечатано в: Зеркало. 2009. № 33 (http://zerkalo-litart.com/?p=875).
[18] См.: http://hu.tranzit.org/en/event/0/2011-10-14/lecture-david-chinoi-moore-v....
[19] Гольдштейн А. Спокойные поля. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 58.
[20] Гольдштейн А. Три дарования // Петрова А. Вид на жительство. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 9—10.
[21] Гольдштейн А. Огорчительны нападки на слово // Open Space.ru. 22.07.2011 (http://os.colta.ru/literature/projects/175/details/23768/).
[22] Brodsky J. The Condition We Call Exile // Idem. On Grief and Reason: Essays. New York: Farrar Straus Giroux, 1995. P. 27.
[23] Ibid. P. 30.
[24] Гольдштейн А. Расставание с Нарциссом. С. 375.
[25] Гольдштейн А. Спокойные поля. С. 77.
[26] Гольдштейн А. Помни о Фамагусте. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 20.
[27] Там же. С. 20.
[28] Там же. С. 20—21.
[29] Юрьев О., Шубинский В. Сопротивление ходу времени // НЛО. 2004. № 66. С. 240—241.
[30] Юрьев О. Винета // Знамя. 2007. № 8. С. 7.
[31] Там же.
[32] Шубинский В. Часть или целое? Евреи и еврейство в книгах Олега Юрьева // Народ книги в мире книг, 77 (декабрь 2008) (http://narodknigi.ru/journals/77/chast_ili_tseloe_evrei_i_evreystvo_v_kn...).
[33] Юрьев О. Новый Голем, или Война стариков и детей: Роман в пяти сатирах. М.: Мосты культуры, 2004. С. 119.
[34] Там же. С. 37.
[35] Там же. С. 235.
[36] Там же. С. 49.
[37] Там же. С. 85.
[38] Там же. С. 85.
[39] Там же. С. 91.
[40] Там же. С. 146.
[41] Юрьев О. Винета. С. 72.
[42] Там же. С. 85.
[43] Юрьев О., Шубинский В. Сопротивление ходу времени. С. 237.
[44] Там же. С. 238.
[45] Юрьев О. Новый Голем. С. 93.
[46] Юрьев О. К попытке реабилитации понятия «постмодернизм», предпринятой Владиславом Кулаковым // Блог Олега Юрьева. 26.02.2010 г. (http://www.newkamera.de/blogs/oleg_jurjew/?p=1153).
[47] Там же.
[48] Иличевский А. Бутылка Клейна. М.: Наука, 2005. С. 298.
[49] Там же. С. 278.
[50] Эту мысль Иличевский высказывает применительно к поэзии Парщикова: Дробязко Е. Алеша тихо улыбнулся // Topos. ru. 24.05.2012 (http://www.topos.ru/article/bibliotechka-egoista/alesha-tikho-ulybnulsya).
[51] Иличевский А. Бутылка Клейна. С. 245.
[52] Там же. С. 246.
[53] Иличевский А. Прочтение. «Нефть» //https://sites.google.com/site/alexanderilichevsky/esse/dozd-dla-danai.
[54] Иличевский А. Перс. М.: АСТ; Астрель, 2010. С. 60.
[55] Там же. С. 294.
[56] Там же. С. 312.
[57] Там же. С. 315.
[58] Там же. С. 315.
[59] Там же. С. 422.
[60] Там же. С. 100.
[61] Там же. С. 273.
[62] Там же. С. 189.
[63] Там же. С. 235.
[64] Там же. С. 322.
[65] Там же. С. 391.
[66] Там же. С. 502.
[67] Там же. С. 237.
[68] Там же. С. 355.
[69] Там же. С. 498.
[70] Там же. С. 24.
[71] Юрьев О. Новый Голем... С. 62.
[72] Там же.
[73] Иличевский А. Перс. С. 304.
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Интервью с Уильямом Сафраном, Робином Коэном и Йосси Шаином
(пер. с англ. А. Логутова)
«НЛО»: Редакция «НЛО» обращается к нескольким выдающимся специалистам в области транснациональных отношений и diaspora studies. Мы будем рады, если вы сможете ответить на несколько наших вопросов.
1
«НЛО»: Как бы вы могли вкратце обрисовать современное состояние диаспоральных исследований?
УИЛЬЯМ САФРАН: В глобальном масштабе диаспоральные исследования переживают расцвет: постоянно возникают новые курсы, семинары, институты и журналы, работающие в этом поле. Одна из очевидных причин — это рост количества людей, живущих в диаспорах, особенно в развитых странах. Диаспора — это проблемное явление как для социологов, так и для людей, принимающих политические решения. Традиционно термин «диаспора» применялся для описания ряда рассеянных по всему миру этнических или религиозных сообществ, покинувших свою родину, но сохранивших при этом осознание собственной коллективной культурной идентичности, желание культивировать ее на новом месте и устойчивую ориентированность на метрополию. В случае исторически «старых» диаспор (евреев, греков или армян) эта ориентированность нередко выражалась в мифологизированной надежде на возвращение на родину. Однако в последние годы понятие диаспоры настолько вошло в моду, что его стали распространять на самые разные ситуации, отношения и идентичности[1]. Примером подобного рода служит изменение представления о принадлежности к диаспоре: много лет назад диаспоральное состояние считалось нежелательным, оно ассоциировалось с изгнанием этнонациональной или религиозной группы, с утратой дома. В настоящее время в принадлежности к диаспоре часто видят сознательное проявление свободы, так что члены диаспоры, раньше «воспринимавшиеся как подозрительные личности, внутренние враги и лазутчики (strangers within the gates)»[2], стали объектом восхищения.
РОБИН КОЭН: Диаспоральные исследования заявили о себе в 1990-е годы как прежде всего исторический, социологический, антропологический и политологический проект. В их рамках были разработаны подробные таксономии, а также была продемонстрирована релевантность термина «диаспора» для обсуждения проблем миграции, социального многообразия и идентичности. В последнее время в эту традицию влились две новые группы исследователей: (а) «неореалисты» (пришедшие из области экономики и международных отношений), видящие в диаспоре инструмент развития общества, государственного строительства и лоббизма; и (б) гуманитарии широкого профиля, пытающиеся увязать диаспоральные исследования с проблематикой комплексной идентичности, культурного производства, гибридизации и постколониализма.
ЙОССИ ШАИН: За последние три десятка лет многие энтузиасты попробовали свои силы в области диаспоральных исследований. Когда я только начинал писать про эмиграцию и диаспоры, этот предмет еще не вызывал столь широкого интереса, а количество теоретических работ было и вовсе ничтожно. Моей первой целью стало определение этого поля и его границ в пределах политологии. Суть ранних теорий сводилась к постепенному отходу от традиционного использования термина «диаспора» исключительно для описания еврейского опыта, к попытке локализации феномена народов, живущих вдали от родины (независимо от ее государственного статуса) и представляющих в своих собственных глазах и в глазах соседей единое целое, связанное узами родства, невзирая на формальное гражданство.
Ключевым компонентом в понимании жизни диаспоры была идея родины. Затем следовали вопросы политической активности, благонадежности, идентичности, влияния на культуру страны проживания и других сообществ и т.д. С развитием теорий глобализации и изменением мирового порядка в конце 1980-х — начале 1990-х годов наступил расцвет диаспоральных исследований. Я помню, что, когда мы с моим другом Кэчем Тололяном основывали журнал «Diaspora», нас было всего несколько человек. Вскоре их [исследований] стало сотни, и тематика начала смещаться в сторону транснационализма.
Эра легких путешествий, быстрого обмена информацией и открытых границ, казалось, изменила природу человека, и суть этих изменений не вписывалась в готовые схемы. Мне кажется, что это привело к путанице терминов и лишило диаспоральные исследования последних остатков стройности. Но, в конце концов, базовые понятия Родины и Рода, однажды забытые, вернули себе центральное место в научном разговоре о диаспоральной политике. По мере того, как рос интерес к распаду государств, близкой загранице, мульти- культурализму и этническим лобби, поле начало ожидаемым образом расширяться и теперь задает ход развития исследованиям национализма. Вдобавок термин «диаспора» зазвучал особенно актуально после событий 11 сентября, когда многие государственные службы начали обращать внимание на потенциально враждебные популяции с транснациональными связями, действующие на их территории. Таким образом, диаспоральные исследования стали предметом интереса многих служб. И, наконец, вследствие того, что все большее количество стран стало беспокоиться о судьбе своих соотечественников, роль последних в экономическом развитии приобрела решающий характер, и мы наблюдаем бесконечные проекты диаспоральных исследований, которые спонсируются как университетами, так и государствами.
Короче говоря, диаспоральные исследования представляют собой взрывообразно и не всегда контролируемо развивающуюся дисциплину, оперирующую большими массивами информации, но лишенную четкой аналитической ориентации.
2
«НЛО»: У стороннего наблюдателя, оценивающего ситуацию из российского контекста, складывается впечатление, будто концептуальное поле diaspora studies как таковое уже сложилось, но понятийный аппарат для его осмысления еще находится на стадии становления, внутренние границы между различными аспектами изучения диаспор до сих пор не определены. Насколько верно такое впечатление или, наоборот, оно не соответствует истине?
У.С.: Это впечатление верно. Диаспора часто приравнивается к отсутствию государства, жизни в статусе беженца или иммигранта, к сознательной или вынужденной экспатриации, отчуждению, этническим или религиозным меньшинствам, космополитизму, несоответствию преобладающим социеталь- ным нормам в плане поведения или жизненного уклада. Диаспоральная самоидентификация (или «diasporicity») может служить метафорой утраты корней, культурного дискомфорта, социопсихологического вытеснения и вообще любой «другости». Иногда диаспора служит синонимом транснациональных настроений, ориентаций или взаимодействий, «мышления, преодолевающего границы». Все чаще и чаще диаспора используется культурологами (особенно постмодернистами) для обозначения индивидуальной идентичности или нового типа сознания, почти или совсем не укорененного в эмпирической или исторической реальности[3]. Диаспора может также служить литературным жанром, который часто связывается с постколониальными переживаниями — ностальгией или тоской, не обязательно направленными на предыдущую родину[4]. Очевидно, необходимые попытки остановить расширение понятия диаспоры и очертить его аналитические границы наталкиваются на его новомодность и популярность.
Р.К.: Нет, я скорее сравнил бы состояние парадигм диаспоральных исследований с совершеннолетием, а не с детством. Экзистенциальная тревога, свойственная подросткам, преодолена. При этом нельзя говорить и о зрелости поля. В пределах достигнутого консенсуса остаются пути для развития, что делает диаспоральные исследования очень перспективной научной областью.
Й.Ш.: Мой первый ответ применим и ко второму вопросу, поэтому сразу перейду к третьему.
3
«НЛО»: Обычно считается, что диаспоральное сообщество — это сообщество с твердой и последовательной установкой на закрытость, но насколько закрытыми можно считать реальные диаспоры? Можно ли приблизительно выстроить какую-либо «градацию» этой закрытости? Насколько вообще диаспоральное сообщество закрыто или открыто для соседних культур и этносов?
У.С.: Представление о стремлении диаспор к закрытости не подтверждается эмпирическими данными. Диаспоры отличаются от иммигрантских сообществ как таковых тем, что они склонны поддерживать особую этническую, религиозную и / или культурную идентичность. Кроме того, представители диаспор, в отличие от иммигрантов, постоянно находятся в конфликтных отношениях с принявшим их обществом. В то же время диаспоральные сообщества не могут быть герметично изолированы от общества; они скорее подстраиваются под его жизнь, заимствуют часть его характеристик и могут даже принять в себя представителей «местной» культуры. В результате своеобычные культурные образцы и институты, воспроизводящиеся в диаспоре, не являются точными копиями институтов и образцов, преобладающих в метрополии. Многое зависит от природы общества страны проживания. Открытость демократических и плюралистических институтов и относительная автономия гражданского общества, облегчающие меньшинствам задачу сохранения своей идентичности, одновременно способствуют большей проницаемости и открытости диаспор[5].
Р.К.: Мне кажется, что термин «закрытость» применим к немногим диаспорам — в том смысле, что, определяя себя, они довольствуются соотнесенностью с родиной или этнической принадлежностью. При этом полностью эндогенных диаспор не существует. Даже в славящейся своей «закрытостью» еврейской диаспоре доля смешанных браков превышает 50%. Диаспоральная идентичность — это всегда компромисс между идентичностью, ориентированной на происхождение, и идентичностью, сложившейся в месте проживания. Сторонники социального конструктивизма преувеличивают «искусственность» (made-up) диаспоральных идентичностей. Разумеется, эти идентичности нестабильны и нуждаются в дополнительной мобилизации, но средства для этого (язык, память, традиция, религия и исторический опыт) наследуются от предыдущих поколений.
Й.Ш.: Как я писал в нескольких работах, диаспоральная политика направлена прежде всего на элиты и организованные группы. Есть еще два многочисленных фоновых слоя: мобилизованная часть населения, лишь иногда занимающая активную позицию, и широкая группа, объединенная родственными связями (kin group), которую мы можем обозначить термином «диаспора»; оба этих слоя могут быть как реальными, так и воображаемыми. Чем выше степень сплоченности группы и число активных членов диаспоры, тем сильнее ее видимость и влиятельность, как с точки зрения самой группы, так и для стороннего наблюдателя. Если говорить о далеко разнесенных (far- removed) диаспорах, а не о группах, проживающих в соседних странах, и если они живут в свободных обществах и способны к самоорганизации, то их размер и степень близости между членами становятся критически важными. Но деятельность таких групп сильно зависит от устройства государств их проживания. Армяне в Турции сохраняют высокую степень близости, но при этом их влияние на околоармянские вопросы невелико по сравнению с их родичами в США и Франции. Еврейские группы связаны друг с другом по религиозно-этническим линиям (хотя в США это чувствуется меньше), а также благодаря антисемитизму, который способствует сплоченности. Безопасность народа — ключевой фактор близости.
Близость диаспоры к окружающим ее обществу и культуре зависит от свойств последних, степени их открытости или закрытости по отношению к другим (мигрантам, беженцам, меньшинствам). Самоопределение государства, в котором существует диаспора, — как дома только для доминирующей группы или для всех своих граждан (например, Германия), — а также эволюция этого самоопределения под действием геополитических факторов могут оказать разное влияние на сплоченность и институциональную организацию диаспоры. Эта проблема имеет множество компонентов, связанных с демографией и с отношениями между страной местонахождения и метрополией.
4
«НЛО»: Какова реальная или воображаемая связь диаспоры с метрополией? Каково взаимоотношение культур диаспоры и метрополии?
У.С.: Связь с метрополией может принимать разные формы. Их перечень в (приблизительно) убывающем порядке выглядит так: острое желание вернуться на родину; сохранение гражданства метрополии; участие в выборах или служба в армии в метрополии; частые поездки; крепкие семейные связи; сохранение родного языка и передача его детям; финансовая и политическая поддержка метрополии; поиск брачных партнеров в метрополии; желание быть похороненным на родине; сохранение отдельных элементов культуры, обычаев и этносимволов; знание этнонационального нарратива; сохранение сочувствия к событиям в метрополии.
Р.К.: Эти связи могут быть как реальными, так и воображаемыми, так как «метрополия» могла давно исчезнуть (Израиль), еще не сложиться (Палестина, Курдистан, Халистан) или же ее образ может не совпадать с ее реальными очертаниями (в африканском диаспоральном воображении «Эфиопия» занимает целый континент).
Й.Ш.: По поводу четвертого вопроса. Связи с метрополией могут варьироваться в зависимости от факторов, упомянутых мной выше. Если диаспора сохраняет культурную сплоченность и если связь с метрополией важна для обеспечения этой сплоченности, то, разумеется, взаимодействие остается активным. Впрочем, связи могут ослабевать или усиливаться в зависимости от обстоятельств. Если в обществе возникают гибридные культуры, постепенно разрушающие культурную близость с метрополией, то связи ослабевают. Например, американские евреи. Более 70% из них вступают в браки с неевреями, и само существование американо-еврейской идентичности оказывается под вопросом. Если прибавить к этому жизненную стабильность и спад антисемитизма, а также появление на символической израильской родине собственной самобытной культуры, то появляются все предпосылки для увеличения культурного разрыва. Тем не менее периодически возникающие угрозы безопасности, волны коллективных воспоминаний, а также призывы к возрождению старой идентичности со стороны метрополии могут расшевелить общество, на первый взгляд оторванное от культуры родины. [Это] две совершенно разные вещи! Создание общества «Таглит», привлекающего сотни тысяч молодых евреев, оторванных от своей исконной культуры, — это поразительное явление! Похожие проекты возникают по всему миру.
5
«НЛО»: С позиции живущих в диаспоре людей, она выступает как депозитарий культурных кодов, идеологем и ценностей, которые были присущи метрополии и теперь должны быть сохранены. Насколько это правдиво с точки зрения внешнего наблюдателя-антрополога?
У.С.: Это верно в «идеальном» смысле. В то же время здесь возможна проблема когнитивного диссонанса: культуры диаспоры и метрополии, их политические ландшафты и повседневные заботы постепенно отдаляются друг от друга. В особенности это верно в случае политической культуры и религии: диаспора может оказаться более демократичной, менее религиозной и более современной, чем метрополия. И наоборот: диаспора может служить хранилищем или заповедником ценностей, социальных образцов, нравов и прочих элементов национального культурного наследия, утраченных метрополией. Примерами такого рода могут быть СССР, нацистская Германия, коммунистический Китай и Тибет.
Р.К.: Культурные коды и все остальное, о чем вы говорите, подвержены существенным изменениям. В диаспоральных сообществах старые формы, ценности и нормы имеют тенденцию застывать. Очевидно, что царская Россия, СССР и Российская Федерация представляют собой принципиально различные культурные пространства: воспоминания и попытки воссоздания прошлого изменяются от поколения к поколению (а также от класса к классу и от региона к региону).
6
«НЛО»: Каким образом сообщество, в основе которого уже не лежат привычные категории территории / гражданства / национальной идентичности, выстраивает свою культурную идентичность и какие компенсаторные механизмы оказываются вовлечены в это производство идентичности?
У.С.: Диаспоральная идентичность может быть трансполитической и транстерриториальной. Тем не менее она может поддерживаться и «пространственными» методами: например, воспроизводством отечественных локусов, таких как «Маленькая Италия» в Нью-Йорке, «Маленькая Одесса» в Бруклине, «Маленькая Турция» в Берлине, баррио, чайнатауны и гетто во многих городах. В них концентрируются такие институты, как школы, общественные центры, храмы, а также площадки, где проводятся общинные фестивали, празднуются памятные даты или реконструируются события этнонациональной истории.
Р.К.: Посмотрим на этот вопрос с другой стороны. В мире насчитывается примерно 2000 «народов-наций» (национальностей, декларирующих желание создать государство) и 200 национальных государств. Так как весьма маловероятно, что все «народы-нации» добьются своего, они будут вынуждены жить в условиях детерриториализированной идентичности и обходиться без признания и поддержки международной государственной системы (прежде всего ООН). В таком случае на первый план выступают мероприятия и организации коммунитарного типа, а цементирующей силой в диаспорах становятся музыка, искусство, литература, танец, религиозный уклад, а также лоббизм и другие способы приумножения социального капитала (посредством налаживания связей, переговоров, митингов и т.д.). Государство — это далеко не единственный способ выражения общественной идентичности!
Й.Ш.: В шестом вопросе вы спросили про механизмы, обеспечивающие функционирование групп в условиях стирания традиционных границ. Иногда они очень малоэффективны (например, у американских немцев). Но иногда силы воспоминаний и институций оказывается достаточно, чтобы превратиться в нечто более глобальное. Шоа для евреев является важнейшим событием. Музей в Вашингтоне[6] и другие программы придают трагедии евреев более универсальный характер, не нарушая ее уникальности. Существенную роль могут играть также язык и религия, но безопасность и видение сообщества как его членами, так и аутсайдерами особенно важны! Споры в рациональном ключе могут даже привести к осознанию интересов еврейства! Посмотрите на жителей Восточной Европы последних двадцати пяти лет. Они спали, а затем проснулись. Также изменяется политика предоставления гражданства.
7
«НЛО»: Какую роль в жизни диаспор играют практики памяти? Каким образом передается эта память?
У.С.: Память важна, но она несовершенна и со временем ослабевает. Ее место занимает воображаемый образ метрополии, в основе которого лежит либо унаследованный, либо сконструированный / реконструированный нарратив, распространяемый через образование или ритуальные практики. Он подвержен селективной модификации в зависимости от жизненных условий и умонастроений конкретной диаспоры и ее членов. В этом воображаемом пространстве страна проживания воспринимается как дистопия, а метрополия, объект воображения, — как утопия[7]. Но в диаспорах встречаются и люди, лишенные четкого представления о метрополии и не испытывающие потребности в этом. Их членство в диаспоре оказывается под вопросом.
Р.К.: См. ответы на вопросы 5 и 6.
Пер. с англ. Андрея Логутова
[1] Safran W. Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return // Diaspora. 1991. Vol. 1. № 1. P. 83—99.
[2] Schnapper D. De l'Etat-nation au monde transnational: Du sens et de l'utilite du concept de diaspora // Les diasporas: 2000 ans d'histoire / Ed. par L. Antebi, W. Berthomiere et G. Sheffer. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2005. P. 25.
[3] Cohen R. Global Diasporas. London: University College London Press, 1997. P. 129—134.
[4] Gilroy P. It Ain't Where You're From, It's Where You're At: The Dialectic of Diasporic Identification // Third Text: Third World Perspectives on Contemporary Art and Culture. 1991. Vol. 5. № 13. P. 3—16.
[5] Safran W. Democracy, Pluralism, and Diaspora Identity: An Ambiguous Relationship // Opportunity Structures in Diaspora Relations / Ed. by G. Totoricaguena. Reno, Nevada: Center for Basque Studies, 2007. P. 159.
[6] Мемориальный музей Холокоста. — Примеч. перев.
[7] Bhabha H. The Location of Culture. London: Routledge, 1994.
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Гегемония без господства/диаспора без эмиграции: русская культура в Латвии
(пер. с англ. Н. Сафонова под ред. А. Скидана)
Кевин Платт
РУССКАЯ КУЛЬТУРА В ЛАТВИИ[1]
клей неудачный
и слегка изменен цвет глаз цвет волос рост
сильно не раскрывать
на границе делать честное лицо
и улыбаться
чтобы швы были не так видны
зато шикарное имя и фамилия
и подозрительно юный возраст
а водяные знаки такие
что можно вообще не дергаться
если кто-то не отрываясь смотрит тебе в лицо
Семен Ханин, 2009[2]
Колониальное государство в Южной Азии было совсем непохоже на породившую его буржуазную метрополию. Фундаментальная разница заключалась в том, что метрополия была по своей сути гегемониальной, с установкой на доминирование, которое основывалось на властных отношениях, где убеждение перевешивало принуждение, в то время как колониальное государство было негегемониальным, в его структуре господства принуждение перевешивало убеждение. Мы приходим к выводу, что уникальность южноазиатского колониального государства заключается именно в этом различии. Исторический парадокс — это была автократия, установленная и поддерживаемая на Востоке в первую очередь демократией Запада. Ввиду своей негегемониальности государство было неспособно ассимилировать в себя гражданское общество колонизированных. Поэтому за определение колониального государства было принято «господство без гегемонии».
Ранаит Гуха, 1997[3]
Несколько лет назад Ранаит Гуха описал положение подчиненного колониального населения в Индии (и, посредством этого, особенности последствий этого положения в постколониальном индийском обществе) в терминах зазора между локальными культурными образованиями подчиненного населения и политическими и культурными системами колониальной элиты. Так как легитимировавшие колониальное управление элитные культурные образования и их современные западные институты не распространялись на подчиненное индийское население, колониальное управление могло осуществляться только посредством нелигитимированного господства, «господства без гегемонии». В современной Латвии русское население, в частности значительная часть «неграждан» (категория, которую ниже я подробно разберу), во многих отношениях отстранено от официальных культурных и политических институтов современного общества — как от латвийских, так и, ввиду географической удаленности, от российских[4]. Тем не менее русскоязычные латвийцы подвержены экономическому и культурному влиянию со стороны Российской Федерации гораздо сильнее, чем обычные диаспоральные сообщества — со стороны своей исторической родины. Причина этому — как широкое распространение коммуникационных технологий, так и сознательная политика, например деятельность фонда «Русский мир», который масштабно финансировал культурную деятельность в ближнем зарубежье со времени своего основания в 2007 году[5]. В отличие от ситуации, которую описывает Гуха, российские социальные и культурные институты осуществляют в отношении русского населения Латвии «гегемонию без господства». Эта статья посвящена исследованию этого особого положения. Как мы увидим, термины постколониальных исследований применимы к ситуации на постсоветском пространстве и в постсоциалистической Восточной Европе лишь при предельном внимании к особенностям культурных и исторических траекторий, а эти последние довольно далеки от классического имперского контекста, изучавшегося исследователями вроде Гухи. Вместе с тем, сравнительное изучение этих разных примеров и методов, которые мы можем к ним приложить, приводит к важным результатам. Так, мое переворачивание формулы Гухи отражает ту степень унижения, которая для некоторых сообществ во многих отношениях сопоставима с описанными им колониальными конфигурациями власти.
I. ДОКУМЕНТАЦИЯ
После распада Советского Союза c официальными удостоверениями личности в Латвии началась сплошная морока. В 1990—1991 годах постсоветская Латвия была провозглашена законной наследницей Латвийской Республики межвоенного периода (1922—1940), конституция которой действует и сегодня. В результате гражданство на заре новой эпохи автоматически получили только граждане межвоенной республики и их потомки. Это поставило всех остальных жителей — а многие из них родились в Советской Латвии и отдали свои голоса за независимость на референдуме 1991 года — перед необходимостью пройти с самого начала плохо определенную процедуру натурализации. В 1995 году был разработан новый закон о натурализации, который довольно значительную группу бывших советских латвийцев помещал в категорию «nepilsonis», или «неграждане». На данный момент эта группа составляет около 15 процентов общего населения республики, причем большинство считает себя «русскими», хотя в нее входят и представители других национальностей[6]. Это соотношение объясняет, почему многие неграждане отказались от натурализации, выразив тем самым свое недовольство или протест. Звучит как полный абсурд, но дети латвийских неграждан тоже являются негражданами, иными словами, эта категория в своем теперешнем виде — перманентная характерная черта латвийского социального пейзажа; она не исчезнет в результате смены поколений. Русскоязычные латвийцы в своем неповторимом стиле, как правило, сокращают «негражданин» до «негр» — конечно, спорный в некоторых контекстах термин, но в данном конкретном случае это, бесспорно, ироничное самоуничижение.
Возмущение статусом неграждан периодически всплывает в СМИ Российской Федерации, в ее политическом дискурсе и дипломатической риторике. Нужно заметить, что медиапространство русскоязычного сектора Латвии не сильно отличается от российского. В России тоже можно столкнуться с терминологической путаницей относительно идентичностей жителей бывших советских республик. Владимир Путин в своем обращении к Совету Федерации в 2005 году назвал распад Советского Союза «крупнейшей геополитической катастрофой века», в результате которой «десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории»[7]. В российском политическом и публичном дискурсе понятие «соотечественники за рубежом» возникло в начале 1990-х, когда его официальное определение появилось в законе «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом». Этот закон предоставлял «соотечественникам за рубежом» особые права на перемещение, упрощение процедуры въезда и многие другие права. Кроме того, он обязывал государство защищать юридические, экономические и «культурные» интересы (использование языка, право на образование, историческое наследие) — в связи с чем прецедент с латвийскими «негражданами» стал все чаще оказываться в центре публичного внимания[8]. После вступления закона в силу в России, как и в соседних странах со значительным количеством этического русского населения, термин «соотечественники за рубежом» вошел в широкий оборот. Однако описывает он не столько понятие, сколько вихри понятийного замешательства, несмотря на самые благородные намерения юристов.
В публичной сфере, как в обращении Путина, термин в основном описывает русских, которые оказались вне «российской территории» после распада Советского Союза. Но официальное определение, исправленное уже несколько раз после вступления закона в силу, так и не смогло очертить ясные границы этой категории вследствие исторической «запутанности» русской этнической идентичности. В первой версии этого закона оно было в основном калькой словарной дефиниции «соотечественника» в свете статуса Российской Федерации как преемника Советского Союза — таким образом, всякий гражданин СССР, вне зависимости от этнической принадлежности, мог считаться «соотечественником за рубежом»[9]. Однако с тех пор в России возросла важность патриотической и этнической национальной риторики, а также увеличился приток и присутствие в стране нерусских (этнически) рабочих-мигрантов в связи с повышением благосостояния России и спроса на ручной труд. Это придало резкости политическому и публичному дискурсу вокруг эмиграции и, соответственно, вокруг соотечественников. Многие русские хотели бы облегчить процесс возвращения российского гражданства «хорошим соотечественникам», но в то же время ограничить и усложнить доступ для «неугодных» граждан бывших советских республик. Как правило, отношение выражается так: да русскоязычным латвийцам, нет узбекским рабочим-мигрантам (к примеру).
В период с 2006-го по 2009 год в закон о «соотечественниках за рубежом» было внесено несколько поправок, призванных сузить область применения этой категории. Но они не помогли избавиться от двусмысленности. Нынешняя редакция закона уточняет, что «соотечественники за рубежом» — это люди, живущие в других государствах, «относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации». Закон поясняет, как кто-либо может сделать этот «свободный выбор»:
Признание своей принадлежности к соотечественникам лицами, предусмотренными пунктом 3 статьи 1 настоящего Федерального закона, является актом их самоидентификации, подкрепленным общественной либо профессиональной деятельностью по сохранению русского языка, родных языков народов Российской Федерации, развитию российской культуры за рубежом, укреплению дружественных отношений государств проживания соотечественников с Российской Федерацией, поддержке общественных объединений соотечественников и защите прав соотечественников либо иными свидетельствами свободного выбора данных лиц в пользу духовной и культурной связи с Российской Федерацией.
Здесь мы можем заметить столкновение сложных социальных и этнических образований, унаследованных от советского и российского имперского прошлого, с современными проблемами «дезагрегирования» гражданства, наблюдаемыми в мировом масштабе[10]. Возвращаясь к вопросу относительно документов, с которого мы начали: несколько лет назад появился российский законопроект о разработке «Карты русского» для «соотечественников за рубежом», которая будет подтверждать особые привилегии ее владельцев и предоставлять им дополнительные права на работу, а также различные медицинские, образовательные и другие права, которыми обладают граждане России. Однако проект создания подобной карты породил почти бесконечные дебаты о подходящем определении понятия «соотечественники». Диапазон мнений простерся от явно неработающих концепций наследственной этнической принадлежности до идеи всеобъемлющей категории, включающей в себя всех говорящих на русском языке и идентифицирующих себя с русским народом на «культурном-духовном» уровне[11].
Все вышеизложенное говорит о том, что стихотворение русскоговорящего—еврея—латвийского поэта Семена Ханина, взятое мной в качестве эпиграфа, затрагивает больной нерв в вопросах гражданства, официальных документов и социальных идентичностей на постсоветской периферии. Отметим, что структура стихотворения затрудняет узнавание описываемого предмета, каковой является фальшивым документом, призванным затемнить идентичность. Можно добавить, что «Семен Ханин» — это псевдоним. Идентичность здесь словно бы спрятана, как в матрешке, балансирующей на международной границе лицом к лицу с контролирующими индивида государственными органами, которые не могут включить его в категории, способные придать смысл биографии и положению субъекта, сформированного историей и современными реалиями региона. Стихотворение Ханина проливает свет на тяготеющие над индивидуумами в этом регионе вопросы политических границ, географии, социальной и этнической идентичности и культурной принадлежности. Что значит быть русскоязычным латвийцем или русским в Латвии? Если границы Российской Федерации достаточно ясны, то где проходят границы «русской культуры»? Достаточно ли говорить по-русски и учить этому детей, чтобы считать себя русским в Латвии, или необходимо активно утверждать «свободу выбора духовной, культурной и правовой связи» с Российской Федерацией? И в каком положении это оставляет «русских», которые не выбирают такой связи, — может ли некто быть «русским» на какой-то особый, «прибалтийский» манер? Что значит продвигать русскую культуру в этом регионе «вне российской территории» или сохранять здесь русское культурное наследие — достаточно ли для этого писать стихи на русском? Нужно ли писать под своим настоящим именем? Должна ли эта поэзия существовать внутри установленных рамок узнаваемой русской поэтической традиции? Эта статья, являясь частью большого проекта по изучению русской культуры в современной Латвии, на конкретном примере позволит нам ответить на некоторые из этих вопросов.
II. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
Перед тем как перейти к центральной проблеме статьи, позволим себе шире посмотреть на положение русскоговорящего населения Латвии в целом. Сказанное выше позволяет понять, что термин «русский» невозможно использовать в Латвии без оговорок. В дальнейшем под «русскими» я буду подразумевать представителей разных слоев населения, для которых русский язык является родным в Латвии, безотносительно к этнической идентичности и отождествлению с населением или социальными идентичностями Российской Федерации[12]. Современные русские сообщества в Латвии формируются вследствие огромного числа самых разных обстоятельств: это и религиозные меньшинства, бежавшие сюда из-за гонений со стороны шведской Ливонии еще в XVII веке, и семьи, приехавшие в регион в эпоху Российской империи, и те, кто бежал из-за Октябрьской революции, чтобы осесть в межвоенной Латвийской Республике, и еврейские семьи с глубокими прибалтийскими корнями, для которых русский язык был родным на протяжении многих поколений. Все эти группы затмеваются, однако, как количественно, так и в общественном сознании, огромным количеством людей, осевших в Латвии в конце XX века вследствие мобильности населения и социально-инженерных решений советского государства. Поэтому Латвия представляет собой интересный пример для исследования процессов деколонизации, затрагивающих распад континентальной империи, оставившей после себя сообщества, которые она же сформировала. Стоит отметить отличие этой сложившейся демографической ситуации от ситуаций в бывших колониях мировых морских держав, которые рассматривались, в общем, в качестве парадигматических в постколониальных исследованиях последних лет. Современная Латвия, напротив, повторяет опыт восточноевропейских государств вроде Польши межвоенного периода первой половины XX века — государств, оказавшихся в крайне напряженной ситуации национального возрождения и вновь обретенной независимости, в которых тем не менее остались довольно крупные и давно сложившиеся сообщества меньшинств, причем одни из них были представителями доминировавших ранее этнических (и других) групп, а другие — представителями дополнительных недоминировавших имперских этнических (и других) групп.
Латвия — постсоветское государство с пропорционально наибольшим русским населением, «застрявшим» в республике после распада СССР. Согласно данным последней переписи, этнические русские составляют 27,9% населения, другие русскоговорящие, включая белорусов, украинцев, евреев и представителей других бывших советских этнических групп, составляют примерно еще 10%[13]. Необходимо добавить, что, в отличие от ранних постимперских государств, распавшаяся империя — в нашем случае СССР, — несмотря на все свое национальное строительство и одержимость документированием «национальности», была привержена светскому идеалу общей советской идентичности, что привело к широкому распространению смешанных браков между представителями разных этнических и национальных групп[14]. Имперские принципы построения русской идентичности на протяжении столетий проявлялись в поощрении смешанных браков и ассимиляции, но апогея эти тенденции достигли в сегодняшней Латвии, в особенности в Риге, где живет половина русскоязычного латвийского населения. На протяжении большей части своей истории Рига была имперской контактной зоной и мультиэтническим городом. Добавив к этому неоднократные политические трансформации и перемещения населения в XX веке, мы окажемся в сегодняшней Риге, где русские в значительной степени являются носителями этнически многосоставной генеалогии[15]. Отметим также, что по причинам, связанным с социальными и политическими преимуществами, этнически смешанные семьи в советские годы стремились к русскому языку и культуре, позволяя латышскому анклаву оставаться гораздо более этнически гомогенным. В результате возникло противостояние не только противоположных этнических идентичностей, но противоположных принципов конструирования этнической принадлежности — «эндогамных» и «экзогамных», если рассматривать эти термины не в качестве аналитически адекватных категорий, а как метафоры, схватывающие политически нагруженный вопрос формирования идентичности на этой территории[16].
И по масштабу, и по генеалогической сложности русского населения Латвия представляет собой наиболее яркий пример непростых социальных условий, которые по-разному и в разной степени проявляются во всем российском «ближнем зарубежье». Раз уж мы пришли к этому интригующему термину, стоит остановиться, чтобы отметить его концептуальную сложность — не менее замысловатую, чем у терминов, служащих для определения политической идентичности, которые обсуждались выше. В первую очередь, это оксюморонность конструкции, определяющей территорию как одновременно «близкую» и «далекую». Нынешняя Латвия воплощает эту географическую концепцию. С точки зрения России, она стоит в ряду самых «близких» мест — в территориальном, историческом, лингвистическом смысле, в плане экономических, социальных и семейных отношений, прокладывающих пути через границу. С другой стороны, это одно из самых «зарубежных» пространств — государство в составе Европейского союза, географически расположенное на западе и определяемое неславянской титульной нацией. Характеристика с сайта, посвященного российскому туризму в Риге, вероятно сильно отредактированная или вообще фиктивная, предлагает «типичное» описание Риги, какой она видится из России:
Тихо и спокойно. В старом городе башенки, соборы, базилики, извивистые улочки и тишина — проезд транспорта ограничен почти до полного запрещения. Вокруг туристы европейского вида — чинные и в то же время веселые, но культура... блещет. Никакого интернационала, гастарбайтеров, оборванцев в сланцах и прочих язв европейских столиц. Приятно. Чувствуешь себя дома, хотя вокруг фон из всевозможных европейских языков. Даже русские здесь какие-то рафинированные — не заговорит, и не поймешь, откуда. Вообще, обслуживающий туристов рижский персонал — это отдельная тема. Довольно молодые ребята и девчонки в любой забегаловке говорят, как минимум, на трех языках, кроме своего, — английском, немецком, русском[17].
Коротко говоря, с точки зрения Российской Федерации, Латвия максимально сочетает в себе европейскую интеграцию с почти семейной близостью. Латвия одновременно «их» и «наша», близкая и далекая, экзотическая и домашняя; эта нагруженная иронией концепция политического пространства легко сочетается с раздробленностью и спорным характером социальных идентичностей в регионе. В опросе латвийских жителей, который проводился в 1997—1998 годы, большинство респондентов (и латыши, и русские) отвечали, что русские в Латвии и русские в Российской Федерации — «разные люди»[18]. Когда у некоторых спрашивали, что их отличает (как это делал я в серии подробных интервью с жителями Риги летом в течение трех лет (2007—2010)), все отвечали, что русские в Латвии «культурнее», чем на востоке от границы[19]. Распространенное объяснение, которое я услышал от преуспевающего еврейского бизнесмена Евгения Гомберга, гласит, что быть «культурнее» значит больше уважать закон и высокую культуру и быть нетерпимым к абсурду повседневной и публичной жизни в Российской Федерации и к тем необходимым для выживания там привычкам, которые Гомберг объединил словом «хамство»[20]. Такое использование термина «культура» одновременно двусмысленно и эмоционально нагружено. В определенном отношении оно активирует понятие «культурности», отсылающее в первую очередь к вежливому поведению в быту — здороваться с продавцами, не появляться на публике пьяным, не сквернословить и т.п. Однако в другом отношении имеется в виду высокая культура. Как пояснил Гомберг, в Латвии по-настоящему ценят классическую русскую культуру, в отличие от зачастую вульгарной и профанированной культурной жизни в современной Российской Федерации. Информанты также нередко сообщали, что в Латвии говорят на «более чистом» русском языке, чем в самой России.
В обоих этих регистрах — повседневной культуры, или «культурности», и высокой культуры — подобные разговоры окрашены оттенками ностальгии. «Культурность» была отличительной чертой социального идеала советской публичной жизни, начиная со сталинского возрождения буржуазных ценностей в 1930-е годы, в то время как высокая культура, о которой говорят русскоязычные латвийцы (зачастую с тоской), состоит из канонических форм ушедшей в прошлое советской эпохи — балет, опера, Пушкин и т.д.[21] К тому же современные притязания на особый «культурный» статус прибалтийских русских должны рассматриваться в контексте давнего беспокойства об утрате новыми поколениями русских в регионе культурной компетентности. Основной причиной этого беспокойства, без сомнения, стала латвийская образовательная политика, которая за последние два десятилетия полностью исключила высшее образование на русском языке и постепенно уменьшила количество учебных часов на русском в русских школах, чтобы обеспечить компетентность в латышском. Как мы увидим ниже, ощущение культуры в осаде распространяется на многие другие сферы опыта русскоязычных латышей. В этом свете можно заподозрить, что «культурная» идентичность русских в Латвии порождает приверженность ценностям потерянной цивилизации, своего рода мантру, отгоняющую тревогу о том, не исчерпала ли русская культура в Латвии свои возможности.
III. СКАЗКА О ДВУХ БИБЛИОТЕКАХ
Это подводит нас к основному предмету анализа моей статьи — институтам культурной жизни, учрежденным в ответ на ощутимую угрозу русской культурной идентичности и ценностям в постсоветскую эпоху. Русские, как известно, — «народ книги», поэтому не удивительно, что именно книги и библиотеки стали одним из очагов тревоги за русскую культуру в независимой Латвии. Случай, который я разберу ниже, происходит в тени грандиозного нового здания Латвийской национальной библиотеки на берегу Даугавы. Ультрасовременную новую конструкцию, призванную стать символом города, проектировщики и спонсоры окрестили Замком света. Руководитель проекта, американский архитектор латышского происхождения Гунарс Биркертс, объяснил, что здание отражает пробуждение сил и идентичности латышской нации на постсоветском пространстве[22]. В русскоязычной прессе и на улицах часто критикуют этот проект, считая его бессмысленной тратой, особенно в недавние посткризисные годы аскетичной латвийской политики. В то же время, вместо того чтобы возмущаться его ценой для налогоплательщиков, русскоговорящая Рига сфокусировала свою обеспокоенность относительно этого сооружения на сообщениях о том, что Латвийская национальная библиотека за последние несколько десятилетий уничтожила большое число русскоязычных материалов и продолжит их уничтожать по мере переезда фондов в новое здание. В новой библиотеке русскоязычные материалы составят лишь 12% всех приобретений, что означает постепенное и неуклонное сокращение доли русских материалов по сравнению с прошлыми показателями. Конечно, любая библиотека должна избавляться от устаревших материалов, а дигитализация сделала очевидной избыточность большого числа материалов советской эпохи. К тому же принципы пополнения в значительной степени отражают издательские тенденции в Латвии — а Национальная библиотека является, как-никак, официальным хранилищем. Как бы то ни было, установка на сокращение мест на полках для русских книг в Национальной библиотеке стала мощной метафорой и точкой концентрации обеспокоенности изменяющимся положением русской культуры в Латвии[23].
Но мой рассказ относится к гораздо более мелким учреждениям, чья цель сохранения культурного наследия русской идентичности соответствует в миниатюре задаче, описанной архитектором Латвийской национальной библиотеки в отношении продвижения латышской идентичности. Когда вы впервые входите в Krievu Gramata Biblioteka (Культурный центр «Русская библиотека»), первое ощущение — избыток книг: они занимают каждую доступную поверхность, лежат кучами, в углах, сложены в несколько рядов на самодельных полках, каждая по шесть метров в высоту, в большой комнате на первом этаже деревянного дома XIX века во дворе по центральной улице Риги Gertrudes iela. Мне сказали, что когда-то здесь было несколько столов со стульями у дверей для посетителей, чтобы те могли почитать и просмотреть предлагаемую библиотекой продукцию, размеры которой я оценил примерно в 40 000 томов (никто не может с точностью сказать, так как полного каталога здесь нет). Теперь эти столы и стулья завалены грудами книг. Только один стол все еще не утонул в печатном слове — это стол Тамары Сергеевны, одинокое присутствие которой с решительной готовностью работать на волонтерских началах делает библиотеку открытой шесть дней в неделю, в любую погоду круглый год.
Библиотека находится в эксплуатации с 2001 года, ее фонды почти полностью состоят из книг, подаренных из частных собраний, поступивших из ликвидированных библиотек и профессиональных организаций, а также подаренных посетителями библиотеки. Такое большое число подаренных книг обусловлено тем, что одна из функций этой библиотеки — перераспределение печатной продукции в тюремные библиотеки, больницы и другие общественные заведения. Прямо у входа в библиотеку есть место, где сотни упаковок с книгами ждут отправки. Тамара Сергеевна — руководитель на пенсии, начала свою карьеру в советских провинциальных библиотеках, но большую часть своей трудовой жизни провела в комсомольских и партийных организациях. Она считает, что членство в библиотеке в идеале должно быть свободным (как она сказала мне: «Советские люди привыкли читать бесплатно»). Здесь это не совсем так, хотя членский взнос в размере шести латов в год (около 350 рублей) достаточно скромный. Нет никаких штрафов за просрочку. Клиенты могут взять с собой ограниченное число книг за один раз. Всего записанных в библиотеке, по словам Тамары Сергеевны, около 2000, хотя ясно, что членские взносы зачастую нерегулярны, и поэтому сказать, сколько на самом деле зарегистрированных пользователей, довольно сложно. За время моих визитов в последние несколько лет в летние месяцы (когда, понятно, количество постоянных клиентов может быть меньше) библиотека принимала устойчивый поток посетителей всех возрастов, правда, пожилых людей, возможно, было больше.
Для персонала и основателей библиотеки ее основная задача — сохранение русского языка и культурного знания, каковое, по мнению посетителей и персонала, находится под угрозой из-за политических решений, которые приводят не только к изъятию русскоязычных книг из Латвийской национальной библиотеки, но и к удалению русских книг из собраний публичных, ведомственных и учебных латвийских библиотек и ко все меньшему приобретению этими учреждениями новых экземпляров. В дополнение к этой более широкой задаче предоставления доступа к русскому печатному слову основатели библиотеки говорят и о конкретных целях. На сайте библиотеки миссия сформулирована так: «Библиотека и была создана для сохранения лучших изданий прошлых лет. Фонду продолжают дарить множество ценных книг, часто большие домашние библиотеки, библиотеки специалистов из Риги и Рижского района»[24]. Как можно узнать на сайте (который не обновлялся с 2002 года), первоначально у библиотеки были большие планы по организации мероприятий, образовательных программ и по активному участию в культурной жизни русскоязычной Риги. Однако после первого десятилетия существования библиотеки эти цели оказались отодвинуты далеко на обочину, вернув учреждение к его первоочередной задаче — русской книге.
Но даже с такой урезанной повесткой Русская библиотека удовлетворяет ряд потребностей — как символических, так и практических. Среди постоянных посетителей, которых я интервьюировал в течение нескольких лет, трое из девяти были родителями или дедушками и бабушками школьников в поисках книг из школьной программы, двое из них пришли вместе с ребенком. Остальные были простыми читателями и искали как классических авторов, таких как Достоевский, Некрасов, Аксенов, Гоголь или Лермонтов, так и легкое чтиво — любовные и детективные романы. Тамара Сергеевна подтвердила, что две последние категории — одни из самых популярных в библиотеке. Восемь из девяти посетителей, с которыми я разговаривал, были женщинами. Расположение книг в библиотеке подкрепляет эти наблюдения. Хотя в собрании имеются важные и редкие справочники — например, оригинальная редакция Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона и избранные произведения русских авторов, — они расположены на почти недоступных полках, многие из них сложены горизонтально, словно чтобы подчеркнуть, что они просто хранятся там, и достать их по требованию совсем не просто. Эта «выставка» культурных богатств свидетельствует об упорстве библиотеки в деле их сохранения и о приверженности тому особому культурному статусу, который собрания сочинений традиционно несут в домах образованных русских, будучи выставленными на застекленных полках в гостиной. В то же время, запыленные, нагроможденные в недосягаемости в обветшалом помещении, они словно являют собой памятники тому представлению об униженном положении русской культуры в Риге XXI века, которого придерживаются основатели библиотеки. Коротко говоря, культурный капитал, производимый и сохраняемый Русской библиотекой, различается по типу — включая как традиционный престиж и статус русского образованного общества, так и дополнительное социальное позиционирование, связанное с концепцией русской культуры в Латвии как «исчезающего вида».
Дискуссии с Тамарой Сергеевной и посетителями о библиотеке поместили проблему книги в общий контекст русского языка и культуры в независимой Латвии. Темы варьировались от чрезмерного, по мнению Тамары Сергеевны, навязывания латышского языка ее внукам в школе до сравнения этой ситуации с положением ее брата в Литве, где, по ее убеждению, проявляют больше уважения к русскому языку как деловому языку и языку, обладающему влиянием. Тамара Сергеевна является «негражданином» и считает такую категорию явной дискриминацией, навязывающей ей статус второсортного человека. Она активно солидаризируется с Владимиром Путиным, который «делает то, что говорит», и «заслуживает всемирного уважения». Коротко говоря, для нее, как и для некоторых посетителей библиотеки, принявших участие в беседах, поддержание русского языка и культуры с помощью Русской библиотеки имеет решающее значение для защиты общероссийской идентичности, связывающей их с большой цивилизацией, родиной и политической культурой, исходящей из Российской Федерации. В терминах российского закона о «соотечественниках за рубежом», можно сказать, что эта преданность Русской библиотеке ее руководителя и посетителей представляет собой «свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией».
В формулировке миссии библиотеки говорится также о том, что «огромное количество востребованных книг на латышском языке отсутствует»[25]. Это безобидное замечание активизирует характерные для некоторых слоев местного русского населения представления о значимости русского языка и культуры в Латвии, в частности — пренебрежительное отношение к сравнительной значимости латышского языка и культуры. По словам Ростислава, бывшего сотрудника театра и одного из основателей Русской библиотеки (будучи долгожителем Латвии, он гордится тем, что говорит на латышском и находится в хороших отношениях со своими латышскими соседями и бывшими коллегами):
Русский — большой язык. Латышский — маленький. На латышском языке никогда не будет такой богатой национальной литературы, такого богатства переводной литературы, как на русском. Возьмем, например, другие европейские страны, люди всегда читали на больших языках — в Чехии все читают по-немецки. Здесь латыши становятся узкими, когда они отказываются от русских книг. Они становятся нечитателями.
Тамара Сергеевна с гордостью отмечает, что «около 30 процентов» посетителей библиотеки являются этническими латышами, которые приходят за справочниками (хотя следует отметить, что за время моих посещений я ни разу не столкнулся c этническим латышами, что может говорить о том, что эта цифра завышена). Посетитель библиотеки Людмила, переехавшая в Латвию из России в 1980-е, признается, что до сих пор знает латышский плохо. Она говорит: «Значение культуры — в языке, в словах. В русских словах гораздо более глубокий смысл, чем в латышских». Такие замечания показывают, что, кроме беспокойства о потере культурного наследия и желания сохранить связь с широкой русской культурной географией, оспариваемое положение русской книги в Латвии связано также и с русским чувством уязвленной «имперской» гордости. По мнению Ростислава, латвийская языковая и образовательная политика не считается со статусом русского как «мирового» или «большого» языка. Русская библиотека посвящает свою деятельность сохранению русских языковых и культурных традиций, чтобы обеспечить связь русскоязычных латвийцев и, при желании, самих латышей с мировой культурой через причастность к русской культуре.
Мои первые посещения Русской библиотеки и беседы состоялись с июля по август 2009 года. В то лето случился ряд важных для библиотеки событий, продемонстрировавших, насколько местные проблемы культурного производства и конструирования идентичности в Латвии осложняются большими, трансрегиональными отношениями и контекстами. Когда я только начинал посещать библиотеку в июле 2009 года, Тамара Сергеевна призналась, что столкнулась с серьезными финансовыми трудностями из-за экономического кризиса 2008 года, заставившего спонсоров затянуть пояса. Учреждение на два месяца задерживало арендные платежи. Однако ситуация изменилась к лучшему в конце месяца, когда руководитель сообщила мне с ликованием, что появился новый спонсор. По словам Тамары Сергеевны, она отправила личное письмо сатирику Михаилу Задорнову, который родился и вырос в Советской Латвии, с комплиментами в адрес его языковой теории (Тамара Сергеевна объяснила мне, что она, как и Задорнов, убеждена, что древнеславянский язык является протоязыком, из которого вышли все остальные), рассказав ему о библиотеке. В ответ Задорнов посетил Русскую библиотеку и был так впечатлен, что решил стать ее главным меценатом. На следующий день, говорит Тамара Сергеевна, водитель сатирика пришел с деньгами, которых хватило для погашения задолженности и оплаты аренды до сентября. Тамара Сергеевна с гордостью показала мне собственноручно сделанные ею полки с книгами Задорнова и произведениями его отца, советского писателя и жителя Риги Николая Павловича Задорнова. Она также сказала мне, что очень надеется, что Задорнов окажет финансовую поддержку для переезда библиотеки в более просторное помещение.
Но этому не суждено было случиться. Когда я пришел в следующий раз, несколько недель спустя, Тамара Сергеевна поведала мне, что библиотеку постигла катастрофа. Задорнов, по всей видимости, решил, что не заинтересован в поддержке Русской библиотеки, и предпочел создать совершенно новую — в противовес, как он дал понять, Латвийской национальной библиотеке: Рига является городом, «где вопреки здравому смыслу тратят сумасшедшие деньги на нереальный проект — " Замок света"! А хочется ведь не замок — хотя бы лучик света»[26]. Как Задорнов отмечал в газетных интервью, книги в Русской библиотеке старые и в плохом состоянии, в то время как в его новой библиотеке он хотел собрать только новые книги[27]. Задорнов также объяснил свою философию литературы, с помощью которой он, очевидно, и составлял библиотеку. Согласно этой философии, определенные книги являются источником негативной «энергии» и вредны для людей:
Часто думаю, почему многие люди все время канючат, жалуются на жизнь и все у них не складывается, а другие (вот и я, например) живут в общем неплохо и радостно. Поразмышляв над этим, я понял, что в юности мы просто читали разную литературу. Они подсели на Цветаеву, Пастернака, Мандельштама, «Мастера и Маргариту», а также Джойса, Кафку, Кортасара. Перечитав такой наборчик, можно вешаться сразу. Энергии жить уже не останется... Я заметил, что все, например, кто увлекался романом Юрия Олеши «Зависть», стали в жизни неудачниками[28].
Тамара Сергеевна была, конечно, подавлена тем, что Задорнов признал Русскую библиотеку негодной[29]. Очевидно, у сатирика имелись свои идеи относительно сохранения русского социального и культурного капитала в Латвии, не совпадавшие с представлениями Русской библиотеки.
Следующей зимой Задорнов продолжил осуществлять свои планы по открытию собственной библиотеки, назвав ее в честь своего отца. Библиотека Николая Задорнова расположена на одной из самых модных улиц Риги — улице Альберта, в одном из красивейших шедевров югендстиля Михаила Эйзенштейна, отца кинорежиссера. В библиотеке есть знаменитый отдельный кабинет, в котором выставлены собственные книги Задорнова и книги его отца. Кроме того, библиотека может похвастаться большим числом книг, пожертвованных знаменитыми друзьями Задорнова: Аллой Пугачевой, Никитой Михалковым, Максимом Галкиным, Евтушенко. В отличие от Русской библиотеки, Библиотека Задорнова просторная и прекрасно содержится, в ней есть помещения для выставок и мероприятий, которые регулярно используются для культурных программ различного толка. Проект финансируется Задорновым при поддержке двух местных русскоязычных бизнесменов. Большинство книг в собрании действительно новые, но следует отметить, что в библиотеке имеется и большое количество старых переплетов (как и произведения Пастернака и Цветаевой). За стеклянными дверцами у стола выдачи можно полюбоваться репринтным изданием Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. После перипетий 2009 года Русской библиотеке по-прежнему удается оставаться открытой, хотя финансовые трудности растут. Поддерживавшая ее благотворительная организация в какой-то момент обанкротилась, и библиотека ищет новых спонсоров. Тамара Сергеевна сообщает, что подвергалась личным нападкам со стороны представителей Библиотеки Задорнова, который, по ее мнению, хочет прикрыть Русскую библиотеку, лишив ее источников существования. Так это на самом деле или нет, но Русская библиотека, несомненно, теряет посетителей, переходящих в Библиотеку Задорнова. Посетитель Людмила объяснила мне, уходя, уже на ступеньках, что, хотя в Русской библиотеке и есть много редких и интересных книг, в Библиотеке Задорнова хорошо организовано книгохранилище, в котором можно легко найти книгу, и есть удобные помещения для чтения. Она не планирует возвращаться в Русскую библиотеку.
IV. ГЕГЕМОНИЯ БЕЗ ГОСПОДСТВА
Если рассматривать историю русской культуры в регионе в более широком контексте, яснее становятся сложности такого противостояния библиотек. В частности, давайте немного глубже рассмотрим вопрос необходимости маркирования прибалтийской русской идентичности как «культурной». Со времен заимствования современных европейских культурных институтов Российской империей в эпоху Петра Великого географическое измерение высокой культуры в русской общественной жизни было амбивалентно: является ли высокая культура и ее институты двигателем русского национального духа или «западные» категории противоположны массовой культурной жизни, природному миру и российской нации как неевропейской? Географически это противостояние наиболее сильно отражается в соперничестве Москвы и Санкт-Петербурга — национального «центра в центре» и европейского «центра на периферии» российской культурной географии. Отголоски этих давних культурных матриц, отчетливо выраженные в конце советского периода, занимают важное место в позиционировании Латвии в русской культурной географии и в способах конструирования идентичности прибалтийских русских. Советская Латвия, будучи европейской территорией prima facie, наследовала это двусмысленное положение русской культуры. В результате исторического перехода от независимых европейских государств к советским республикам прибалтийские территории стали «западным» регионом Советского Союза — если не в географическом плане (строго говоря, этим статусом обладал Калининград), то уж точно в концептуальном. Когда советские внутренниеemigres и туристы путешествовали в Прибалтику, им казалось, что они едут на «наш запад». В культуре потребления товары из Прибалтики — кондитерские изделия шоколадной фабрики «Laima», сигареты «Elite» — имели повышенную ценность из-за их особого положения в географическом воображении. На больших и малых экранах в прибалтийских городах в фоновом режиме транслировали «западные» фильмы и телесериалы. К концу советского периода Прибалтика получила привилегированное положение для культурных экспериментов в силу своего «западного» местоположения — это была «Европа» в СССР, пространство политических и культурных инноваций. Здесь можно упомянуть литературные и критические журналы «Даугава» и «Родник», важные издания для публикации передовых произведений авторов из Москвы и Санкт-Петербурга в 1980-е, острые постановки рижского ТЮЗа под руководством Адольфа Шапиро в те же годы или даже конкурс молодых эстрадных исполнителей в Юрмале, ставший в конце 1980-х пространством национального возрождения популярной песни[30]. Коротко говоря, в силу «западного» характера русской культуры per se советская Латвия сама стала «центром на периферии».
Современные представления о «культурном» статусе русской Латвии наследуют этой модели Латвии как культурной родины вдали от родины. Русские в Латвии оказываются «более русскими, чем российские русские» (пользуясь формулировкой женщины, позвонившей на радиопередачу, в которой я участвовал в Риге 10 августа 2009 года). Но также нужно сказать, что привилегированное положение Латвии в качестве центра на периферии можно расценивать как факт истории в той же мере, в какой высокая культура, с которой идентифицируют себя русскоязычные латвийцы, является фактом советского прошлого. В рамках советского расширения русской культуры через открытые границы русские были как дома везде. В контексте независимой Латвии, однако, этот дом вдали от родины становится весьма unheimlich. Хотя статус Латвии как «культурного пространства» сохраняется в различных регистрах публичного дискурса (например, для российских туристов в ближнем зарубежье), в русскоязычных средствах массовой информации и политической риторике — как в Латвии, так и в Российской Федерации — русские латвийцы чаще всего преподносятся в виде жертв. Отчасти это, конечно, отражает политическую выгоду, как в местной политике, так и в международной дипломатии, в вопросах, касающихся соотечественников за рубежом и их прав. Тем не менее необходимо признать, что такие вопросы, как доступ к русскоязычному образованию и статус неграждан, создают почву для законного недовольства и реальные препятствия для русской культурной деятельности в этом регионе. В результате такой политики новые поколения русскоязычных латвийцев, без сомнения, получают менее широкое образование в рамках общероссийского культурного канона, хуже пишут и говорят по-русски и меньше осведомлены о современной музыке, театре и письменной культуре в Российской Федерации.
Более того, представление об особой «культурной» идентичности прибалтийских русских не является неоспоримым в латвийской общественной жизни и публичном дискурсе. Ибо оно никак не соответствует концепции истории, имеющей хождение в этнически латышском анклаве Латвии. Большинство здесь рассматривают советскую аннексию Латвии 1940 года как враждебный военный захват, абсолютно аналогичный последовавшему затем вторжению нацистов, а всех русских считают, соответственно, «оккупантами»[31]. Согласно этой концепции истории и идентичности, русских сложно назвать «культурными». В самом деле, источник латвийской цивилизации — вовсе не русская культурная щедрость, а наоборот — фундаментальная европейская идентичность, дающая латышам особое право на «западную принадлежность» — ту самую, которая была прервана, недоступна или скрыта во времена нацистской и советской оккупации. Эта концепция получает еще большую аффективную силу в свете спорного положения в контексте «старой Европы», где страны «новой Европы» часто подвергаются ориентализирующему взгляду, который представляет их либо prima facie «не в полной мере европейскими», либо «поврежденными» за годы социализма или советского доминирования[32]. В латвийском публичном дискурсе относительно истории, культуры и географии этот ориенталистский взгляд обращается в сторону местного русского населения (и самой Российской Федерации), которое считают причастным к эрозии или уничтожению культуры в Латвии, а не к ее созиданию[33].
В последние годы Русское общество в Латвии, часто при помощи денег из Российской Федерации, поддержало ряд инициатив, целью которых было компенсировать потери культурной компетентности и социального престижа. Однако чаще всего эти проекты отражают «провинциальную» версию русской культуры, что только подтверждает ее маргинальное положение, которое они призваны исправлять. Кроме того, политический императив демонстрации укорененности русскоязычного населения в Латвии во многих отношениях расходится с претензиями на мировое значение и импорт в российском культурном пространстве. На страницах глянцевого журнала «Балтийский мир», издававшегося в течение последнего десятилетия на московские деньги прибалтийскими редакционными и авторскими усилиями, можно увидеть, как русские отмечают патриотические праздники, протестуют против искажения истории в школьных программах, танцуют в национальных костюмах и готовят традиционные блюда — местные снимки и местные проблемы, — но в них мало следов «всемирно-исторического значения»[34]. Этот патриотический, но в то же время обращенный в прошлое образ латышских русскоязычных сообществ отчетливо показывает радикальное изменение статуса русской культуры, произошедшее в последние двадцать лет в регионе. Русские здесь пережили двойную потерю: из привилегированного пространства культурного производства в конце советского периода их анклав все больше превращается в сообщество провинциальных обывателей, становясь объектом покровительства и снисходительности как с востока, так и с запада.
Русская библиотека, которая, по словам Тамары Сергеевны, в свое время пользовалась поддержкой российского посольства в Латвии, является примером динамики таких провинциализированных российских культурных проектов. В целом следует отметить, что установка библиотеки на культурное возрождение противоречит определенным ключевым особенностям позднесоветской русской культуры в Латвии, как они описаны выше. Другими словами, потребность возвращать русскую культуру прошлого, проистекающая из опыта отделенности русского населения в Латвии от большой русской культурной системы, подразумевает состояние культурной целостности и интеграции, которое мало соответствует былому позиционированию Латвии как европейского, передового анклава в пределах советского российского культурного пространства. Ностальгия по культурному прошлому вступает в противоречие с культурной динамикой того самого прошлого, которое было ориентировано на инновации, эксперименты и будущее.
История Библиотеки Задорнова только дополняет эту противоречивую картину. Проект Задорнова ярко продемонстрировал многие из типичных категорий, которые русские и русскоязычные в Риге связывали с российской идентичностью в России. «Подаренная» Задорновым русская культура была импортирована им из Москвы, чтобы воссоединить местных русских с большей матрицей русской культурной жизни — но, так сказать, в толстой обертке из «хамства» и «бескультурья». Ситуация, по меньшей мере, полна иронии: русские в Латвии, стремясь утвердить единую с Российской Федерацией наднациональную коллективную идентичность и культурную территорию, наталкиваются на препятствия, создаваемые их же, казалось бы, потенциальными «соотечественниками» в Российской Федерации. Несмотря на несомненные преимущества Библиотеки Задорнова для клиентов, безучастная или неуважительная насмешка сатирика над Тамарой Сергеевной и ее устремлениями в Русской библиотеке свидетельствует о том, что русские в ближнем зарубежье часто являются пешками в московской политический и коммерческой игре. По идее, Библиотека Задорнова призвана поддерживать в Риге объединенную общую русскую идентичность. Возможно, она выполняет эту функцию для некоторых из своих посетителей. Но одновременно проект сатирика привел к тому, что оттолкнул Тамару Сергеевну, Ростислава и других членов их сообщества, подчеркнув те самые культурные различия, которые усиливают чувство региональной отдельности у русских в Прибалтике.
С основанием Библиотеки Задорнова восстановление глобального характера русской культурной географии — в ее «имперском» изводе — пошло еще дальше, чем того хотели Тамара Сергеевна или Ростислав, стремясь к утверждению культурной гегемонии и цивилизационного покровительства, типичных для взаимоотношений метрополии с колониальной культурной жизнью. Однако в этом случае, если вспомнить динамику «внутренней колонизации», прекрасно описанную Александром Эткиндом, в роли депривилегированных колониальных субъектов выступают прибалтийские русские, а не колонизированное население[35]. Для Тамары Сергеевны, Ростислава и им подобных попытка заново сформулировать чувство принадлежности принесла лишь осознание униженности и культурного отчуждения. Желание вернуться домой привело их еще дальше за рубеж. Стремление к своеобычной и целостной коллективной идентичности столкнулось лицом к лицу с культурной раздробленностью. Вместо «свободного выбора в пользу духовной <...> связи с Российской Федерацией» им предложили весьма ограниченный выбор, продиктованный экономически и культурно уполномоченными представителями имперской культурной жизни России.
В заключение позвольте мне вернуться к формуле, с которой я начал, — заимствованной из концепции Ранаита Гухи «гегемонии без господства». Как вы могли заметить, моя формула недостаточна для описания данной конкретной культурной ситуации. Очевидное различие между двумя ее терминами искажает сложность их приложения к ситуации в современной русскоязычной Латвии. Культурная гегемония, по мысли Грамши, уже сама по себе является одной из форм господства, осуществляемого в рамках работы специализированных социальных институтов и акторов. Таким образом, хотя и можно вообразить, согласно Гухе, господство посредством насильственного принуждения в отсутствие культурной гегемонии, обратная ситуация до некоторой степени будет содержать противоречие в терминах[36]. Вместо этого мы должны рассматривать ситуацию русскоязычных латвийцев в качестве примера подчинения форме культурной гегемонии, не сдерживаемой ни одним из механизмов современного общества, которые предоставляют субъектам и сообществам голос или возможность действовать, хотя бы для того, чтобы опротестовать это подчинение, — то есть теми институтами, которые традиционно осуществляют культурную гегемонию в современных обществах. Это не «господство без гегемонии» и даже не «гегемония без господства», а, скорее, еще более жестокая форма «культуры как господства». Такое положение дел — следствие современных процессов экзартикуляции гражданства, следствие, иллюстрирующее особую прекарность, которую культурная принадлежность может повлечь за собой, когда она отделена от принадлежности политической. Если воспользоваться гиперболическим сравнением, эта ситуация в некоторых отношениях зеркально отражает расширение государственной власти в последние десятилетия, стимулируемое «чрезвычайными обстоятельствами» глобальной войны с террором, не знающей территориальных границ и границ гражданства, что позволяет контролировать, надзирать и осуществлять насилие по отношению ко всем и каждому, где бы то ни было. Культура тоже является инструментом власти, и, несмотря на то что Библиотека Задорнова несравнима с бомбардировкой, последствия ее основания для первоначальной Русской библиотеки представляют особые возможности для проявления жестокости, ставшей возможной, когда гегемониальная культура пересекла границы государственного устройства и социальных институциональных структур.
Тем не менее я закончу на более радостной ноте. Ибо фрагментация и дисперсия культурной жизни, оторванной от властных политических и социальных институтов, как в случае русской культуры в Латвии, оставляет также место для множества самых разнообразных модуляций культурного опыта и выработки идентичностей. В то время как Тамара Сергеевна и многие посетители Русской библиотеки ощущают себя в Латвии словно в церковном приюте, униженными и отчужденными как от латвийских, так и от российских институтов и коллективных идентичностей, русская культурная жизнь в Латвии остается разносторонней, даже в пределах самой Русской библиотеки. Одна из посетительниц, бухгалтер по имени Лена, сказала мне, что пришла в библиотеку за книгами для своей четырнадцатилетней дочери, которой нравится русская классика. Лена читала вместе с дочерью, чтобы поддержать ее знание русской культуры, учитывая, что школьное обучение на трех языках (латышском, русском и английском) препятствует ее компетенции в русской культуре. Но Лена не слишком беспокоилась из-за этого. Когда я спросил, вырастет ли ее дочь русской, она сказала, что ее дочь, которая мечтает поступить в университет в Великобритании, «станет мультикультурной, или что-то в этом роде». Возвращаясь домой с книгами Бунина, Достоевского и Пильняка, Лена казалась вполне довольной такой перспективой.
Перевод с англ. Н. Сафонова под ред. А. Скидана
[1] Ранние версии этого текста были представлены на Банных чтениях в 2012 году, на конференции «Постколониальные подходы к постсоциалистическому опыту» в Кембриджском университете в 2013 году, на симпозиуме по глобальной русской культуре «Penn Slavic» в 2013 году, в Центре российских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета в 2013 году. Я хотел бы поблагодарить организаторов и участников этих событий, в частности Ирину Прохорову, Дирка Уффельмана, Александра Эткинда, Стефани Сандлер, Ханса Ульриха Гумбрехта, Сергея Уша- кина, Илью Калинина и Алекса Мошкина за вопросы и участие в дискуссиях. Хотя тезисы и сам материал еще не были опубликованы, некоторые части этой работы появились позже в эссе: Platt M.F.K. Eccentric Orbit: Mapping Russian Culture in the Near Abroad // Empire De/Centered: New Spatial Histories of Russia / S. Turoma, M. Waldstein (Eds.). Aldershot, England; Burlington, Vermont: Ashgate, 2013. P. 271—296.
[2] Орбита. 2009. Вып. 5. С. 174.
[3] Ranajit G. Dominance Without Hegemony: History and Power in Colonial India. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997. P. xii.
[4] Здесь требуется пояснение: помещая в центр внимания русских и русскоговорящих в конкретном регионе, я вовсе не отрицаю и не преуменьшаю страдания латышского населения в период советской оккупации и не пытаюсь оправдать эту несправедливость. Все эти события и реалии являются важным контекстом моей работы — просто они не находятся в центре этого исследования.
[5] Как отмечает Роджерс Брубейкер, «диаспору» лучше всего определять через «своеобразие языка, установку и требование», а не через категориальные разграничения и описания. В этом смысле термин «диаспора» едва ли приложим к русскоговорящему населению Латвии, представители которого редко применяют его к себе. Тем не менее я считаю понятие диаспоральной культуры действенным инструментом для размышлений о положении русских в Латвии — в том ключе, в каком его понимает Брубейкер, когда говорит о том, что его концепция «диаспоры как установки» позволяет исследователям рассматривать борьбу за идентичность и культурную географию (Bruba- ker R. The «diaspora» diaspora // Ethnic and Racial Studies. 2005. Vol. 28. № 1 P. 1—19).
[6] Сведения о населении отличаются от данных Латвийского центрального бюро статистики. См.: Перепись населения 2011 — Ключевые показатели //www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/population-census-2011-key-indicator....
[7] Путин В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 25 апреля 2005 года // www.kremlin.ru/text/appears/2005/04/87049.shtml.
[8] См. переиздание текста закона частной фирмой «Консультант плюс»: О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом //http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=150465.
[9] Хотя согласно этой первоначальной версии любой бывший гражданин СССР мог претендовать на статус «соотечественника за рубежом», «потомки лиц титульных наций иностранных государств» не могли — таким образом, этнический латыш как бывший гражданин СССР мог считаться соотечественником, тогда как его дети — нет. См. версию закона «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом» 1999 года // http: // base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgireq=doc;base=LAW; n=89945;fld=134;dst=100017;rnd=0.327086592791602.
[10] В качестве примера риторической ловушки в политических дебатах об идентичности в России см.: Хамраев В. Депутаты позаботились о «едином советском народе» // Коммерсант. 2006. 3 марта (http://www.kommersant.ru/doc/659085). Из всей литературы об изменяющейся природе гражданства я нахожу особенно полезным: Sassen S. Losing Control: Sovereignty in an Age of Globalization. New York: Columbia University Press, 1996; Benhabib S. The Rights of Others: Aliens, Residents and Citizens. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Понятие «дезагрегирования» гражданства заимствовано из последнего источника.
[11] О «Карте русского» см., например: Миодушевская Т. «Карта русского»: новый проект помощи соотечественникам за рубежом // Аргументы и факты. 2008. 8 июня (www.aif.ru/society/article/19172).
[12] Это намеренно «искаженное» использование термина «русский» может вызвать возражения со стороны тех, кого я так называю. Я сознательно иду на это, чтобы обратить внимание на социальные разногласия и споры, которые, как правило, скрыты за стандартным словоупотреблением, — при каждой попытке определить, кто имеет право на «Карту русского» на этой территории, необходимо пристальное внимание к деталям. Являются ли русскоговорящие евреи достаточно «русскими» для получения «Карты русского»? А армяне? И раз уж на то пошло — «русифицированные» этнические латыши?
[13] См.: Перепись населения 2011 — Ключевые показатели.
[14] О смешанных браках в Латвийской ССР и Латвийской Республике см.: Monden W.S. Oh., SmitsJ. Ethnic Intermarriage in Times of Social Change: The Case of Latvia // Demography. 2005. Vol. 42. № 2. P. 323—345. Примечательно, что, согласно авторам, количество этнически смешанных браков в Латвии увеличивается. О национализме и этнической идентичности в Советском Союзе см. среди прочего: Martin T. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923—1939. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2001; Slezkine Y. The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism // Slavic Review. 1994. Vol. 53. № 2. P. 414—452.
[15] В отношении этого утверждения нет никаких достоверных данных.
[16] Наиболее обширное исследование этнической идентичности в Латвии можно найти в: Laitin D. Identity in Formation: The Russian-speaking Populations in the Near Abroad. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1998. Это исследование, впрочем, можно считать отчасти устаревшим. К тому же оно переоценивает аргументы в пользу неизбежной ассимиляции русских и других в этнических образованиях титульных национальностей постсоветских государств, основанные на моделях рационального выбора (исходя из экономической и социальной выгоды). В качестве корректирующих доводов в пользу того, что прибалтийские русские могут участвовать в процессах формирования определенной региональной этнической идентичности, см.: Kronenfeld D.A. The Effects of Interethnic Contact on Ethnic Identity: Evidence from Latvia // Post-Soviet Affairs. 2005. Vol. 21. № 3. P. 247—277; Idem. Ethnogenesis without the Entrepreneurs: The Emergence of a Baltic Russian Identity in Latvia // Narva und die Ostseeregion / K. Bruggemann (Ed.). Narva, 2004. P. 339—363.
[17] Уикенд в Риге: несколько впечатлений // www.kuda.ua/lenta/38.
[18] Kolst0 P. Nation-building and Ethnic Integration in Post-Soviet Societies: An Investigation of Latvia and Kazakstan. Boulder, CO: Westview Press, 1999. P. 258—261. Дальнейший анализ данных этого опроса см. в: Kronenfeld D.A. Eth- nogenesis without the Entrepreneurs.
[19] Мои результаты близки к результатам Кроненфельда, который задавал похожие вопросы в своих углубленных интервью с похожим населением в 2000—2001 годах (Kronenfeld DA. Ethnogenesis without the Entrepreneurs).
[20] Для всех информантов я использовал вымышленные имена, кроме печатающихся авторов и публичных фигур. Гомберг, как спонсор крупных общественных художественных проектов, которые фигурируют в других частях моего исследования, попадает во вторую категорию. Посмотреть мои предварительные публикации касательно его деятельности можно здесь: Платт K. Оккупация против колонизации: как истории постсоветской Латвии помогают провинциализировать Европу // Внутренняя колонизация России / Под ред. Д. Уффельмана, А. Эткинда и И. Кукулина. М.: Новое литературное обозрение, 2012. Для получения других свидетельств использования маркера «хамство» в целях разделения позитивной и негативной версии культурной русской идентичности на более широкой территории Прибалтики можно рассмотреть ситуацию в позднесоветской Эстонии, описанную в: Wald- stein M. Russifying Estonia? Iurii Lotman and the Politics of Language and Culture in Soviet Estonia // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2007. Vol. 8. № 32. P. 561—596.
[21] О предыстории «культурности» см.: Fitzpatrick S. The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1992. P. 1—15.
[22] См., например, интервью 2011 года, в котором архитектор поясняет: «Мои мысли сфокусированы в одном направлении — на роли здания и его воздействии на латышей. У него есть задача, которая уже в процессе решения. Создать чувство безопасности и уверенности. А также вопрос идентичности. Все эти вопросы совмещаются... Когда я увидел здание, я все это прочувствовал сам... Я увидел, как сам образ моей библиотеки демонстрировал силу нашей нации, которая снова идет вперед» (Birkerts: Gaismas pils ir pieradrjusi musu tautas speku, kas atkal ir jaatrod un jatur- pina // Diena.lv. 2011. 9 мая (www.diena.lv/sabiedriba/politika/birkerts-gaismas-pils-ir-pieradijusi-mu...)).
[23] В качестве показательного материала в прессе о стоимости строительства новой библиотеки см.: Губин М. Тень «Замка света» // Суббота. 2013. 13 марта (www.subbota.com/actual/theme/week-theme/1782-ten-aquotzamka-svetaaquot.html). Об уничтожения книг см.: На сегодняшний день Национальная библиотека экстренно избавляется от книг // Ves.lv. 2013. 7 июня (http://old.ves.lv/article/245088); Национальная библиотека при переезде уничтожит часть книг // Mixnews.lv. 2013. 7 июня (www. mixnews.lv/ru/society/news/2013-06-07/125858). Чтобы ощутить реакцию русскоязычных латышей на эти события, см. также комментарии к двум последним указанным статьям.
[24] О нас // Культурный центр «Русская библиотека» (www. library.eunet.lv/site/index.php?w2=about).
[25] Ibid
[26] Задорнов М. Как пройти в библиотеку // Суббота. 2009. 12—18 августа. С. 10.
[27] Риттер Р. Как все сложилось // Суббота. 2009. 12—18 августа. С. 11. См. также: Трошкина Р. Михаил Задорнов открывает в Риге русскую библиотеку // Час. 2009. 13 августа. С. 4.
[28] Задорнов М. Как пройти в библиотеку. См. также газетное интервью с Задорновым в конце 2009 года, в котором он объясняет, что в его библиотеке нет места произведениям Владимира Сорокина, потому что они содержат обсценную лексику, и говорит: «Тот, кто читает в детстве "Дерсу Узала", тот в жизни становится счастливее, чем тот, кто читал, скажем, "Доктора Живаго"» (Яковлев А. Михаил Задорнов: А она — улыбается! // Литературная газета. 2009. № 52. 23 декабря (http://lgz.ru/article/N52-6256-2009-12-23-/Mihail-Zadornov%3A-A-ona-%E2%...)).
[29] См. газетное интервью с ней вскоре после этих событий: Март Д. Задорнов некрасиво пошутил // Вести сегодня. 2009. 27 сентября (http://vesti.lv/crime/414-62368/65775-95147.html).
[30] См.: Platt K.M.F. Russian Empire of Pop: Post-Socialist Nostalgia and Soviet Retro at the «New Wave» Competition // Russian Review. 2013. № 72. P. 447—469.
[31] Наиболее наглядные примеры этого исторического нар- ратива можно найти на выставках и в публикациях Музея оккупации в Риге, в котором, как и во многих мемориальных местах Восточной Европы, действия нацистского и советского режимов систематически представляются идентичными. В 2009 году президент Латвии Валдис Зальтерс публично призвал прекратить распространенное среди этнических латышей использование термина «оккупант» по отношению к русскоязычному населению страны. Хотя жест Зальтерса и не привел к желаемым результатам, он вызвал широкие публичные дискуссии о значении используемого слова, которое многие русские считают дискриминационным ругательством. См.: Papildinata — Zatlers: javienojas, ka vards 'okupants' vairs ne- tiks lietots // Diena.lv. 2009. 7 декабря (www.diena.lv/sabiedriba/politika/papildinata-zatlers-javienojas-ka-vards...). Подробное исследование нарративов истории и идентичности см. в моей работе: Platt K.M.F. Eccentric Orbit: Mapping Russian Culture in the Near Abroad.
[32] Тенденции ориентализировать население бывших социалистических государств — это вечный больной вопрос для интеллектуалов новой Европы, таких как Милан Кундера, например. Хорошо известны его давние попытки провести в глазах западного читателя различия между Прагой и Москвой, как известна и обреченность таких попыток в свете недавних обвинений автора в сотрудничестве с чехословацкой тайной полицией. См.: Kundera M. The Tragedy of Central Europe // The New York Review of Books. 1984. № 31 (7). 26 April. P. 33—38; Idem. Die Weltliteratur // The New Yorker. 2007. 8 January. P. 28—35.
[33] В дополнение стоит сказать, что оба этих нарратива сильно затеняют вклад прибалтийской немецкой культуры и исторических акторов в исторический синтез, какой представляет собой современная мультиэтническая латвийская культура.
[34] Другим проектом, иллюстрирующим положение русской культуры в Латвии как регионального феномена, стала выставка «Русские Латвии», организованная представителем Латвии в Европейском парламенте Татьяной Жданюк при финансовой поддержке европейской фракции зеленых, Московского государственного департамента зарубежной экономики и международных отношений и московским Домом соотечественников в Риге. Выставочное пространство было организовано в хронологическом порядке, охватывая жизнь русских в регионе с XVII века до наших дней. Некоторое внимание уделялось известным русским с латышскими корнями, однако основной акцент был направлен на специфичность жизни русских в Латвии. Несомненно, целью проекта являлась, в первую очередь, демонстрация укорененности русских в регионе, а не изображение их в качестве представителей зарубежной, имперской или советской русской цивилизации. См.: Русские Латвии: Каталог выставки. Рига, 2008. Также см. относящиеся к выставке материалы на сайте «Русские Латвии»:www.russkije.lv/ru/lib/read/exhibition-opening1.html.
[35] См.: Эткинд А. Внутренняя колонизация: Имперский опыт России / Пер. с англ. В. Макарова. М.: Новое литературное обозрение, 2013.
[36] Формулировки Грамши можно прочесть здесь: Gramsci A. The Formation of the Intellectuals // Selections from the Prison Notebooks / Q. Hoare, G.N. Smith (Eds.). London: Elec- Book, 1999. P. 134—161; рус. издание: Грамши А. Возникновение интеллигенции // Он же. Искусство и политика: В 2 т. / Пер. с итал. М.: Искусство, 1991. Т. 1. С. 168—184.
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Этническая идентичность как вынужденный выбор в условиях диаспоры: парадокс сохранения и проблематизации «русскости» в мировом масштабе среди эмигрантов первой волны в период коллективизации
(пер. с английского А. Логутова)
Лори Манчестер
Русское зарубежье обладало всеми характеристиками, свойственными современной нации (кроме, разумеется, территориального единства). Разбросанные по шести континентам русские были связаны друг с другом «национальным публичным пространством»: новыми праздниками, международной прессой, благотворительными, образовательными и бюрократическими институциями, а также культурой, армией и публичными зрелищами (театром)[1]. В 1920-е годы самопровозглашенные интеллектуальные лидеры русского зарубежья видели свою миссию в сохранении дореволюционного культурного наследия и пестовании новой, бесцензурной, русской культуры[2]. Первому поколению эмигрантов в высшей степени успешно удалось избежать ассимиляции, и, казалось, сохранение и распространение русской культуры шло своим чередом. Русское зарубежье продолжало традиции дореволюционной России, а его обитатели по умолчанию отрицали новую советскую государственность. Важнейшей для поддержания культурной преемственности частью их национального проекта была попытка представить зарубежную диаспору как исчислимое и поддающееся учету сообщество единомышленников. Тем не менее при более пристальном рассмотрении вопрос о том, чью культуру они пытались сохранить и приумножить, оказался не столь однозначным.
Идеи единого национального проекта появляются в русском зарубежье во время заката нэпа и начала процесса коллективизации, когда многим эмигрантам стал очевиден масштаб насаждаемых Сталиным преобразований. Военное сопротивление большевистскому режиму сошло на нет, и перспектива возвращения на родину становилась все отдаленнее. Наиболее известные проекты национального строительства, осуществлявшиеся по инициативе эмигрантских лидеров, подразумевали среди прочего расширение культурного присутствия России в мире посредством создания прочной экономической базы: кредитных банков, кадровых бюро, страховых компаний, профсоюзов, больниц и сиротских приютов. Однако в этой статье мы хотели бы разобрать один частный, «любительский» национальный проект, на примере которого видно, какое смятение внесли в ряды эмигрантов первой волны попытки определить критерии принадлежности к русскому зарубежью[3].
В 1927 году недавно потерявшая мужа баронесса Мария Врангель (1857— 1944), мать генерала Врангеля, запустила процесс сбора сведений от «кажд[о- го] эмигрант[а], где бы он ни был», относительно бытовых условий жизни за границей[4]. Для баронессы, никак себя до этого не проявлявшей в общественной деятельности (если не считать короткого периода работы в сфере образования и впоследствии в Красном Кресте во время Первой мировой войны), этот проект стал одной из многочисленных инициатив, направленных на документирование истории эмиграции[5]. При помощи газетных объявлений, писем подписчикам консервативной белградской газеты «Новое время» и знакомым с просьбой прислать ей имена и адреса всех известных им эмигрантов за несколько лет баронессе удалось собрать информацию по примерно четыремстам эмигрантам, проживавшим в пятидесяти восьми странах[6]. Вопросы, которые она задавала своим респондентам, варьировались. Баронесса не пользовалась опросными листами, задавая вопросы в форме письма. Судя по всему, набор вопросов определялся в том числе местом жительства конкретного человека. Чаще всего повторялись просьбы оценить количество русских в стране проживания, описать их юридический статус, отношение к ним со стороны властей и местного населения, перечислить функционирующие русские организации; церкви; благотворительные общества; издательства; ремесленные и промышленные предприятия; театры; музеи; рассказать о событиях музыкальной жизни. Также ее интересовало наличие русских знаменитостей, средние зарплаты соотечественников, их гражданство, степень денационализации и перспективы поступления на государственную службу[7]. Респонденты, принимавшие участие в глубинном исследовании баронессы, испытывали трудности при ответе только на один вопрос — о демографическом составе русской диаспоры[8].
Исходя из распространенного представления о том, что беженцы живут только прошлым, можно было бы предположить, что эмигрантская идея национальной идентичности воспроизводила один из двух дореволюционных критериев «русскости» — владение русским языком и принадлежность к Русской православной церкви[9]. Но опыт революции, войны, жизни в изгнании, а также влияние бытовых условий, населения и политической культуры страны проживания вызвали существенные изменения в мировосприятии респондентов, заставив их отказаться от дореволюционных представлений о сути «русскости». Несмотря на сравнительную гомогенность эмигрантского сообщества (большинство составляли мужчины-монархисты аристократического происхождения, воевавшие на стороне белых, а также некоторое количество менее образованных солдат), эти представления обнаружили высокую степень разнообразия и новизны, непредставимую в дореволюционные времена.
Для борьбы со 120-миллионным колоссом Советского Союза русское зарубежье также нуждалось в миллионах граждан. Кроме того, ему было необходимо поддерживать интерес к себе со стороны Лиги Наций и других международных институтов, способных дать ему признание и поддержку. Но, как мы увидим, тосковавшие по прежним временам респонденты баронессы — отвечая на ее невинный на первый взгляд вопрос о количестве русских в стране или городе их проживания — шли не по инклюзивному, а по эксклюзивному пути, исключая из числа русских целые группы эмигрантского населения[10]. Их определения национальной принадлежности расходились с волюнтаристской и органической концепциями, обращение к которым могло бы существенно пополнить их ряды. Их противоречивые представления о принадлежности к русской нации были образованы сочетаниями как минимум девяти критериев: 1) политические убеждения; 2) гражданство; 3) место рождения; 4) этническая принадлежность; 5) самоопределение; 6) раса; 7) мораль; 8) классовое происхождение и, наконец, пользуясь термином Хердера, 9) быт и «коллективный дух» (common spirit).
Одной из причин, побудивших баронессу начать свой проект, была обеспокоенность тем ущербом, который политические и религиозные склоки в эмигрантской среде причиняли образу русского зарубежья в глазах иностранцев[11]. Эмигранты были очень чувствительны к отношению со стороны жителей Западной Европы, и многие из них (в том числе сама баронесса) собирали статьи из иностранной прессы, посвященные русской эмиграции. Ее чувство национального достоинства усиливалось, когда иностранцы выказывали уважение к русской культуре, рекламируя и спонсируя русские культурные мероприятия[12]. Но, наряду с подпиткой самоуважения (имевшей самостоятельную ценность как фактор замедления ассимиляции), лидеры эмиграции видели в объединении единственную возможность снова получать моральную и финансовую поддержку от иностранцев, не спешивших оказывать ее в условиях постоянной борьбы среди эмигрантов. Как выразился один из эмигрантских лидеров в 1929 году, иностранцы хотели помочь России, а не отдельным политическим партиям[13]. При этом в иностранцах видели не только великодушных спонсоров. Один из респондентов баронессы писал из Кореи в 1932 году о необходимости «подготовить нашу молодежь, чтобы она чувствовала, что все иностранное нам счастья не даст, ибо здесь нас всегда будут стараться зажать на положение рабов». Устойчивая и открытая национальная идентичность, по его мнению, позволила бы утратившим отечество беженцам защититься от неизбежных попыток иностранцев разделить их и поработить[14]. Такого рода «чужбинная идентичность» не могла совпадать с идентичностью советской. Ее нужно было создавать «с нуля». В письме от 1929 года белый офицер, обосновавшийся в Шанхае и работавший над изданием многотомной трехъязычной «Всемирной энциклопедии русской эмиграции», объяснял баронессе, что у русских эмигрантов было «ПРАВО СОЗНАВАТЬ СЕБЯ НАРОДОМ среди народов других»[15].
Замысел баронессы подразумевал на определенном этапе формирование национальной идентичности «снизу» — силами низших образованных слоев, а не признанных кузнецов национальных идентичностей: интеллектуалов и государственных деятелей. Все виктимные диаспоры (victim diasporas) вынуждены так или иначе решать задачу сохранения своей этнической принадлежности в надежде на возвращение домой; но в нашем случае диаспора пребывала в состоянии разобщенности, определяя себя через противопоставление тем представителям своего народа, которые остались на родине[16].
Это позволяло отдельным эмигрантам брать на себя функции государства, самостоятельно выбирая и применяя на практике критерии определения «русскости», чтобы в отсутствие избранных или хотя бы повсеместно признаваемых лидеров самовластно решать, кто достоин жить в их экстратерриториальной державе. Именно в диаспорах лучше всего видна пластичность понятия национальной идентичности, которое многие до сих пор считают исконным и неизменным.
Подобно многим другим лидерам эмигрантских объединительных движений в эпоху сталинской революции «сверху», баронесса придерживалась на словах политики инклюзивности. Она записывала в эмигранты всех противников большевизма и сетовала на то, что приверженцы левых взглядов не отвечали на ее письма. Приняв в себя своих политических оппонентов, русское зарубежье могло бы значительно увеличить свою численность[17]. Как писал баронессе в 1931 году один из ее информантов из Рио, если бы бывшие кадеты и социалисты признали свою вину за развал родины, то могли бы стать частью эмигрантского мира[18]. Впрочем, лишь в одном отклике, полученном из Германии в 1930 году, признавалась возможность распространить определение «русский» на представителей левой идеологии и даже на советских граждан, проживающих за границей, но при этом констатировалось, что ни граждане СССР, ни сменовеховцы, ни невозвращенцы на данный момент никак не связаны с эмигрантским обществом[19]. Даже сама баронесса, отвечая на письмо русского профессора, обосновавшегося в Канаде, поставила ему в упрек неучастие в Белом движении, несмотря на то что в то время он только что закончил гимназию[20]. Коллективная травма Гражданской войны — как это часто случается в современном мире — стала базовым событием, фундаментальным мифом новой национальной идентичности[21].
Политическое истолкование русской национальной идентичности стало в руках ряда респондентов инструментом исключения русских евреев из эмигрантского сообщества. Даже в случае такой небольшой и отдаленной от России страны, как Коста-Рика, в которой — по утверждению респондента — жило лишь 6—7 русских, последний счел нужным уточнить, что он «не счита[ет] русских жидов», которые безразличны «нашей родине»[22]. Патриотизм считался необходимым компонентом национальной идентичности — причем патриотизм монархического толка. Еще один респондент из Калифорнии в своем письме от 1931 года жаловался на то, что американцы презирают русских и те не могут свободно «практиковать» свою культуру, как это делают эмигранты из Италии или Ирландии. Виной тому были якобы русские евреи, приехавшие в США до революции и уже несколько десятилетий унижавшие царскую Россию[23]. В письме от 1927 года из Шанхая очередной эмигрант объяснял, что единственной причиной, по которой он не учитывал евреев при оценке численности русского населения, было то, что в день десятой годовщины Октябрьской революции ни один еврей (даже самых консервативных взглядов) не откликнулся на призыв русских национальных организаций вывесить из своего окна имперский флаг. Тот же респондент писал, что многие евреи получали советское гражданство; таким образом, в его глазах (как и в глазах многих других респондентов) критика царизма приравнивалась к поддержке большевиков[24].
Любопытно, что баронесса безо всяких объяснений исключила из своего исследования город Харбин, ставший домом для более чем ста тысяч русских, где тысячи советских граждан жили рука об руку с русскими эмигрантами (некоторые из этих советских граждан неохотно приняли советское подданство, чтобы не потерять работу на КВЖД). Харбин, так же как и многие бывшие территории Российской империи, был местом в высшей степени специфическим: многочисленные этнические русские, жившие там до революции, оказались за границей, не приняв осознанного решения эмигрировать[25]. Так как политические пристрастия этой части населения были сомнительны, респонденты часто отказывали им в «русскости». Еще более проблемной группой эмигрантов были десятки тысяч уехавших из России по экономическим мотивам на рубеже XIX—XX веков. Эти люди — подобно большинству русских евреев-эмигрантов — сознательно покинули царскую Россию, что расценивалось эмигрантами как в высшей степени непатриотичный, а следовательно, «пробольшевистский» поступок.
Их нередко называли «уклонистами», «дезертирами» и «революционерами», а их политические взгляды, так же как взгляды евреев, считались единообразными и негибкими. Так, в 1930 году один австралийский респондент воспроизвел в своем письме распространенное представление о том, что все «старожилы» симпатизируют большевикам и враждебно настроены по отношению к эмигрантам. Этим двум группам не суждено объединиться, а дурная репутация, которой старожилы обязаны своим левацким взглядам, мешает представителям Белого движения утвердиться в австралийском обществе[26]. Эта неспособность к объединению с другими этническими русскими, разделявшими те же языковые, религиозные и — нередко — бытовые ценности, препятствовала распространению органических представлений о национальной идентичности и имела, как и в случае с русскими евреями, не только политические причины[27].
Одним из критериев, при помощи которых баронесса оценивала степень «русскости», было сохранение имперского подданства (то есть де факто — статус лица без гражданства). Многие из ее респондентов были не согласны с этим определением и с сочувствием писали о тех, кто принял иностранное подданство (за исключением советского), чтобы найти работу. Некоторые пытались доказать, что смена гражданства не мешает человеку оставаться русским. Так, в письме из Орегона, написанном в 1931 году, говорилось, что эмигранты, ставшие американскими гражданами, сохраняли русский быт и культуру и духовно остались такими же русскими, что и раньше[28]. В то же время некоторые соглашались с баронессой в том, что смена гражданства — это предательский поступок, приравниваемый к денационализации. Княгиня из Филадельфии оплакивала толпы эмигрантов, которые устроились на работу, по своей воле сменили подданство и «с восторгом уходят из русских»[29]. Представление о том, что перемена гражданства приводит к изменению национальности, воспроизводится и в письме 1928 года из Румынии, в котором говорится о русских, которые «стали украинцами и проживают по украинским документам»[30].
Многие иностранные правительства, особенно в неславянских странах, редко интересовались национальностью эмигрантов или датой их отъезда из Российской империи. Все родившиеся в России и владевшие русским языком автоматически считались русскими[31]. Некоторые респонденты разделяли эти либеральные взгляды, хотя сами при этом не забывали распределять живущих по соседству эмигрантов по национальному признаку. Один из информантов, писавший из Германии, сетовал на отсутствие соответствующей статистики и находил «крайне важным» знание национальности, возраста и общественного положения каждого эмигранта[32]. Сама баронесса в ставшем частью проекта наброске, посвященном эмигрантской жизни в Берлине в 1920—1922 годах, включила евреев в число русских. То же самое сделали несколько человек из США[33]. Кроме того, в список эмигрантских организаций в Бельгии она включила как собственно русские, так и украинские и еврейские институции. В письме из Греции звучало воодушевление по поводу того, что греки, приехавшие из России, отказываются ставить знак равенства между собой и уроженцами Греции, называя Россию своей родиной[34]. Похожая ностальгия по многонациональной империи и ощущение братской близости с другими народами заметны в письме из Польши, автор которого отделяет русских поляков, вхожих в эмигрантские круги, от поляков из Австро-Венгрии, считавших первых варварами и дикарями[35]. Народы, жившие в империи, разделяли друг с другом не только родину, но и психологические характеристики. Респондент из Литвы пишет (в 1928 году), что литовцы очень похожи на русских: они такие же гостеприимные, простые, открытые, талантливые, трудолюбивые, упрямые и патриотичные[36].
Если эмигранты, оказавшиеся в странах, некогда пользовавшихся поддержкой Российской империи, — Болгарии, Сербии, Абиссинии, — чувствовали, хотя бы поначалу, заботу и радушие местного населения, то в получивших независимость частях бывшего российского государства эмигрантам приходилось сталкиваться с проявлениями местного национализма, сохранившего память о насильственной русификации. Почти все респонденты из Литвы (включая упомянутого выше) указывали на несправедливость царского запрета на печать литовских книг и сожалели о том, что некоторые эмигранты забывали, что они у литовцев в гостях. При этом те же авторы были, казалось, обижены нежеланием литовцев смешиваться с эмигрантами.
Одна из них интерпретировала всякую помощь со стороны литовской интеллигенции как благодарность литовцев за то, что русские обогатили их культуру[37]. Эмигрант из Румынии выразил надежду на укрепление русской гегемонии на территории бывшей империи; он был явно расстроен запретом на преподавание русского языка в молдавских школах[38]. В схожих чувствах признается его собрат по несчастью из Парагвая, написавший баронессе, что русские эмигранты пользуются одной библиотекой с русскими евреями, которые — к его великому сожалению — постепенно забывают русский язык[39].
Но количество респондентов, использовавших расширительное (инклюзивное) определение «русскости» и ностальгировавших по многонациональной Империи, было в разы меньше числа толковавших русскую национальную идентичность в узкоэтнических терминах. Так, в одном письме из Гамбурга (1930) автор называл единственными виновниками раскола в местной православной церкви немецких русских, женившихся на русских женщинах. Несмотря на то что они, по всей видимости, были православными или недавно перешли в эту веру, у них — по мнению автора письма — не было никакого права вмешиваться в исключительно русские дела[40]. Бывший редактор русскоязычной газеты в Аргентине жаловался на то, что она перешла к латышу, и поражался тому, что всеми русскими газетами заведуют нерусские люди[41].
Респонденты, не разделявшие либеральный взгляд на «русскость», особенно уверенно исключали из русской нации евреев[42]. В качестве объяснения они указывали на предполагаемую связь всех евреев с большевиками. Кроме того, эмигранты из стран, в которых у них не было надежного юридического статуса и хороших материальных условий, сетовали на то, что евреи пользуются большими правами и забирают у русских рабочие места (хотя евреям якобы принадлежали все предприятия и весь капитал), а также захватывают русские рестораны и магазины[43]. Страх потери национальных организаций звучит и в письме респондентки из Каира, которая пишет, что «Клуб Русского объединения — только по названию, 3/4 жиды»[44].
Многих респондентов ужасало то, что русские евреи называют себя русскими и что местные жители (например, в Южной Америке) считают русских и евреев одной нацией[45]. Они объясняли свое возмущение не столько антисемитизмом, сколько тем, что они могли называть себя только русскими, а представители других народов бывшей империи могли выбирать, как называться. Один эмигрант из Рио жаловался на то, что эстонцы, латыши, литовцы и поляки называют себя русскими, только когда им это выгодно, а в противном случае открещиваются от своей «русскости»[46]. Очевидно, что для ряда респондентов «настоящий» русский не мог иметь «запасной» национальности.
Впрочем, многие другие респонденты видели в «самоидентификации» (self-affiliation) весомый компонент национальной идентичности. Так, один житель Чикаго в своем письме (1931) не проводил различия между эмигрантами, приехавшими в Америку до и после революции. На то, что он говорит об уехавших до революции, указывает лишь то, что он ссылается на разницу между поколениями: несмотря на то что второе поколение эмигрантов с трудом говорит по-русски, а третье и вовсе не владеет этим языком, они считают себя русскими православными[47]. Из одного письма из Швеции баронесса узнала, что дети русских, женившихся на шведках, не говорили по-русски, не считали себя русскими и, следовательно, не были таковыми[48]. Респондент из Венгрии писал, что бывшие военнопленные нашли себе венгерских жен и не помышляли о возвращении в Россию. Они приняли венгерское гражданство, проигнорировали призыв Врангеля принять участие в Гражданской войне, забыли русский язык и, что самое печальное, скрывали свою национальную принадлежность[49]. Автор письма, судя по всему, был только рад «избавлению» от этих притворщиков, но некоторые респонденты из Шанхая были возмущены поведением ряда приехавших после Гражданской войны беженцев, тоже вставших на путь отрицания собственного происхождения[50]. Эти респонденты опирались на органическое, естественное (involuntary) понимание национальности, так как «русскость» участников Белого движения была в большинстве случаев очевидна. Единственным исключением из правила самоидентификации были эмигранты, которые были вынуждены отречься от своей национальности, чтобы избежать физической расправы от рук ревностных антикоммунистов, путавших эмигрантов с гражданами СССР[51]. Такого рода путаница особенно часто случалась в странах, где мало знали о России, и дополнительно мотивировала эмигрантов на поиск особой национальной идентичности. Возможно, именно существованием Советского Союза объясняется непопулярность определения «русскости» через расовую принадлежность. Одна респондентка из Греции тепло отозвалась о проекте баронессы, указав на то, что, несмотря на все склоки, только русская раса могла достичь в эмиграции того, что она достигла[52]. Автор письма из Абиссинии клялся, что тамошние русские не собираются отказываться от своего гражданства. По мнению автора послания, в этом все равно нет смысла, так как «своей русской физиономии» не скроешь[53].
В своеобразном предисловии к своему проекту баронесса утверждает, что Россию покинули лучшие представители русской нации. Наряду с сохранением русской культуры, русское зарубежье видело свою миссию в воспитании духовно чистой молодежи, которая смогла бы принять участие в судьбе родины после падения большевизма. Оправдывая свое изгнание стремлением уберечь русскую кровь от большевистской заразы, некоторые респонденты приравнивали «русскость» к нравственной чистоте. В одном письме из Венгрии (1930) говорилось, что эмигрировавшие казаки (в которых другой респондент, из Канады, видел единственную группу эмигрантов, по-настоящему обеспокоенную положением дел в России и не одержимых зарабатыванием денег) слишком много пьют, чтобы получить право вернуться на родину: они были недостойны называться русскими. Тот же респондент из Венгрии предложил исключить из числа будущих возвращенцев русских женщин, привезенных в Венгрию в качестве жен, а затем брошенных венграми-военнопленными. Он снова ссылался на соображения этического характера: эти женщины, многие из которых впоследствии вышли замуж за казаков или венгров, были лживы, необразованны и вели паразитический, сомнительный с моральной точки зрения образ жизни. По мнению респондента, они были политически близки большевикам (хотя никаких фактов их политической активности он не приводит) и порочили честь русских женщин[54]. Похожего мнения придерживался его немецкий «собрат», выделявший русских женщин, вышедших замуж за русских немцев, в особую группу, отличавшуюся, по его мнению, «малокультурностью»[55].
Нация нередко концептуализируется как метафорическая семья, поэтому русские эмигранты, являвшиеся нацией в диаспоре, последовательно увязывали здоровье своей «нации» с женщинами. В них видели хранительниц родного языка, то есть главного барьера на пути денационализации. Кроме того, потеря национальной идентичности связывалась с межнациональными браками (в которые вступали не только русские женщины, но и русские мужчины, см. приведенное выше письмо из Швеции). Как писали многие респонденты, женщинам было легче найти работу, так что традиционная структура семьи претерпевала в условиях диаспоры существенные изменения. Среди прочего, баронесса нередко интересовалась состоянием эмигрантских семей, а — в случае азиатских стран — и тем, сколько женщин-эмигранток работало в барах. Один респондент из Шанхая писал, что многие жены бросали своих мужей и что не менее 15% эмигранток работали в барах (что чаще всего обозначало проституцию)[56]. Напротив, эмигрантская пресса настойчиво превозносила нравственные качества эмигранток и живописала упадок традиционной семьи и женских нравов в Советском Союзе[57]. По наблюдению Мэри Луизы Пратт (Mary Louise Pratt), во время заграничных путешествий люди чаще всего обращают внимание на детали, связанные с проблемными моментами их жизни на родине[58]. В нашем случае все наоборот: в роли «заграницы» для эмигрантов выступал Советский Союз, в котором они никогда не были, но который тем не менее казался им знакомым.
Еще двумя группами (как мы видели, часто воспринимавшимися в связи друг с другом), исключавшимися из сообщества русских в том числе на этических основаниях, были русские евреи и мигранты, покинувшие Россию до революции. Респондент из Аргентины сетует, что русских там недолюбливают из-за того, что большинство евреек из России занимаются проституцией[59]. В письме из Австралии говорится о том, что по вине «старожилов» к участникам Белого движения, приехавшим в 1920-е годы, местные относятся хуже, чем к чернокожим; русских считают отсталыми, некультурными и совершенно невежественными[60]. В похожих выражениях респондент из Канады жалуется на низкий уровень этического и национального сознания среди преступников, сектантов, политических экстремистов и крестьян из западной России, переехавших в Канаду до 1917 года. Их безнравственное поведение позволяет канадцам смотреть на русских эмигрантов как на низшую расу. Но по мере того, как в Канаду приезжает все больше представителей интеллигенции и «полуинтеллигенции», отношение к русским меняется в лучшую сторону[61].
Представление о себе как об «интеллигенции» (несмотря на то, что до революции интеллигенция ассоциировалась скорее с политическим радикализмом) было довольно распространено. Один респондент из Бразилии (письмо от 1931 года) признавался, что, несмотря на все свое отвращение к слову «интеллигент», он не может найти лучшего определения для разносословной массы образованных русских, с которыми он общается[62]. Профессор, писавший из Парагвая в 1930 году, утверждал, что русское сообщество разительно отличалось от любой другой иммигрантской группы именно в силу своей интеллигентности. Парагвай, находившийся на слишком низкой ступени промышленного развития, был малопривлекателен для пролетариата, и, хотя русские рабочие время от времени приезжали из Аргентины для работы на отдельных проектах, надолго они не задерживались. Русские сельскохозяйственные общины Парагвая были не менее «удачным» образом отдалены от столицы, где обосновались интеллигенты[63]. В устах одного сербского респондента слово «интеллигенция» звучало в еще более расширительном, политическом (консервативном) смысле: по его словам, все эмигранты, очутившиеся в Югославии, принадлежали к «той интеллигенции», которая воевала на стороне Белой армии[64]. С практической точки зрения для усиления своих претензий на национальную идентичность респондентам следовало бы настаивать на включении в свои ряды представителей всех сословий. Именно так поступала баронесса, справляясь в письмах эмигрантам из Южной Америки о положении русских крестьян[65]. Тем не менее представление о всеобщей интеллигентности эмигрантов имело то преимущество, что снимало проблему классовых противоречий в их рядах, гомогенизировало их сообщество.
Интеллектуалы не только создают национальную идентичность, они также удачнее всех сопротивляются ассимиляции. В отличие от многих образованных людей дореволюционной России, корреспонденты баронессы не видели в народе кладезь национального самосознания. Напротив, в диаспоре именно «народ» быстрее всего подвергался ассимиляции. Раз за разом в ответ на вопрос баронессы о том, не забывают ли дети русский язык, респонденты писали, что сохранение языка определяется не столько доступностью русских школ, сколько образованностью родителей. Они писали, что крестьяне, переехавшие в страны вроде Аргентины еще до революции, утратили «русский облик», русский быт и чистоту языка. Их дети, по мнению авторов писем, ничем не отличались от местных жителей[66]. Учитывая то, что многие крестьяне во время Гражданской войны встали на сторону большевиков, опасаясь возвращения помещикам их земель, неудивительно, что респонденты баронессы были не склонны к народническим настроениям.
Русский быт, о котором писали респонденты, особенно ощущался на фоне общения с иностранцами, среди которых жили эмигранты. В одном из писем из Германии (1930) автор сравнивал немцев с русскими и констатировал их абсолютную непохожесть: первые — пунктуальные и дисциплинированные, вторые — сентиментальные романтики, живущие фантазиями и увлеченно спорящие об идеалах. Автор гордился этими отличиями, превознося даже находчивость русских преступников, сидевших в немецких тюрьмах: «...и здесь русские показали свои индивидуальные способности в смысле изобретательности»[67]. Респонденты последовательно сходились на двух отличительных особенностях русских эмигрантов: благодаря своей честности, прилежанию и уму они были лучшими работниками в любой сфере, а русские студенты превосходили своих зарубежных соучеников сообразительностью и подготовкой[68].
Столкнувшись в некоторых странах с высоким уровнем жизни рабочих (включая эмигрантов), респонденты воспроизводили в своих письмах подход, названный Чаттерджи (Chatterjee) «колониальным национализмом», то есть представление о превосходстве Запада в области материального производства и монополии колонизированных народов на духовность[69]. По образу и подобию многих интеллектуалов дореволюционного времени респонденты с готовностью применяли к себе ориенталистскую дихотомию. Атаман, писавший из Канады в 1930 году, жаловался баронессе: «С нашей Славянской мягкостью, сердечностью, доверчивостью и привитым нам гуманизмом, трудно пробить себе путь среди царящего здесь материализма и самомнения». Еще один корреспондент, восхищаясь красотами канадской природы, замечал, что «эстетика у канадцев развита слабо, все заняты добыванием доллара». Третий выражал недовольство «американизацией» Уругвая: высокий уровень жизни оттенялся недостатком духовной культуры: местные больше увлекались футболом, чем строительством библиотек[70].
Тем не менее не всякое сравнение русских с иностранцами было в пользу первых. Многие респонденты жаловались на свойственные русским неорганизованность и любовь к интригам. В одном письме из Литвы автор ставил русским в пример литовских националистов; респондент из Парагвая писал, что русским стоило бы поучиться организованности у еврейской общины[71]. Другой эмигрант из Парагвая отмечал, что, несмотря на бедность и бескультурье приютившей его страны, местные жители очень вежливы и умеют себя вести: «Наша российская грубость, хамство и хулиганство совершенно неизвестны здесь»[72].
Осознавая гибкость национальных идентичностей, некоторые респонденты, успевшие полюбить свою новую родину, писали о необходимости соблюдения и усвоения по крайней мере части иностранных обычаев. Так, респондент из Канады указывал на то, что русские священники могли бы взять пример с западных пасторов, не боявшихся затрагивать в своих проповедях сложные и насущные вопросы. Эмигрант из Норвегии демонстрировал еще больший энтузиазм и предлагал превратить освобожденную от большевиков Россию во вторую Норвегию. Указывая на несомненное превосходство норвежцев над русскими, он писал о трудолюбии, честности, общительности, предупредительности и чистоплотности этих людей, живших в такой благоустроенной и упорядоченной стране[73]. Впрочем, у большинства респондентов страх ассимиляции отбивал всякое желание интеграции в чужеродную культуру. Те из них, кто обосновался в городе или стране, где русские могли чувствовать превосходство над местным населением или, наоборот, третировались европейцами (что случалось чаще всего в (полу)колониальных странах), в меньшей степени опасались распада русской идентичности в силу изолированности эмигрантского сообщества. Напротив, респонденты из Нового Света, страны которого охотно принимали иммигрантов, утверждали, что ассимиляция уже началась[74].
Подобно всем виктимным диаспорам, русское зарубежье мечтало о возвращении домой. Но, в отличие от еврейской, русская родина была населена и управлялась преимущественно представителями той же этнической группы. Такое положение дел — подкрепляемое усилившимися в условиях диаспоры процессами восстановления этнической идентичности — заставило русское зарубежье отмежеваться не только от иностранцев, но и от населения СССР. К началу коллективизации многие эмигранты, во-первых, утратили веру в скорое возвращение, а во-вторых, укрепились в мысли о том, что большевики настолько развратили советских граждан, что даже те из них, кто еще сопротивлялся режиму, утратили право называться русскими. В 1931 году баронесса опубликовала статью, в которой описывала моральное падение советской молодежи, с которой успела пообщаться за два года жизни при Советах. Напротив, девушки и юноши, жившие в эмиграции, воплощали в ее глазах патриотизм, смирение, чистоту, жизнерадостность и самоотверженность[75]. Один из ее бразильских респондентов писал: «Многие боятся, что за это время духовные свойства русского народа в Советской России так изменились, что, по возвращении, невозможно будет понять друг друга». Эту мысль дословно выразил другой эмигрант, беседовавший в 1940 году с взятыми финнами в плен солдатами; в течение десяти лет не видевший никого из советской России, он был удивлен тем, что понимает их русский[76]. Хотя концепция двух русских этносов, восходящих к одной нации, может показаться надуманной, аналогичный подход применялся некоторыми учеными к населению Восточной Германии. Кроме того, исследователи возвратной миграции (return migration), изучавшие в том числе обстоятельства возвращения эмигрантов в СССР и русских — в ближнее зарубежье, пришли в выводу, что этносам в веберианском смысле свойственно расщепляться при воссоединении диаспоры с отечественным населением[77].
Трудности, с которыми столкнулись респонденты баронессы при попытке определить русскую национальную идентичность, могут объясняться неопределенностью этой идентичности в дореволюционный период и сохранением сословной системы, которая вплоть до 1917 года препятствовала возникновению идеальных национальных типов. Некоторую роль в этом могла сыграть и ориентация русской знати на западноевропейскую культуру[78]. В то же время сравнение с другими диаспорами показывает, что ситуация русского эмигрантского сообщества была не вполне уникальна. Вопреки всей риторике диаспорического национализма, национальные идентичности в условиях диаспоры неустойчивы. К примеру, на протяжении двух тысячелетий жизни в диаспоре евреи были вынуждены постоянно переосмыслять свою идентичность, используя ресурсы духовного, культурного, территориального и расового характера[79]. Эксклюзивность диаспорического национализма может быть направлена как внутрь, так и вовне, а нередко игнорируемые исследователями и преуменьшаемые иммигрантами классовые различия не утрачивают в условиях диаспоры своей разобщающей силы[80]. Отдельные члены диаспоры часто видят в себе носителей рафинированной национальной идентичности, превосходящей по чистоте идентичность населения покинутой родины[81].
В диаспоре, перед лицом угрозы ассимиляции, индивиды вынуждены постоянно делать выбор в пользу той или иной национальной идентичности. Обычно мы плохо представляем себе то, как рядовые члены сообщества — в противоположность интеллектуалам и государственным деятелям — понимают свою принадлежность к той или иной нации. Проект баронессы показывает, что в русском зарубежье русская национальная идентичность, существование которой было необходимым условием сохранения и развития диаспоры, была предметом, которому широкие массы образованных эмигрантов (по крайней мере, их консервативная часть, вступившая в переписку) уделяли много внимания. Насущность ощущавшейся ими потребности принять участие в процессе создания новой нации эмигрантов становится еще более очевидной из их ответов, превосходивших по своему разнообразию вопросы, заданные баронессой[82]. Другие проекты по сбору информации также не ограничивались опросами интеллектуальных лидеров и непрофессиональных историков эмиграции: в эмигрантских архивах хранится множество альбомов, в которые рядовые члены диаспоры собирали вырезки из статей, в которых шла речь об эмигрантах, опубликованных преимущественно в эмигрантской прессе. Строители нации — как профессионалы, так и такие любители, как баронесса, обходившаяся без наемных чиновников из своего экстратерриториального народа, — были вынуждены обращаться напрямую к рядовым членам сообщества, выполняя жизненно важную для существования национального самосознания задачу по переписи населения. В условиях отсутствия государства эмигранты были глубоко убеждены в собственном праве лично определять и культивировать свою национальную идентичность и с готовностью откликались на призывы к этой деятельности.
Перевод с английского А. Логутова
[1] Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции: 1919—1939. М.: Прогресс-Академия, 1994; Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия: История и культурно- просветительная работа русского зарубежья за полвека (1920—1970). Paris: Librarie des cinq continents, 1971. День русской культуры был учрежден в день рождения Пушкина в 1926 году и праздновался ежегодно всей диаспорой. День русского ребенка был впервые отпразднован в русском зарубежье в 1931 году. О военных частях русского зарубежья см.: Robinson Р. The White Army in Exile, 1920— 1941. Oxford: Oxford University Press, 2002.
[2] Бунаков И. Что делать русской эмиграции // Гиппиус З.Н., Кочаровский К.Р. Что делать русской эмиграции. Париж: Родник, 1930; Гиппиус З.Н. Наше прямое дело // Там же. С. 14.
[3] Бунаков И. Указ. соч. С. 5, 8. Русские больницы и сиротские приюты уже существовали в Маньчжурии. Объединительные усилия генерала Хорвата описаны ниже. Уникальный по своему охвату и глубине проект баронессы имел параллели в эмигрантской среде. Аналогичные начинания варьировались от создания Исторического архива русского зарубежья в Праге в 1923 году до сбора более двух тысяч «автобиографий» русских школьников из четырех стран, написанных между 1923 и 1925 годами (см.: Дети русской эмиграции. М.: Терра, 1997). См. также хронологические, тематические и географические подборки эмигрантских писем, объявлений и вырезок из эмигрантской прессы, тщательно собранные по друзьям со всего мира бывшим белым офицером Абданк-Косовским, работавшим таксистом во Франции, где он периодически устраивал выставки своих подборок (Holy Trinity Orthodox Seminary. V.K. Abdank-Kossovskii papers. Ящики 2—54). Идея систематизации информации об эмигрантах при помощи анкет также не принадлежит баронессе. См. анкету из 68 пунктов, составленную по собственному почину пожилым эмигрантом Сергеем Николаевичем Сомовым и разосланную им русским эмигрантам в Парагвае из Парижа в начале 1930-х годов (ГАРФ. Ф. Р-6378. Оп. 2. Д. 1—4).
[4] И. Л. Живая летопись живых: дело баронессы М.Д. Врангель // Возрождение. 1930. 1 мая. Некоторые из полученных баронессой ответов были недавно опубликованы. См. ответы из Италии, Канады, Польши, Японии, Литвы и Румынии, а также два ответа из Латвии в: Квакин А.В. Документы из коллекции баронессы Марии Врангель Гувер- ского архива США по истории Российского зарубежья // Вестник архивиста. 2004. № 1. С. 263—295; № 2. С. 291— 314; № 3—4. С. 272—284; № 5. С. 311—325; еще один ответ из Италии с комментарием см.: Квакин А.В. Документы из коллекции баронессы Марии Врангель в архиве Гувер- ского института по истории русских в Италии // Русские в Италии: Культурное наследие эмиграции. М.: Русский путь, 2006. С. 129—137. Два ответа из Эстонии с комментарием см. в: Исаков С.Г. Записка А.К. Баиова «Русская эмиграция в Эстонии» // Балтийский архив. 2002. № 7. С. 212—2 43; Он же. Записка М.И. Соболева «Русские беженцы в Эстонии» (1929) // Труды русского исследовательского центра в Эстонии. 2001. № 1. С. 91—104.
[5] Другие ее проекты были посвящены в основном сбору автобиографических и биографических материалов среди представителей профессиональных сообществ (известных писателей, художников, музыкантов и т.д.), а не попыткам связаться со всеми эмигрантами. Биографический очерк баронессы и обзор ее проектов см. в: Шевеленко И. Материалы о русской эмиграции 1920—1930-х гг. в собрании баронессы М.Д. Врангель. Stanford: Dept. of Slavic Languages and Literature, 1995. Р. 11—51. Шевеленко полагает, что проект баронессы и другие объединительные инициативы совпали с периодом оптимизма среди эмигрантов по поводу скорого возвращения домой, что прямо противоположно мнению, высказанному в этой статье. В доказательство своей точки зрения Шевеленко приводит только одно секретное донесение ГПУ относительно настроений в эмигрантской общине Парижа.
[6] Она получила ответы из Абиссинии, Афганистана, Узбекистана, Алжира, Аргентины, Австрии, Австралии, Бельгии, Боливии, Бразилии, Болгарии, Канады, Китая, Конго, Коста-Рики, Чехословакии, Данцига, Дании, Египта, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Гоа, Великобритании, Греции, Гавайев, Голландии, Венгрии, Индии, Ирана, Ирака, Явы, Японии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мадагаскара, Марокко, Новой Зеландии, Норвегии, Палестины, Парагвая, Перу, Филиппин, Польши, Румынии, Испании, Швейцарии, Швеции, (Французского) Судана, Сирии, Туниса, Турции, США, Уругвая, Югославии. Не все из этих мест были независимыми странами (Данциг, Гавайи). Баронесса хранила корреспонденцию из Аляски в отдельной папке, которая потом была объединена сотрудниками Института Гувера с материалами по США. Баронесса создала каталог из 499 разделов для проекта (одновременно она занималась еще несколькими). Иногда она помещала все письма от одного человека в один раздел, иногда — разносила их по разным. Некоторые разделы содержали только ответы. Большая часть ответов была получена между 1928 и 1931 годами. Папки из архива Института Гувера содержат несколько писем, полученных после 1934 года, не включенных в каталог баронессы, но использованных нами в работе. Каталог содержится в Ящике 2 ее архива в Институте Гувера (далее — HILA).
[7] В некоторых случаях она просто просила респондента написать ей ответ на его усмотрение.
[8] Один из респондентов даже включил в ответ географическую информацию, как в настоящей переписи. См. «План русского Парижа», подробную карту с указанием всех русских организаций, магазинов и ресторанов (HILA. Мария Врангель. Ящик 52-10).
[9] Джераси Р.П. Окно на Восток. М.: Новое литературное обозрение, 2013.
[10] Boym S. The Future of Nostalgi. N. Y.: Basic Books, 2002. Р. 49—51.
[11] HILA. Мария Врангель. Предисловие. Ящик 1-10.
[12] Там же. Ящик 2-3 и особенно 50-3 (Французская афиша русских культурных мероприятий, помещенная для проекта в раздел «Франция»). Примеры этого явления в эмигрантской прессе см. в: Е. Б. Итальянцы о русской эмиграции // Возрождение. 1929. № 1462. 3 июня.
[13] Коренчевский В.Г. Почему нужно «деловое объединение русской эмиграции», и желательные основные положения его организации. Прага, 1929. С. 3, 5, 9.
[14] HILA. Мария Врангель. Ящик 57-4 (Янковский — М.Д. Врангель, 07.10.1932, 11.13.1932).
[15] Там же. Ящик 2-3 (М.И. Федорович — М.Д. Врангель, 10. 11.1929). l.3. Выделено Федоровичем.
[16] «Виктимная диаспора» — группа, изгнанная со своей родины и живущая в ожидании возвращения на родину: это традиционное понимание диаспоры. В последние десятилетия многие исследователи ставят под вопрос первенство этого определения. Русское зарубежье, как любая другая виктимная диаспора, вписывается в более современное и более широкое определение диаспоры как группы людей, поддерживающих коллективную идентичность при помощи любой комбинации следующих средств: языка, религии, обычаев или фольклора, восходящих ко времени их проживания на родине. Другие определения этого термина см. в: Cohen R. Global Diasoras: An Introduction. Seattle: University of Washington Press, 1997. В русле свойственной западным исследователям неосведомленности относительно русской диаспоры, Коэн ни разу не упоминает ни первую, ни вторую, более многочисленную, волну эмиграции из СССР.
[17] Генерал Хорват, управляющий КВЖД в Харбине с 1903 по 1920 год, возглавил объединительное движение на Дальнем Востоке. В письме другому лидеру эмиграции (от 1933 года) Хорват объясняет, что ввиду бессмысленности дальнейшей вооруженной борьбы с СССР он видит свою задачу в том, чтобы объединить всех эмигрантов против общего врага — большевиков. В ответ на вопрос о допустимости членства в организации бывших коммунистов Хорват говорит, что верные сыны России должны простить кающихся и что трудом во имя объединения бывшие коммунисты могут искупить свою вину перед Родиной и своими братьями. В интервью 1929 года Хорват дал свое определение русской нации: русский — это тот, кто остался верен национальным интересам России (Архив Бахметьева (далее BAR). Бумаги Востротина. Ящик 4 (Генерал Хорват — А.А. Пурину, 28.04.1933). ll.2-4); Генерал Хорват о положении на Дальнем Востоке. Шанхай, 1929. С. 2; Коренчевский В.Г. Почему нужно «деловое объединение русской эмиграции»... С. 3, 6. О предшествующей попытке «беспартийного» объединения, характеризовавшейся еще большей инклюзивностью, см.: Глебов С. «Съезды Зарубежной России» 1920-х годов и политика эмигрантского национализма: спасение либералов. Ab Imperio. 2000. № 3—4.
[18] HILA. Мария Врангель. Ящик 58-8 (Надежда Срезневская — М. Д. Врангель, 19.07.1931).
[19] Там же. Ящик 53-3 (Русская колония в Берлине в 1930 году). С. 1—2.
[20] HILA. Мария Врангель. Ящик 58-1 (П.В. Кротков — М.Д. Врангель, 17. 05.1930).
[21] La Capra D. Writing History, Writing Trauma. Baltimore, MD.: Johns Hopkins University Press, 2001. Р. 23.
[22] HILA. Мария Врангель. Ящик 59-4 (М.П. Горденко — М.Д. Врангель, 16.8.1933).
[23] Там же. Ящик 58-3 (16.09.1933).
[24] Там же. Ящик 56-2 (П.М. Черкез — М.Д. Врангель, 20. 12.1927).
[25] См. письмо, в котором Шанхай называется центром эмигрантской жизни на Дальнем Востоке, так как Харбин был оплотом Российской империи в Маньчжурии (HILA. Мария Врангель. Ящик 56-2 (П.М. Черкез — М.Д. Врангель, 02.04.1928)).
[26] HILA. Мария Врангель. Ящик 59-1 (Т. Лянцнов — М.Д. Врангель, 30.10.1930).
[27] Респонденты расходились во мнениях относительно единства быта русского меньшинства (этнических русских, живших на территориях, до 1917 года входивших в состав Российской империи). Белый офицер из Латвии писал, что русское меньшинство и эмигранты образовали единую группу (HILA. Мария Врангель. Ящик 54-5 (Владимир де Маркозофф — М.Д. Врангель, 6.06.1930). Респондент из соседней Эстонии, напротив, писал, что эти две группы имели мало общего друг с другом и образовали разные организациями. Он отметил, что его плохое знание жизни русского меньшинства не позволяет ему комментировать религиозную жизнь местной православной общины (Там же. Ящик 52-6 (М.И. Соболев — В.Д. Врангель, 18.12. 1929)).
[28] HILA. Мария Врангель. Ящик 58-3 (И. Шмальберг. Ответы на анкету. 26.05.1931). См. также письмо из Сербии: Там же. Ящик 55-9 (Сергей Палеолог —М.Д. Врангель, 23.11.1927).
[29] Там же. Ящик 58-3 (Щербинин — М.Д.Врангель, 12.06. 1930).
[30] Там же. Ящик 55-1 (С.П. — К. Сведения о русской эмиграции в Румынии (март 1928)).
[31] См. ответ из Японии: HILA. Мария Врангель. Ящик 57-4 (А. Летаев — М.Д. Врангель, 19.05.1929).
[32] Там же. Ящик 53-3 (Ф. Шлиппе — М.Д. Врангель, 20. 12.1927).
[33] Там же. Ящик 53-3 (Берлин, 1920—1922 годы); ящик 58-3 (Лехович — М.Д. Врангель, 1928), (Н.Н. Сведения. 27. 11.1927 и 26.12.1927).
[34] Там же. Ящик 53-10 (26.04.1929)
[35] Там же. Ящик 54-13 (недатированный и неподписанный машинописный отчет из 13 пунктов).
[36] Там же. Ящик 54-7 (М.В. Чепенская. Сведения. 1929).
[37] HILA. Мария Врангель. Ящик 54-7 (М.В. Чепенская. Сведения. 1929).
[38] Там же. Ящик 55-1 (Леонтовская. Русская эмиграция в Румынии. Июль 1929). С. 14.
[39] HILA. Мария Врангель. Ящик 59-5 (Я.К. Туманов — М.Д. Врангель, 7.8. 1930).
[40] Там же. Ящик 53-3 (А. Кочубей — М.Д. Врангель, 15.08.1.
[41] Там же. Ящик 58-6 (Т. Киселевский — М.Д. Врангель, 22. 03.1936).
[42] Это совпадало с целями объединительного движения генерала Хорвата. Оно включало 183 организаций бывших жителей Российской империи в Китае, исключая только евреев и социалистов. Были включены три мусульманские организации (BAR. Бумаги Восторина. Ящик 3, ll.1 -10).
[43] HILA. Мария Врангель. Ящик 55-1 (Леонтовская. Русская эмиграция в Румынии. Июль 1929. С. 8; ящик 56-2 (П.М. Черкез — М.Д. Врангель, 20.12,1927).
[44] Там же. Ящик 57-16 (С.А. Столбецова — М.Д. Вранегель, 11.5.1935).
[45] Там же. Ящик 54-15 (Бензенгре — М.Д. Врангель, 9.5.1930); ящик 58-8 (А. Кушелевский — М.Д. Врангель, 11.03.1929). С. 6; ящик 58-8 (И.Д. Покровский — М.Д. Врангель, 21.03.1.
[46] Там же. Ящик 58-8 (А. Кушелевский — М.Д. Врангель, 11. 03.1929). С. 6.
[47] HILA. Мария Врангель. Ящик 58-3 (М.П.Лазарев — М.Д. Врангель, 17. 07.1931).
[48] Там же. Ящик 55-3 (Д.И Кандауров. Сведения о русской эмиграции в Швеции, 20.4.1928).
[49] Там же. Ящик 54-1 (Н. Жуковский-Волынский — М.Д. Врангель, 9.05.1930).
[50] Там же. Ящик 56-2 (П.М. Черкез — М.Д. Врангель, 12.07. 1928).
[51] По сведениям одного из респондентов, на юге Японии русские выдавали себя за поляков, чехов, финнов или эстонцев, а татары называли себя «турками». Виной тому были советские коммунисты, называвшие себя «русскими» и агитировавшие на крупных заводах, тем самым навлекая презрение полиции и местного населения на всех русских (HILA. Мария Врангель. Ящик 57-4 (А. Турт. Сведения о русской эмиграции в Кобе и г. Осаке и Южной Японии, 1929)).
[52] HILA. Мария Врангель. Ящик 53-10 (С. Демидова, 21.12. 1931).
[53] Там же. Ящик 57-10 (В.И. Гаврилов — М.Д. Врангель, 20. 3.1928).
[54] HILA. Мария Врангель. Ящик 54-1 (Н. Жуковский-Волынский — М.Д. Врангель, 9.05.1930); ящик 58-1 (Несколько слов о Канаде).
[55] Там же. Ящик 53-3 (Кочубей — М.Д. Врангель, 15.08.1930).
[56] Там же. Ящик 56-2 (П.М. Черкез. Сведения о Русских беженцах в Шанхае за 1929 год).
[57] Пример см. в: Как пьет девичий молодняк? // Заря. 1929. № 79. 26 марта. С. 2. См. также конспект выступления проф. Г.К. Гинса в Харбине 15 ноября 1933 года, в котором, сравнивая «старый» и «новый» миры, он говорил о «мужском облике женщины» в СССР (HILA. Григорий Гинс. Ящик 6-1).
[58] Pratt ML. Imperial Eyes: Travel Writing and Transcultura- tion. London: Routledge, 1992.
[59] HILA. Мария Врангель. Ящик 58-8 (С.В. Голубинцев — М.Д. Врангель, 24.12.1928).
[60] Там же. Ящик 59-11 (23.10.1935).
[61] Там же. Ящик 58-1 (Несколько слов о Канаде). Большинство уехавших из Российской империи до 1917 года не принадлежали к русскому этносу. 10 455 человек переехало в США в 1908—1909 годах, в тот же период 2/5 этнических русских вернулись из США в Россию. Однако многие крестьяне, эмигрировавшие до 1917 года и считавшие себя русскими, были карпато-русинами из Австро- Венгрии, говорившими на диалекте великорусского языка, и гипотетически могли увеличить численность русской эмиграции. До революции Русская православная церковь успешно способствовала переходу русинов из грекокато- личества в православие. Еще больше этнически русских крестьян (а также крестьян из западной России, считавших себя русскими, говоривших по-русски и исповедовавших православие) переехали в Аргентину. См.: Пат- канов С. Итоги статистики иммиграции в Соединенные Штаты Северной Америки из России за десятилетие 1900—1909. Спб., 1911. С. 26, 58; Magocsi P.R. Made or Remade in America?: Nationality and Identity Formation Among Carpathno-Rusyn Immigrants and their Descendants // Magocsi P.R. The Persistence of Regional Cultures: Rusyns and Ukrainans in their Carpathian Homeland and Abroad. N. Y.: Columbia University Press, 1993. P. 165; Dy- rud K.R. The Quest for the Rusyn Soul: The Politics of Religion and Culture in Eastern Europe and in America, 1890— World War I. Philadelphia: Balch Institute Press, 1992; РГИА. Ф. 796. Оп. 191. 6 отд. 1 ст. Д. 148, 1910 год (По донесению настоятеля Буэнос-Айресской церкви прот. Из- разцова за 1908 год).
[62] HILA. Мария Врангель. Ящик 58-8 (И.Д. Покровский — М.Д. Врангель, 21.03.1931).
[63] Там же. Ящик 59-5 (Я.К. Туманов — М.Д. Врангель, 7.8. 1930).
[64] Там же. Ящик 55-9 (рукопись «Сербия», 1928). С. 2—3.
[65] Об этих вопросах см. в: HILA. Мария Врангель. Ящик 58-8 (Н.В. Срезневская — М.Д. Врангель, 19.07.1931).
[66] HILA. Мария Врангель. Ящик 58-6 (Б. Шуберт, 16.07. 1929). Еще один пример сохранения языка и культуры см. в ответе из Италии (ящик 54-3, без назв. С. 6 рукописи, 27.2.1929). Некоторые лидеры эмиграции включали в русское зарубежье всех русских, оказавшихся за границей в 1917 году (в том числе военнопленных — группу, респондентами не учитывавшуюся). См.: Кочаровский К.Р. Что может зарубежная Россия? // Гиппиус З.Н., Кочаров- ский К.Р. Что делать русской эмиграции. С. 22. Историки, занимавшиеся русскими в Центральной Азии, также обнаружили, что в колониальных обстоятельствах, аналогичных жизни за границей, крестьяне легко поддавались ассимиляции; специалисты по Индонезии наблюдали то же самое в случае тамошних голландских поселенцев. См.: SahadeoJ. Russian Colonial Society in Tashkent, 1865— 1923. Bloomington, IN: Indiana University Press, 2007. Р. 75; Stoler L.A. Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule. 2nd ed. Berkeley, CA: University of California Press, 2010.
[67] HILA. Мария Врангель. Ящик 53-3 (Русская колония в Берлине в 1930 году). С. 6, 9.
[68] О рабочих и студентах см.: HILA. Мария Врангель, Ящик 51-4 (Русские беженцы в Болгарии, не ранее 1927. С. 2). О рабочих см. ящик 57-7 (Т. Филиппенко — М.Д. Врангель, 17.04.1928. Из Сирии); ящик 57-22 (В.И. Лебедев — М.Д. Врангель. 29.06.1930. Из Туниса). О студентах см. ящик 58-1 (Несколько слов о Канаде) и 50-2 (М. Кара- теев — М.Д. Врангель, 1931. Из Бельгии).
[69] Chatterjee Р. Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse. Minnesota, MI: University of Minnesota Press, 1986; Idem. The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. Princeton: Princeton University Press, 1993.
[70] HILA. Мария Врангель. Ящик 58-1 (Несколько слов о Канаде); ящик 59-8 (Русская колония в Уругвае, 29.08.1931).
[71] Там же. Ящик 54-7 (М.В. Чепенская. Сведения, 1929); ящик 59-5 (Я.К. Туманов — М.Д. Врангель, 31.10.1930).
[72] HILA. Мария Врангель. Ящик 59-5 (Георгий Смагайлов — М.Д. Врангель, 16.7.1930).
[73] Там же. Ящик 58-1 (Несколько слов о Канаде); ящик 54-10 (Н. Жуковский-Волынский — М.Д. Врангель, 19.05.1930).
[74] Несколько примеров см. в: HILA. Мария Врангель. Ящик 55-7 (Тарачков. Сведения о русской эмиграции в Турции, 1929); ящик 59-5 (Я.К. Туманов — М.Д. Врангель, 07.08. 1930. Из Парагвая); ящик 57-4 (Д. Арбузов — М.Д. Врангель, 26.09.1928. Из Японии); ящик 56-2 (Н.А. Иванов. Сведения о Русских Эмигрантах по городу Шангаю, 1929); ящик 59-8 (Русская колония в Уругвае, 29.08.1931).
[75] Врангель М. Наше будущее // Acta Wrangelinana. 1931. № 1. С. 32—33.
[76] HILA. Мария Врангель. Ящик 58-8 (Н.В. Срезневская — М.Д. Врангель, 10.06.1931). С. 20; Лодыженский Ю.И. Что принесли с собой военно-пленные из России // Северянин. 1940. № 6. С. 86—87. Несколько респондентов баронессы выражают сомнения в скором возвращении на родину. См., например, два ответа из Коста-Рики и Румынии: HILA. Мария Врангель. Ящик 59-4 (М.П. Горденко — М.Д. Врангель, 16.08.1933); 55-1 (Леонтовская. Русская эмиграция в Румынии, июль 1929. С. 23). Русская община в Шанхае обсуждала этот вопрос в местной русскоязычной прессе в конце 1920-х—начале 1930-х годов в контексте выбора между иностранными и эмигрантскими школами. См.: Чжичэн В. История русской эмиграции в Шанхае. М.: Русский путь, 2008. С. 414—418.
[77] Marc Н. An East German Ethnicity? Understanding the New Division of Unified Germany // German Politics and Society.1. Winter. Vol. 13. № 4. P. 49—70; Manchester L. Repatriation to a Totalitarian Homeland: The Ambiguous Alterity of Russian Repatriates from China to the U.S.S.R // Diaspora: A Journal of Transnational Studies. 2007. Fall/Winter. Vol. 16. № 3. Р. 353—388; Diasporic Homecomings: Ethnic Return Migration in Comparative Perspective / Ed. by Ta- keyuki Tsuda. Stanford, CA: Stanford University Press, 2009. P. 7, 11, 16; Kolts0 P. The New Russian Diaspora — an Identity of its Own? Possible Identity Trajectories for Russians in the Former Soviet Republics // Ethnic and Racial Studies.1 July. Vol. 19. № 3. Р. 609—639.
[78] О неопределенности русской национальной идентичности см.: Хоскинг Д. Россия: народ и империя (1552—1917). Смоленск: Русич, 2001. С. 6—14. О роли сословной системы в ослаблении национальной идентичности в поздней Российской империи см.: Манчестер Л. Cельские матушки и поповны как «агенты просвещения» в российской деревне: позднеимперский период // Там, внутри: практики внутренней колонизации в культурной истории России / Под ред. А. Эткинда, Д. Уффельмана и И. Кукулина. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 317—348, в особенности с. 335—337. По-видимому, русская национальная идентичность была ослаблена непрерывной колониальной экспансией, в ходе которой местные национальные элиты оказывались русским элитам ближе, чем русские крестьяне, перебиравшиеся на новые территории. См.: Sa- hadeo J. Russian Colonial Society in Tashkent, 1865—1923. P. 71, 108—136.
[79] См.: Butler-Smith А.А. Diaspora Nationality vs. Diaspora Nationalism: American Jewish Identity and Zionism after the Jewish State // Israel Affairs. 2009. Vol. 15. № 2. Р. 159; Religion or Ethnicity? Jewish Identities in Evolution / Ed. by Zvi Gitelman. New Brunswick, N. J.: Rutgers University Press, 2009.
[80] См., например: Winland D.N. We are Now a Nation: Croats between «Home» and «Homeland». Toronto: Toronto University Press, 2007. Р. 69—74; Parekh В. Culture and Economy in the Indian Diaspora. London, 2003. Р. 168.
[81] Несколько примеров см. в: Schultz Н. The Palestinian Diaspora. London: Routledge, 2003. Р. 68; MalkkiL.H. Purity and Exile: Violence, Memory, and National Cosmology among Hutu Refugees in Tanzania. Chicago: University of Chicago Press, 1995; Understanding Canada. A Multidisciplinary Introduction to Canadian Studies / Ed. by W. Metcalfe. N.Y., 1982. P. 324.
[82] Некоторые респонденты отвечали только на некоторые вопросы, по своему выбору. Кто-то писал очерки — иногда весьма пространные — на тему русской эмиграции в «своих» странах. Наконец, третьи (в особенности жители «экзотических», по выражению самих эмигрантов, стран Азии, Африки и Южной Америки, в которых эмигрантские организации были немногочисленны), вместо того чтобы отвечать на вопросы, писали очерки истории стран своего проживания и подробные автобиографии, связывая таким образом свою личную историю с историей эстратерриториальной нации.
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Еврейская космополитичная художественная диаспора во Франции в первой половине ХХ века: механизмы самосохранения и конструирования памяти
Алек Эпштейн
Еврейская космополитичная художественная диаспора во Франции в первой половине ХХ века:
МЕХАНИЗМЫ САМОСОХРАНЕНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ ПАМЯТИ[1]
I
Одной из самых резонансных выставок, прошедших в 2012—2013 годы во Франции и в Италии (вначале она была открыта в Париже, затем — в Милане и в Риме), стала экспозиция «Модильяни, Сутин и проклятые художники». Учитывая, что как во Франции, так и в Италии культурно-выставочная жизнь происходит почти исключительно на государственных языках этих стран, не приходится удивляться тому, что каталоги и буклеты были изданы лишь по-французски и по-итальянски; не только на русском, но даже и на английском никаких публикаций организаторами выпущено не было. Об этом можно лишь сожалеть, ибо речь идет об экспозиции поистине исключительной. В ней были представлены работы целой группы художников (помимо указанных в названии), в основном — выходцев из стран Восточной и Центральной Европы, которые активно участвовали в художественной жизни Франции начала ХХ века и которых теперь принято относить к так называемой «Парижской школе».
Почти никто из художников, работы которых были представлены на этой выставке, не родился во Франции, т.е. все они — представители художественных диаспор. Проблема, однако, состоит в том, что определить, к каким же диаспорам принадлежали художники «Парижской школы» и где располагались те метрополии, с которыми имеет смысл их идентифицировать, весьма затруднительно. Сегодняшнее понимание диаспор и метрополий исходит, как правило, из актуальных границ государств, причем государств ныне существующих, что крайне запутывает ситуацию, затрудняя понимание места различных социально-культурных феноменов в их эпохах. Италия может гордиться Амедео Модильяни, причисляя его к «своей» диаспоре, но австро-венгерской диаспоры не существует в связи с исчезновением этой империи с карты мира, поэтому непонятно, какая страна должна гордиться «своим» Моисеем Кислингом (который, вообще говоря, родился и вырос в Кракове, т.е. на территории современной Польши, но тогда, когда Краков входил в состав Австро-Венгрии)? Можно ли считать этого художника представителем польской диаспоры? Какая страна должна считать «своим» Рудольфа Леви, родившегося в Штеттине и выросшего в Данциге, бывших тогда частью Германии, но в настоящее время являющихся польскими городами Щецин и Гданьск? Мыслимо ли относить его, никогда не жившего в Польше и не владевшего польским языком, к деятелям искусства польского зарубежья — и разумно ли считать его по факту рождения «немцем», если именно вследствие того, что немцы не признали его таковым, он был в 1944 году депортирован в Освенцим, где и погиб? Правомерно ли относить к «русскому зарубежью» Мане-Каца, родившегося в Кременчуге и учившегося в художественной школе в Киеве, на территории нынешней Украины, Исаака Анчера, родившегося в бессарабской деревне Пересечино, или Хаима Сутина, выросшего в Смиловичах под Минском, на территории нынешней Беларуси? С другой стороны, мыслимо ли в принципе относить этих — и других — людей к представителям украинской, молдавской и белорусской художественных диаспор, если в период их жизни в Кременчуге, Пересечине и Смиловичах ни украинской, ни молдавской, ни белорусской государственности не существовало в принципе?
Всего в экспозиции были представлены 122 работы, собранные почти столетие назад одним-единственным человеком — Йонасом Неттером (Jonas Netter, 1868—1946). Куратор выставки Марк Рестеллини так охарактеризовал художников, работы которых экспонировались на ней: «Их мятущиеся души выражали себя с помощью живописи, которая питалась их отчаянием. В конце концов, их искусство было не польским, болгарским, итальянским, русским или французским, а абсолютно оригинальным, в Париже они нашли свои особенные средства выражения, с помощью которых смогли передать свое видение, чувства и мечты. Эти годы были годами эмансипации и потрясений, подобных которым было немного в истории искусства. Везде в Европе продолжалась эстетическая революция, послужившая прелюдией для эволюции морали. И это в Париже — в единственном месте на земле, где повстанческое движение имеет право на гражданство. Сначала на Монмартре и Монпарнасе, где эти художники — все евреи — вытянули свой счастливый билет. Евреем был и Йонас Неттер, влюбленный в искусство и живопись, ставший увлеченным коллекционером и проницательным открывателем новых талантов, благодаря встрече с польским арт-дилером и поэтом Леопольдом Зборовским, также евреем по происхождению»[2].
Вообще, такого рода анализ — сам по себе большая редкость. Сложилась парадоксальная ситуация: так называемая «Парижская школа» первой трети ХХ века «школой» не была ни в каком смысле слова, а художники, традиционно относимые к ней, не были объединены вокруг какой бы то ни было институции; даже в легендарном ныне «Улье» на Монпарнасе жили отнюдь не все. «Искусствоведы придумали этикетку "Парижская школа"; пожалуй, вернее сказать — страшная школа жизни, а ее мы узнали в Париже», — точно обозначил проблему отсутствия какого-либо общего эстетического знаменателя умудренный жизнью Илья Эренбург (1891 — 1967)[3]. Общим для значительного большинства этих художников был факт их принадлежности к некоей общности, к которой они как раз принадлежности чувствовать не хотели, а именно — к восточно- и центральноевропейской еврейской диаспоре. Марк Шагал и Михаил Кикоин, Пинхус Кремень и Хаим Сутин, Осип Цадкин и Ханна Орлова, Жюль Паскен и Исаак Анчер, Мане-Кац и Исаак Добринский, Абрам Минчин и Иссахар-Бер Рыбак, Айзик Федер и Анри Эп- штейн, Моисей Кислинг и Амедео Модильяни — к этой диаспоре принадлежали они все, ибо все до единого родились в еврейских, как правило, очень традиционных семьях, причем все до единого — далеко от Парижа, за пределами Франции. Почти про всех них можно сказать, что они уехали в космополитичный Париж, чтобы перестать быть евреями в традиционном смысле этого слова. Иудаизм запрещает всякое изображение человека. Заповедь «не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли» подавляла развитие изобразительного искусства в еврейской среде. В Средние века иудейские религиозные законы против искусства стали еще более жесткими: был введен запрет на изготовление выпуклых изображений не только человека, но также льва, орла и быка; запрещались также изображения солнца, луны и звезд. В Еврейской энциклопедии, выходившей с 1906 по 1913 год, как раз когда во Франции оказались почти все художники и скульпторы, которых постфактум стали относить к «Парижской школе», справедливо отмечалось: «Обозревая всю еврейскую историю, мы видим, что пластическое искусство только временами проникало к евреям из соседних стран, но никогда не находило среди них благоприятной почвы для своего развития. Исторические судьбы еврейского народа, политический и религиозный быт его и характер его миросозерцания препятствовали тому, чтобы искусство этого рода свило себе гнездо среди него»[4]. Учитывая, что еврейство в традиционном понимании это одновременно и конфессия, и этнос (в иврите нет разделения между словами «еврей» и «иудей»), уроженцы еврейских семей, выбиравшие путь художников и скульпторов, фактически уже самим этим выбором порывали с той этнокон- фессиональной средой, к которой они принадлежали.
Натали Хасан-Брюне отмечала, что «нигде, кроме Парижа, эти еврейские художники не могли оторваться от своего происхождения»[5]. Двое из этих художников — Айзик Федер (Aizik Feder, 1885—1943) и Анри Эпштейн (Henri Epstein, 1891—1944), три работы которых представлены на выставке, были депортированы и погибли в Освенциме, остальные, среди которых Михаил (Мишель) Кикоин, Пинхус Кремень, Исаак Анчер, Зигмунт Ландау и другие, смогли выжить в годы Холокоста, продолжив творить и на протяжении многих лет после окончания Второй мировой войны.
В результате сложилась удивительная ситуация: символом космополитичного духа художественной Франции первых десятилетий ХХ века была объявлена «Парижская школа»: тут и уроженец Италии Амедео Модильяни, и выходцы из Австро-Венгрии Моисей Кислинг, Александр Хеймовиц и Вилли Эйзеншитц, и приехавшие из Российской империи Марк Шагал (настоящие имя и фамилия — Мойше Сегал), Хаим Сутин и Мане-Кац (Мане Лейзерович Кац), и эмигрировавший из Болгарии Жюль Паскен (Юлиус Мордехай Пинкас), и родившийся в Германии Рудольф Леви, есть даже отдельные коренные граждане Франции, в частности Макс Жакоб, — воистину интернационал![6]Однако то, что предстает примером дивной полифонии с точки зрения гражданского происхождения, оказывается почти полностью однородным с точки зрения этноконфессиональной: в Париж заниматься искусством бежали (иногда в прямом смысле слова) в основном евреи, пусть и из разных стран Восточной и Центральной Европы. Речь идет о диаспоре, чья идентичность была сконструирована постфактум, исходя из доминирующей сегодня как во Франции, так и в США концепции «гражданской нации». Национальное многоголосие «Парижской школы» — в значительной мере иллюзия, являющаяся следствием того, что в английском и французском языках понятие «нация» означает то, что в русском языке принято называть «гражданством». Когда разные авторы пишут о космополитичной атмосфере «Парижской школы», они фактически анализируют очень своеобразное и характерное явление — еврейский космополитизм эпохи, оказавшейся периодом, предшествовавшим Холокосту, жертвами которого стали и несколько десятков живших и работавших на Монпарнасе и на Монмартре художников, в том числе и Макс Жакоб (Max Jacob, 1876—1944), погибший то ли в связи с тем, что был евреем, то ли из-за того, что был гомосексуалом. В годы нависшей над ними смертельной опасности Франция смогла — и захотела — защитить очень немногих из художников «Парижской школы», даже когда речь шла об уроженцах страны.
При этом вышеупомянутая Натали Хасан-Брюне не сильно погрешила против истины, указав, что в целом «художники, прикованные к своей этнической принадлежности, редко ассоциировались с французским искусством, а если они становились известными, то чаще всего благодаря своей жизни и легенде, которую она порождала (как это было с Модильяни, Сутином, Паскеном), нежели своим произведениям»[7]. Обойдя книжные магазины всех крупнейших парижских музеев, замечу, что самая представительная подборка книг об этих живописцах, без сомнения, находится не в Лувре, не в Музее Орсэ и не в Центре Помпиду, а в киоске Музея искусства и истории иудаизма. Однако этот музей посвящен не просто еврейской, а французской еврейской истории. Значит ли это, что Амедео Модильяни, проживший в Италии двадцать с половиной из тридцати пяти лет своей жизни, или Рудольф Леви, не только родившийся в Германии, но и служивший в Первой мировой войне в немецкой армии, а в 1930-е годы последовательно живший в Германии, Испании, США и Италии (где он, собственно, и был арестован и откуда депортирован в Освенцим), посмертно оказались причислены к французскому еврейству и французскому искусству в силу того, что пребывание в этой стране оказало огромное влияние на развитие их художественных дарований? Что все-таки определяет принадлежность к той или иной диаспоре, какая страна — или какие страны — были для этих художников метрополиями?..
II
Коль скоро «школа», пусть и никогда не существовавшая, была названа искусствоведами «Парижской», а парижский Музей искусства и истории иудаизма предлагает книги и альбомы едва ли не обо всех художниках, к этой «школе» относимых, постараемся все же разобраться, какое место занимали эти люди во французском искусстве. Рассмотрение вопроса о том, как эти художники при жизни находили свое место в среде музеев и галерей Франции, приводит к небезынтересным выводам. Точнее — и честнее — было бы сказать, что этого места они при жизни почти не находили. У Амедео Модильяни (Amedeo Modigliani, 1884—1920) не было фактически ни одной прижизненной выставки, кроме экспозиции, открытой лишь на несколько часов в галерее Берты Вейль. Первая персональная выставка Хаима Сутина (Chaim Soutine, 1893—1943) состоялась в 1935 году в Чикаго, во Франции же она прошла только в 1945 году, после окончания Второй мировой войны, когда художника уже не было в живых, выставка же в парижском музее (а не в частной галерее) впервые прошла в Музее Оранжери лишь в 1973 году[8]. Не намного лучше обстояли дела у остальных художников, за исключением, правда, более успешного Марка Шагала. За девяносто лет жизни и более чем шестьдесят лет творческой деятельности Пинхуса Кременя (Pinchus Kremegne, 1890—1981) ни в одном французском музее не было организовано ни одной его персональной выставки, его картины экспонировались только в галереях, хотя и сравнительно часто: с 1919 по 1936 год в Париже были организованы девять экспозиций его работ, после чего последовал десятилетний перерыв[9]. В отсутствие интереса к их творчеству со стороны государственных и региональных музеев судьбоносное значение для этих художников имело присутствие в их жизнях коллекционеров и галеристов, ценивших и готовых поддерживать их. Об этих людях пишут незаслуженно редко, хотя, как представляется, изучение их судеб и систем их взаимоотношений с художниками позволяет понять многое.
Коль скоро отправной точкой для настоящей статьи стала выставка картин, происходящих из собрания Йонаса (Жака) Неттера, уместно попробовать реконструировать личность этого человека. Хотя он умер менее семидесяти лет назад, о нем известно очень немногое. Й. Неттер родился в семье преуспевающего страсбургского коммерсанта еврейского происхождения. Когда ему было шесть лет, семья перебралась в Париж. В ходе подготовки выставки организаторы смогли найти лишь одну его фотографию, причем и ее не удалось точно датировать, но, по всей видимости, она была сделана около 1900 года, т.е. задолго до того, как было положено начало его поразительной коллекции. Насколько известно, молодой человек был большим меломаном и сам играл на фортепиано, но занимался бизнесом, был торговым представителем — до тех пор, пока случай не изменил его жизнь.
В 1915 году Йонас Неттер отправился в префектуру полиции для того, чтобы продлить действие своих документов. Его принял префект Леон Замарон (Leon Zamaron, 1872—1955), в кабинете которого он увидел полотно Мориса Утрилло (Maurice Utrillo, 1883—1955) и выразил восхищение этой работой. Л. Замарон, о котором в книге «Повседневная жизнь Монпарнаса в великую эпоху, 1905—1930» говорится, что «он действительно любил искусство и, не имея лишних денег, во многом отказывал себе, чтобы покупать картины»[10], оживился, признавшись, что Й. Неттер — первый, кто обратил внимание на эту картину и оценил ее. Мы не знаем доподлинно, задумывался ли Й. Неттер до этого о коллекционировании картин (ему было 43 года, юношеского сумасбродства быть уже не могло), или же встреча с Л. Замароном действительно стала для него неожиданным поворотным моментом. Как бы то ни было, именно после этого начинается история Й. Неттера — коллекционера и мецената. Оценив вкус своего посетителя, префект пообещал познакомить его с Леопольдом Зборовским (Leopold Zborowski, 1889—1932) — коллекционером и арт-дилером, который был знаком со многими художниками. Состоявшееся вскоре знакомство стало началом многолетнего сотрудничества двух поклонников живописи.
Людьми они при этом были очень и очень разными. Эмоциональный и общительный Л. Зборовский, поэт, приехавший изучать словесность в Сорбонне, которого знала вся парижская богема, не умел рационально обращаться с деньгами, вел несдержанный образ жизни, вследствие чего нередко оказывался в долгах, несмотря на то что зачастую недоплачивал художникам. В России о нем первым написал в своих знаменитых мемуарах Илья Эренбург: «Зборовский сам был неудачником: молодой польский поэт приехал в Париж, мечтал о рейсе на волшебную Цитеру и оказался на мели — перед чашкой кофе в "Ротонде". Денег у него не было; он жил с женой в маленькой квартире; Модильяни там часто работал. А Зборовский брал под мышку его холсты и с утра до ночи рыскал по Парижу, тщетно пытаясь соблазнить работами итальянского художника настоящих торговцев картинами»[11]. Как раз Й. Неттера он этими картинами и «соблазнил»; И.Г. Эренбург, видимо, не знал об этом, потому даже не упомянул его имя в своей многотомной книге воспоминаний. Прагматичный, сдержанный, вежливый, организованный и честный Й. Неттер был во многих отношениях антиподом Зборовского. Мы практически ничего не знаем об их взаимоотношениях, но, по всей видимости, Л. Зборовский подкупил Й. Неттера собственной глубочайшей убежденностью в талантах художников, с которыми он сотрудничал. Первоначально Й. Неттера привлекали полотна художников-импрессионистов, однако они к тому времени стоили дорого и были ему уже не по карману. В то же время работы А. Модильяни, Х. Сутина и других монпарнасских художников того времени практически ничего не стоили — не забудем, что в последнем «Осеннем салоне», в котором он участвовал, прошедшем в 1919 году, А. Модильяни выставил четыре работы, из которых не была продана ни одна. Й. Неттер был в то время практически единственным человеком, не принадлежавшим к числу родственников А. Модильяни, Х. Сутина и М. Утрилло, который финансово поддерживал их, исходя из убежденности в масштабности их художественного дарования. Именно в связи со встречными обязательствами художников перед Й. Неттером появились многие работы, входящие сегодня в пантеон наследия того, что позднее было условно объединено под названием «Парижской школы».
Совместно с Л. Зборовским Й. Неттер начал поддерживать бедствовавших художников, получая взамен их работы. Ценил он работы художников не только еврейского происхождения (сведений об отце вышеупомянутого Мориса Утрилло нет, но его мать, Сюзан Валадон, еврейкой не была, при этом в единственном прижизненном интервью, которое Й. Неттер дал о его отношениях с художниками и собранных им работах, имя М. Утрилло звучит чаще остальных[12]), но все же почти все живописцы, работы которых он приобретал, кого поддерживал и с кем переписывался, родились в еврейских семьях.
Л. Зборовский с Й. Неттером платили художникам что-то вроде зарплаты — за обязательство поставлять определенное число картин определенного размера каждый месяц, и хотя эти условия, очевидно, ограничивали свободу творческого самовыражения живописцев, отказаться они не могли, ибо никто другой не предлагал им даже этого, особенно в трудные годы Первой мировой войны. Художники писали Й. Неттеру довольно-таки сервильные письма, спрашивая, сколько работ в каком жанре он ждет от них в этом месяце, а сколько — в следующем. Рассматривая шедевры, экспонировавшиеся на выставках в Париже, Милане и Риме, стоит помнить о том, в каких условиях они создавались. Й. Неттер изначально не был филантропом, он платил вперед за создание работ художникам, которых смог оценить раньше, чем их оценили другие, в том числе много более состоятельные, коллекционеры.
Первым живописцем, которому он начал оказывать поддержку вместе со Зборовским, стал Амедео Модильяни. Самая ранняя работа А. Модильяни в коллекции Й. Неттера — небольшой рисунок «Кариатида», датируемый 1913 годом. В начале 1910-х годов А. Модильяни выполнил несколько подобных рисунков, в которых в той или иной степени обыгрывается обнаженная женская фигура, заключенная в узкие композиционные рамки. Рисунок из коллекции Й. Неттера отличается подчеркнутой выразительностью; выполненный в синем карандаше, он характеризуется крайне декоративной подачей фигуры. Пространственная глубина в рисунке показана опосредованно — фон лишь немного обозначен вдоль контура фигуры.
Кто именно познакомил А. Модильяни с Л. Зборовским, толком неизвестно — по одним сведениям, это был М. Кислинг, по другим — первая жена художника Фужиты, Фернанда Барри[13]. Как бы там ни было, в 1915 году А. Модильяни поселился в квартире Леопольда и Ханки Зборовских. Художник также получал от Л. Зборовского содержание в размере пятисот франков в месяц, а также оплату расходов на услуги натурщиц и художественные материалы. По всей видимости, основную часть этих расходов в реальности нес Й. Неттер, передававший деньги Л. Зборовскому. Первоначально деньги предоставлялись Л. Зборовскому в форме займов, которые последний, не всегда имея возможность вернуть, порой возмещал за счет полотен, создаваемых А. Модильяни.
В 1917 году Л. Зборовский сделал попытку организовать первую выставку работ А. Модильяни, сумев заинтересовать его творчеством владелицу магазина художественных изделий Берту Вейль, которая в то время только что переехала со своей галереей в новое помещение близ Оперы. 3 декабря 1917 года в этой галерее собралась группа гостей, приглашенных на вернисаж; это была первая персональная выставка 33-летнего А. Модильяни, на которой было представлено около тридцати рисунков и картин. Чтобы привлечь больше публики, Л. Зборовский выставил на витрину два созданных художником обнаженных женских портрета, в самом деле обративших на себя внимание прохожих. К несчастью для организаторов выставки, помещение галереи находилось прямо напротив полицейского участка, куда сразу же вызвали Берту Вейль. Под угрозой конфискации работ полицейскими она была вынуждена снять все картины с экспозиции. Сложно сказать, что именно так возмутило чопорных полицейских, поскольку вся история мировой живописи полна обнаженных женских портретов: достаточно вспомнить «Венеру Урбинскую» Тициана, «Маху обнаженную» Гойи, «Большую одалиску» Энгра, «Олимпию» Эдуарда Мане... Однако полицейские редко имеют склонность к ведению искусствоведческих дебатов, а влиятельных покровителей, которые бы могли и хотели вступиться за А. Модильяни и его творчество, не нашлось.
Берта Вейль (Berthe Weill, 1865—1951) приехала в Париж из Эльзаса и училась у антиквара, а когда тот умер, заняла у его вдовы 375 франков и открыла свое дело. Сначала она выставляла старинные вещи, серебро, миниатюрные изделия, приносимые ей на хранение, а потом начала продавать литографии Оноре Домье, Анри Тулуз-Лотрека, Одилона Редона. Вскоре, однако, она пошла значительно дальше, благодаря чему вошла в историю искусства как первый человек, еще в самые первые годы ХХ века выставлявший работы Рауля Дюфи, Пабло Пикассо и Анри Матисса — тогда, когда они были еще совсем никому не известны, а она только открыла свою первую галерею — крохотный магазинчик в доме 25 по улице Виктора Массе. 8 марта 2013 года мэрия Парижа открыла на этом доме мемориальную доску, на которой высечены следующие слова: «По этому адресу Берта Вейль открыла в 1901 году первую художественную галерею для продвижения молодых художников. Ее поддержка стала условием обретения известности самыми передовыми современными художниками». Ж.-П. Креспель отмечал: «Исключительно честная, она однажды отказалась купить у пьяного Утрилло гуаши по пять франков за штуку, потому что не хотела пользоваться его состоянием. Весьма неприхотливая, она спала в чуланчике, питалась овощами и компотом, которые варила тут же, в галерее». При этом «денег у нее всегда было в обрез, и ей часто приходилось закладывать свои не слишком богатые драгоценности»[14].
Ее галерея просуществовала до 1939 года. Берта Вейль выставляла, конечно, не только художников еврейского происхождения, но все же нельзя не отметить, что она пропагандировала многих их них. Среди живописцев и скульпторов, работы которых она выставляла, — Осип Цадкин и Макс Жакоб, Вилли Эйзеншитц (1889—1974) и Александр Гарбель (1903—1970), Марк Шагал и Амедео Модильяни...[15] Не будет лишним упомянуть и то, что значительное влияние на формирование интереса Берты Вейль к современной живописи и графики оказал искусствовед Роже Маркс (Roger Marx, 1859—1913) — как и она, он был уроженцем Франции, а не эмигрантом (он родился в Нанси), но также еврейского происхождения.
Так сложилось, что в памяти потомков Берта Вейль долгие годы находилась в тени другой женщины еврейского происхождения, ставшей широко известной именно в силу поддержки ею парижских художников, в особенности, хотя и не только, фовистов и кубистов — речь идет, конечно, о Гертруде Стайн (Gertrude Stein, 1874—1946). Вместе со старшим братом Лео (1872— 1947) они приехали в Париж из США в 1903 году, уже попутешествовав по Европе, и, не будучи стесненными в средствах, начали в больших количествах приобретать произведения искусства. Начав с покупки работ Поля Гогена, Поля Сезанна и Огюста Ренуара, брат и сестра быстро переключились на более молодых художников. По словам Ж.П. Креспеля, «Лео, человек большой эрудиции и тонкого ума, находил новаторов, отбирая у них наиболее значительное и оригинальное»[16]. В 1905 году брат и сестра купили первые полотна Анри Матисса (его работы также активно покупали их старший брат Майкл с супругой Сарой, жившие в Париже более тридцати лет, до 1935 года) и Пабло Пикассо (с ним Гертруда сохранила близкие отношения на протяжении последующих сорока лет, а созданный им ее портрет широко известен), за которыми последовали многие другие: интерес к кубизму Гертруда Стайн сохранила на всю жизнь[17]. В 1914 году брат и сестра разъехались: она осталась во Франции, он перебрался в Италию; насколько известно, за всю последующую жизнь они встретились всего единожды, причем случайно. По своему социальному происхождению Стайны были бесконечно далеки от нищих выходцев из «черты оседлости» Сутина, Кременя и Кикоина, но при этом целый ряд художников «Парижской школы» еврейского происхождения вызывал живой интерес Гертруды: она была в дружеских отношениях и многие годы переписывалась с Максом Жакобом, приобретала, среди других, работы Марка Шагала, Амедео Модильяни, Жюля Паскина... Прошедшая в 2011— 2012 годах во Франции и в США (в Музее современного искусства в Сан- Франциско, в Grand Palais в Париже и в музее Метрополитен в Нью-Йорке) масштабная выставка «The Steins Collect: Matisse, Picasso, and the Parisian Avant-Garde», в рамках которой были фактически реконструированы салоны домов и квартир, в которых жили в столице Франции Гертруда, Лео, Майкл и Сара, адекватно представила ту роль, которую сыграли члены семьи Стайн в поддержке современного искусства в Париже в первой половине ХХ века[18]. Хочется надеяться, что будет организована и аналогичная экспозиция, реконструирующая выставки, проведенные Бертой Вейль в ее галерее.
История со срывом выставки А. Модильяни в галерее Б. Вейль не поколебала веру Й. Неттера в его талант. В марте 1918 года, когда Париж обстреливала германская артиллерия и снаряды разрывались то здесь, то там, наводя ужас на немногочисленных оставшихся в городе жителей, Л. Зборовский обратился к Й. Неттеру за помощью. На выделенные коллекционером деньги смогли уехать в Кань-сюр-Мер на Лазурный берег А. Модильяни с беременной Жанной Эбютерн и ее матерью, Х. Сутин, сам Л. Зборовский с супругой Ханкой, а также Леонар Фужита со своей женой Фернандой Барри. Й. Неттер был не из тех, кто наживался на бедах художников в годы войны, но благотворительностью тоже не занимался — за выданные на эту поездку две тысячи франков коллекционер, насколько известно, получил двадцать картин А. Модильяни. В коллекции Й. Неттера есть и две работы Жанны Эбютерн (Jeanne Hebuterne, 1898—1920) — любимой женщины и музы А. Модильяни, прожившей очень короткую жизнь, творчество которой практически совершенно неизвестно: «Интерьер с фортепиано» (1918) и «Адам и Ева» (1919).
Однако отношения Й. Неттера со Л. Зборовским вскоре дали трещину: по всей видимости, Й. Неттер считал, что Л. Зборовский передает ему существенно меньшее количество работ А. Модильяни, чем было оговорено между ними. В 1919 году в письме Л. Зборовскому Й. Неттер оговорил условия продолжения своей поддержки. Он соглашался оплачивать половину расходов на содержание художника в сумме до 500 франков в месяц, которые был готов выплачивать А. Модильяни или напрямую, или через Л. Зборовского. В обмен на это Й. Неттер требовал от Л. Зборовского предоставлять ему все работы, которые создавал художник, из которых Й. Неттер хотел иметь право отобрать половину по собственному усмотрению. Ссылаясь на слова Л. Зборовского о том, что А. Модильяни создавал в то время 12—14 полотен разного размера в месяц, Й. Неттер оговаривал свое право на участие в разделе работ А. Модильяни, выполненных в любой технике. Когда Й. Неттер формулировал эти условия, жить А. Модильяни оставалось меньше года (он скончался 24 января 1920 года), и мы не знаем, сколько картин и рисунков А. Модильяни находилось у Й. Неттера на момент смерти художника. Самая поздняя работа А. Модильяни из представленных на выставке — портрет «Неизвестной в голубом», написанный в 1919 году.
В 1915 году А. Модильяни познакомился с художником, ставшим его глубинным душевным другом, несмотря на огромные различия между ними, — Хаимом Сутином. Х. Сутину было всего девятнадцать лет, когда они познакомились, — А. Модильяни был на целых десять лет его старше, но ни это, ни еще большая разница в уровне культуры, ни противоположность темпераментов, словом, ничто не мешало их сближению. «Они сумели разглядеть друг в друге и сущность таланта и сущность души — разглядеть, понять и принять, — писал В.Я. Виленкин. — По отношению к Сутину это редко кому удавалось, потому что обычно такому сближению противилась помимо его воли вся его болезненно сложная, недоверчиво замкнутая натура. Многие считали Сутина дикарем, сторонились его, порой даже боялись. Когда он, напялив на себя что попало, бледный, насквозь пропахший масляной краской и скипидаром, с прилипшей к потному лбу прядью и мрачно сосредоточенным взглядом ломился подряд во все двери "Улья" в надежде поживиться хотя бы объедками, от него, бывало, старательно запирались. Но на другой день он мог гордо отказаться от добровольно предложенных кем-нибудь из товарищей нескольких су, в которых он так нуждался»[19].
Эту странную в глазах обывателей дружбу между денди и красавцем Амедео, родной брат которого Джезуппе Эмануэль Модильяни (Giuseppe Emanuele Modigliani, 1872—1947) был, начиная с 1913 года, депутатом итальянского парламента, и нищим увальнем из местечка Смиловичи, не получившим образования ни на одном языке, думается, понял культуролог Михаил Герман, заметивший, что двух художников роднило «ощущение жизни как боли, умение сострадать и ощущение это реализовывать в искусстве. ...Пульсирующая плоть живописи Сутина, созданные из нее и почти физически ощущаемой печали персонажи решительно не похожи на строгую линеарность картин Модильяни с их филигранной фактурой и продуманной плоскостностью. Но в картинах обоих — словно бы общий аккомпанемент, общая эмоциональная тональность, они говорят на разных пластических языках, но примерно об одном и том же и прежде всего — о горьком страдании. Сутин выплескивал на поверхность холста весь свой неистовый темперамент, боль и весь восторг перед зримым и пережитым, Модильяни отливает свои впечатления в отточенную, сдержанную, покорную выработанному стилю систему»[20]. В 1915—1916 годах А. Модильяни не менее четырех раз рисовал Х. Сутина[21]; один из портретов находится в Национальной галерее в Вашингтоне и поэтому широко известен; в собрании Й. Неттера представлена другая, не менее значимая работа.
Х. Сутин в то время буквально бедствовал. Он ночевал то у одних, то у других знакомых — то у Михаила Кикоина (1892—1968), то у Леона Инденбаума (1890—1981), то у Оскара Мещанинова (1884—1956), то у Хаима-Яакова (Жака) Липшица (1891—1973). Все они, как и сам Х. Сутин, были выходцами из еврейских семей, живших в Российской империи, добравшимися до Парижа, чтобы заниматься искусством, что лишний раз демонстрирует: «Парижская школа» была не просто сообществом художников, но этнонациональной диаспорой. Чтобы не умереть с голоду, Х. Сутин нанялся рабочим на завод «Рено», но вскоре он поранил себе ногу и был уволен. Ближайшими товарищами Х. Сутина были М. Кикоин и П. Кремень, вместе с ним учившиеся живописи в Вильно, а теперь, как и он, пытавшиеся обустроиться в Париже. Иногда им удавалось получить заказ на оформление вывески, иногда — подсобную работу при монтаже чужих выставок, зачастую же приходилось разгружать вагоны по ночам. Нередко в них была рыба, запах которой преследовал Х. Сутина всю жизнь, определив тематику десятков его полотен. Однажды Х. Сутин, измученный нищетой и отчаявшийся, пытался повеситься; к счастью, в комнату зашел П. Кремень и спас друга от неминуемой смерти. О том, что они держались вместе, вспоминал и Илья Эренбург: «Неизменно в самом темном углу [кафе "Ротонда"] сидели Кремень и Сутин. У Сутина... были глаза затравленного зверя, может быть, от голода. Никто на него не обращал внимания»[22].
И.Г. Эренбург завершал свои воспоминания о Х. Сутине риторическим вопросом: «Можно ли было себе представить, что о работах этого тщедушного подростка, уроженца белорусского местечка Смиловичи, будут мечтать музеи всего мира?..»[23] Если и был человек, который уже тогда мог себе это представить, то это А. Модильяни, которого, впрочем, тогда тоже никто не считал достойным музейных залов. «Его не понимали даже просвещенные ценители живописи, — честно свидетельствовал полвека спустя все тот же И.Г. Эренбург. — Для тех, кому нравились импрессионисты, Модильяни был несносен равнодушием к свету, четкостью рисунка, произвольным искажением натуры. Все говорили о кубизме; художники, порой одержимые идеей разрушения, были в то же время инженерами, архитекторами, конструкторами; а для любителей кубистических полотен Модильяни был анахронизмом»[24]. В 1916 году А. Модильяни познакомил Х. Сутина, которого считал великим художником, с супругами Зборовскими. Но их не заинтересовало творчество Х. Сутина, а сам он, вследствие пристрастия к алкоголю и гашишу, вызвал у Ханки Зборовской резкую антипатию. Напротив, Х. Сутина, о котором критик Вальдемар Жорж писал, что «за заносчивостью и вспыльчивостью пряталась натура скрытная и застенчивая», необычайно ценил А. Модильяни, вследствие чего едва ли не самый бурный его скандал с супругами Зборовскими стал результатом того, что в отсутствие хозяев, не найдя под рукой холста, он украсил одну из дверей их квартиры живописным портретом Х. Сутина. Однако Й. Неттер оценил талант Х. Сутина; те средства, которые он выделял ему, были чуть ли не единственной гарантированной материальной поддержкой совершенно непризнанного в те годы художника. За исключением одной более поздней работы, созданной в 1928 году, все остальные картины Х. Сутина, представленные на выставке в Риме (а до этого — в Париже и Милане), были созданы между 1915 и 1923 годами — когда Х. Сутин никого больше из тех, кто за искусство был готов хоть что-то заплатить, не интересовал. Ситуация изменилась только в 1923 году, когда американский коллекционер Альберт Барнс (Albert Barnes, 1872—1951) скупил у Л. Зборовского все работы Х. Сутина, которые у того имелись. Опять- таки, учитывая довольно сложную систему отношений между Й. Неттером, Л. Зборовским и художником, в данном случае — Х. Сутином (формальное соглашение между Л. Зборовским и Х. Сутином было заключено в 1919 году, письменного договора с Й. Неттером у Х. Сутина, скорее всего, не было, хотя именно деньгами Й. Неттера Л. Зборовский преимущественно расплачивался с ним), мы не знаем, были ли среди приобретенных А. Барнсом работ Х. Сутина те, которые до этого находились у Й. Неттера.
Учитывая все вышесказанное, пожалуй, две важнейших для истории искусства работы из представленных на выставке — портреты Х. Сутина и Л. Зборовского, созданные А. Модильяни в 1916 году, когда его стиль уже сформировался окончательно. В портрете Х. Сутина четкое графическое видение предмета, которое акцентируется едва заметным черным контуром, сочетается с живописной трактовкой цветовой плоскости. Художник выстроил портрет на эмоциональном и цветовом конфликте, который определяют две основные цветовые плоскости: охристо-красный цвет одежды и черно-бордовый фон. Совершенно в ином ключе написан великолепный портрет Л. Зборовского, построенный на противопоставлении холодного тона голубовато-серого фона и теплой гаммы человеческого лица. На раскрытие образа работает и прозрачный легкий фон, противопоставляемый почти осязаемой живописи персонажа.
В отличие от А. Модильяни и Х. Сутина, с которыми Й. Неттер общался в основном через Л. Зборовского, с Моисеем Кислингом (Moi'se Kisling, 1891—1953), как и с М. Утрилло, у него сложились независимые и очень глубокие человеческие отношения, о чем свидетельствует обширная переписка между ними. Во время Первой мировой войны М. Кислинг находился на юге Франции и приглашал своего покровителя погостить у него в Сен-Тропе.
В середине 1920-х годов Л. Зборовский, все больше тяготившийся зависимостью от Й. Неттера, стал стремиться к большей самостоятельности. Он, в частности, заключил соглашение о сотрудничестве с художником Эженом Эбишем (Eugene Ebiche, 1896—1987), и имя Неттера в этом соглашении не упоминается, хотя последний также коллекционировал работы уроженца Люблина Э. Эбиша (на выставке их представлено три, причем во всех случаях указано, что они созданы около 1930 года). Й. Неттер все меньше доверял своему партнеру, вследствие чего разрыв их отношений был лишь вопросом времени.
Последним художником, которого поддерживали Л. Зборовский и Й. Неттер, стал Исаак Анчер (Isaac Antcher, 1899—1992). Сотрудничество между спонсорами и живописцем началось в 1928 году. По условиям соглашения, каждый из спонсоров должен был выплачивать И. Анчеру по тысяче франков ежемесячно. При этом полотна должны были сначала доставляться Й. Неттеру, а затем уже распределяться между ним и Л. Зборовским. Однако Л. Зборовский, со своей стороны, выплачивал И. Анчеру только двести франков в месяц, при этом требуя от него предоставлять еще две работы для себя, сверх тех, что предназначались для раздела между коллекционерами. Когда Й. Неттер узнал об этом, то потребовал от Л. Зборовского возмещения всех невыплаченных сумм. На этом отношения между ними прекратились. Уже после этого Й. Неттер в конце 1931 года перечислил И. Анчеру единовременный платеж в размере трех тысяч франков — насколько можно судить, это был последний раз, когда кто-либо из художников получил финансовую помощь от него. В первой половине 1930-х годов между художниками так называемой «Парижской школы» уже существовали очевидные статусные различия: работы Модильяни, Шагала и Сутина приобретали всё большее число поклонников, вследствие чего стали восприниматься как объекты для выгодных инвестиций. На смену людям, не стремившимся к наживе, помогавшим художникам и ценившим их поиски, приходили собиратели совсем иного толка. Остальные живописцы и скульпторы пусть и не нищенствовали, но жили, в целом, трудно, а выставлялись нечасто. «Передовыми новаторами» считались в 1930-е годы уже другие люди, поэтому те, кто искал возможности патронировать талантливую молодежь, поддерживали других художников.
III
Пытаясь оценить в ретроспективе судьбу еврейской по происхождению и космополитичной по духу художественной диаспоры во Франции в первой половине ХХ века, необходимо хотя бы вкратце рассмотреть, во-первых, судьбы художников, во-вторых, судьбы меценатов и коллекционеров, поддерживавших их как финансово, так и верой в их талант, и, в-третьих, судьбы их творческого наследия.
Что касается самих художников, то последний из тех, чей талант успел оценить Й. Неттер, — И. Анчер — пережил ушедшего из жизни раньше всех А. Модильяни более чем на семьдесят лет! Амедео Модильяни умер от туберкулезного менингита 24 января 1920 года, в тот же день покончила с собой Жанна Эбютерн, находившаяся на девятом месяце беременности. Спустя десять лет, 2 июня 1930 года, в отчаянии покончил с собой в Париже «князь Монпарнаса» Жюль Паскен. 25 апреля 1931 года умер от инфаркта совсем молодой (ему не было и тридцати трех) Абрам Минчин. 21 декабря 1935 года, как и за пятнадцать лет до этого А. Модильяни, умер от туберкулеза 38-летний Иссахар-Бер Рыбак. Айзик Федер, Макс Жакоб, Рудольф Леви, Анри Эпштейн и многие другие — таких имен хватило, к сожалению, на целую книгу «Депортированный Монпарнас», вышедшую, увы, лишь по-французски[25], — погибли в огне Холокоста. Хаим Сутин умер 9 августа 1943 года, не имея возможности получить квалифицированную медицинскую помощь.
Моисей Кислинг, Марк Шагал, Осип Цадкин и Мане-Кац спаслись, бежав в начале 1940-х годов в США. После окончания войны все они вернулись во Францию. Оскар Мещанинов, уехав в США, во Францию уже не вернулся; он умер в Лос-Анджелесе в 1956 году. Жак Липшиц, с 1941 года живший в США, в 1946 году приехал в Париж, провел персональную выставку в галерее Maeght и был удостоен ордена Почетного легиона. Однако, расставшись с женой, он вернулся в США и с 1947 года жил в пригороде Нью-Йорка Хастинг-на-Гудзоне. С 1961 года ежегодно проводил лето на собственной вилле в Италии, где и умер в мае 1973 года.
Мане-Кац на склоне лет проводил довольно много времени в Израиле, где и умер в 1958 году; спустя почти двадцать лет, в 1977 году, в его доме в Хайфе был открыт музей, существующий и поныне. Музей Шагала был открыт в 1973 году, еще при жизни мастера, в Ницце, музей Цадкина — спустя пятнадцать лет после смерти скульптора, в 1982 году в Париже. В Израиле же в 1968 году умерла Ханна Орлова, спасшаяся от Холокоста в нейтральной Швейцарии.
Эжен Эбиш в 1939 году вернулся в Польшу. Он сменил имя, и ему удалось, скрыв свои еврейские корни, преподавать в Академии изящных искусств Кракова, которую он в 1945 году возглавил. Позднее он преподавал в Академии изящных искусств Варшавы, принимал участие в выставках по всей Польше и умер в 1987 году, перешагнув 90-летний рубеж.
Пережили Холокост во французской провинции, вернулись и еще несколько десятилетий работали в Париже Исаак Добринский, Пинхус Кремень, Леон Инденбаум, Вилли Эйзеншитц (был арестован, депортирован и погиб его сын, вступивший в движение Сопротивления). Михаил Кикоин и Исаак Анчер были интернированы в трудовые лагеря (И. Анчер успел до этого служить во французской армии, откуда он был демобилизован в 1941 году), но смогли выжить — и после окончания войны вернуться к искусству. По всей видимости, именно кончина И. Анчера в 1992 году, спустя два года после его ретроспективной выставки в галерее Кати Гранофф в столице Франции[26], ознаменовала собой конец жизненного пути последнего из художников «Парижской школы».
Судьбы упомянутых в этой статье четырех покровителей этих художников еврейского происхождения также сложились очень по-разному. Леопольд Зборовский скончался в 1932 году в бедности. Он был погребен в общей могиле, а работы из его галереи разошлись в различных направлениях. Йонас Неттер прожил еще почти пятнадцать лет, при этом мы, к сожалению, ничего не знаем о том, какую роль занимало коллекционирование произведений искусства в его жизни в те годы. Самые поздние работы, представленные в экспозиции и ее каталоге, датированы, точно или приблизительно, 1930 годом. Й. Неттер пережил нацистскую оккупацию Парижа, ведя в годы войны полуподпольный образ жизни с фальшивыми документами. Все ли картины художников, большинство из которых относились по нацистской классификации к «дегенеративному искусству», ему удалось сохранить и как — этого мы тоже не знаем. События столь недавней истории непостижимым образом почти неизвестны нам, хотя, к счастью, главное, что могло остаться от художников, с которыми сотрудничал Й. Неттер, — их картины — не только сохранилось, но и стало наконец доступным всем поклонникам искусства. Гертруда Стайн, которая открыто поддерживала режим маршала Петена, как до этого — фалангистов Франко в Испании (в 1941 году она даже перевела 180 речей маршала Петена на английский язык), провела годы войны вместе со своей де-факто супругой Элис Токлас (Alice Toklas, 1877—1967), также американской еврейкой по происхождению, в небольшом городке Кюло в предгорьях Альп[27]. Хотя многие евреи — жители этого городка, включая детей, были депортированы в Освенцим, Гертруда и Элис не подвергались преследованиям. Их покровителем был стародавний знакомый, профессор американской истории в Коллеж де Франс Бернард Фаи (Bernard Fay, 1893— 1978), ставший в мае 1941 года руководителем Национальной библиотеки и видным функционером режима Виши[28]. Спустя год с небольшим после окончания Второй мировой войны Гертруда Стайн умерла. Берта Вейль не нажила богатств, хотя картины, которые когда-то проходили через ее руки, стали стоить баснословных денег. Некоторым утешением могло быть общественное признание ее заслуг: за три года до кончины, в 1948 году, она была удостоена ордена Почетного легиона. Ордена Почетного легиона был удостоен и сын Роже Маркса и Эльзы Натан (Elisa Nathan, 1859—1933) Клод (1888—1977), также ставший художественным критиком. Ему удалось спастись в годы Хо- локоста (он покинул Париж, перебравшись вначале в Марсель, а затем скрывался в окрестностях Гренобля), но вот его сын, внук Рожера Маркса, был арестован гестапо и погиб.
Что же касается творческого наследия живописцев и скульпторов «Парижской школы», то кажущийся очевидным вывод о всемирном триумфе, вероятно, будет излишне поспешным, причем по трем причинам. Во-первых, насколько широко известны Модильяни, Шагал и, пусть и в несколько меньшей степени, Сутин, работы которых продаются на торгах ведущих аукционных домов за огромные деньги, настолько же мало кто помнит об Анри Эпштейне, Исааке Добринском, Вилли Эйзеншитце и многих других живописцах этого круга. Даже три созданные еще до войны картины Михаила Кикоина — художника все же сравнительно известного, выставлявшиеся на торгах Christie's в Лондоне 22 июня 2012 года, были проданы дешевле, чем за десять тысяч фунтов каждая, т.е. они не интересуют коллекционеров, выстраивающих собрания музейного типа. Единая «ткань существования» космополитически ориентированных художников «еврейского Монпарнаса» в памяти потомков оказалась разрушенной, отдельные «звезды» были вычленены и вознесены, тогда как остальным угрожает забвение.
Во-вторых, у большинства художников «еврейского Монпарнаса» никогда не выходили обобщающие каталоги, вследствие чего множество их сохранившихся работ (не забудем о том, что сотни холстов погибли в дни Первой и Второй мировых войн) вообще неизвестны любителям искусства. Как это ни удивительно, хотя отдельные работы из собрания того же Й. Неттера публиковались в различных изданиях, вся коллекция была показана в 2012 году впервые, при этом целый ряд произведений ни разу не воспроизводился в каких-либо альбомах или каталогах. Некоторые работы знакомы в несколько других редакциях: так, на выставке была представлена «Красная лестница в Канье» Хаима Сутина, иная версия которой находится в собрании парижского Музея Оранжери (всего же художник написал пять вариантов «Красной лестницы», один из которых ныне находится в собрании российского коллекционера Вячеслава Кантора). В целом же эта выставка свидетельствует об удивительном феномене: важнейшие работы А. Модильяни, Х. Сутина, М. Кислинга и других художников, признанных к настоящему времени крупнейшими представителями изобразительного искусства первой половины ХХ века, на протяжении многих десятилетий были скрыты от заинтересованных зрителей. Напрашивающиеся гипотезы о причинах этого явления не выдерживают критики: отсутствие у этих работ выставочной истории не было следствием их перехода из рук в руки (они не перепродавались, оставаясь в семье того, кем были приобретены изначально), равно как и не было вызвано какими-либо политическими или цензурными запретами, так как выставки художников «еврейского Монпарнаса», в особенности — самых известных среди них, проходили уже многие десятки раз, в том числе и в Москве (монографическая выставка А. Модильяни прошла в ГМИИ на Волхонке в 2007-м, а групповая выставка художников «Парижской школы» — в 2011 году). То, что и в отсутствие видимых причин из истории искусства были на десятилетия изъяты 17 сохранившихся живописных и графических работ А. Модильяни, 19 полотен Х. Сутина, 7 — М. Кислинга и т.д., является исключительно наглядным свидетельством беззащитности творений даже признанных гениев перед лицом факторов, которые толком не ясны до сих пор: о наследниках коллекционера и причинах принимаемых ими решений в каталоге выставки и в вышедших о ней публикациях не говорится ни слова. Являлось ли это многолетнее сокрытие работ от публики следствием желания Йонаса Неттера, который и при жизни был исключительно непубличным человеком, либо же решение об этом принимали его наследники, и не представляет ли собой проходящая в настоящая время выставка, по сути, предаукционную экспозицию — этого мы не знаем. Неизвестно и то, где и в каких условиях хранились все эти работы, благополучно пережившие (как, кстати, и их владелец) не только оккупацию нацистами Парижа, но и отсутствие контроля за их состоянием со стороны музейных работников и реставраторов. Нельзя сказать, что о коллекции Йонаса Неттера не было известно вообще, однако адекватного представления о ее масштабах не было, а имя этого собирателя практически не появлялось даже в искусствоведческой, не говоря уже о более массовой, литературе.
При этом и выставленная экспозиция не дает ответа на три важнейших вопроса. Во-первых, какие еще произведения входили в нее, но были проданы самим Й. Неттером при жизни, когда и кому и где сейчас эти работы — исходя из сохранившихся писем и договоров можно предположить, что у коллекционера было значительно больше картин А. Модильяни и Х. Сутина, чем представлено сейчас. Во-вторых, какие из сохраненных Й. Неттером произведений живописи и графики были проданы его наследниками? (Достоверно известно о реализованной в феврале 2009 года на аукционе Christie's картине Амедео Модильяни «Две девочки» и о проданной там же в июне того же года картине Мориса Утрилло «Затерявшийся тупик», а также о трех произведениях Михаила Кикоина и «Городском пейзаже» Анри Хайдена, проданных этим же аукционным домом в июне 2012 года, все они происходят из коллекции Йонаса Неттера — единственные ли это случаи? Как случилось, что один из двух известных портретов самого Й. Неттера, созданный в 1915 году Анри Хайде- ном, не находится в настоящее время в представленной коллекции, когда и кому он был продан или подарен?) В-третьих, какие еще работы хранятся у наследников, но не включены в экспозицию (о том, что выставлены не все работы, а только «большая часть» собрания, обмолвился сам куратор Марк Рестеллини). Возможность увидеть 122 работы, оригиналы которых были скрыты от любителей искусства на протяжении более чем полувека, крайне важна сама по себе, но все же важно понять полные масштабы собрания Й. Неттера и того, что сохранилось от него к настоящему времени, а этого выставка и ее каталог сделать не позволяют. Хочется верить, что эта коллекция не будет продана по частям, а станет основой постоянно действующего музея, куда попадут и другие работы, разбросанные ныне по миру, и который, в свою очередь, будет вести научные и архивные изыскания, посвященные уникальному миру космополитической по духу, но преимущественно еврейской по происхождению причисляемых к ней художников «Парижской школы».
В-четвертых, несмотря на наличие отдельных монографических музеев живописцев и скульпторов «Парижской школы» (Шагала, Цадкина, Мане-Каца и других), единого центра, который бы ставил своей задачей изучение и сохранение памяти об этой художественной диаспоре как о едином целом, нет нигде в мире. Такой музей собирался создавать в Харькове бизнесмен и государственный деятель Александр Фельдман, но летом 2013 года было объявлено о проведении экспозиции, озаглавленной «Последняя выставка мастеров Парижской школы из собрания Feldman Family Museum». Анонс выставки гласил, что по окончании ее работы, 15 сентября 2013 года, все 110 выставленных работ сорока художников будут проданы[29], а на вырученные средства будет построен Центр реабилитации детей с психическими расстройствами. Вообще говоря, депутат Верховной Рады Украины V и VI созывов (вначале — от Блока Юлии Тимошенко, а с 2011 года — от Партии регионов) Александр Фельдман — мультимиллионер, очевидно, располагающий средствами на строительство детского реабилитационного центра и без продажи произведений художников, которые, как можно предположить, перестали быть для него интересными в той мере, которая оправдывает их коллекционирование. Продажа этой коллекции ставит крест на единственном на постсоветском пространстве реально возможном проекте создания музея и научно-исследовательского центра художников «Парижской школы», большинство из которых, как указывалось выше, родились в Российской империи. Нет такого музея и центра и в Израиле (этим художникам посвящен лишь один зал в Тель-Авивском музее), несмотря на то что почти все эти художники — еврейского происхождения, а Израиль как государство претендует на то, чтобы быть национальным домом и духовным центром всего мирового еврейства. Во Франции же отдельных выставок проводится не так мало, но комплексно это искусство не представлено, не сохраняется и не изучается нигде, а работы многих упомянутых выше живописцев не представлены в Париже ни в одном музейном собрании. Я бы сказал, что именно диаспоральный характер этой группы художников преимущественно восточноевропейского еврейского происхождения стал причиной того, что они постфактум оказались «ничьими». В отличие от импрессионистов (среди которых, впрочем, тоже был один живописец еврейского происхождения — Камиль Писарро), родившихся, живших и работавших во Франции, для сохранения, экспонирования и изучения наследия которых в Париже был создан ставший очень популярным Музей Орсэ, открытый в 1986 году, альбомы художников так называемой «Парижской школы», как указывалось выше, в наибольшем количестве представлены в столице Франции в Музее искусства и истории иудаизма. Парадоксальным образом, люди, оказавшиеся в столице Франции для того, чтобы уйти от иудаизма, именно в созданном там два десятилетия назад музее иудаизма обрели свое последнее пристанище.
При этом справедливым будет вывод о том, что эти люди так ни в какой стране и не обрели чувства Родины, на всю жизнь сохранив диаспоральное самосознание. Для большинства из них родным языком был идиш, при определенном знании русского, и даже изучая французский и английский, они редко когда знали эти языки настолько, что могли в полной мере наслаждаться богатством их лексикона; достаточно вспомнить в этой связи Марка Шагала, книга воспоминаний которого была написана по-русски, а основные выступления, опубликованные на десятке языков, были произнесены на идише. Мане-Кац и Ханна Орлова окончили свои дни в Израиле (Х. Орлова жила в подмандатной Палестине еще до того, как оказалась во Франции), Оскар Мещанинов — в США, но в полном смысле слова ни израильтянами, ни американцами никто из них (а в США долго жил и Мане-Кац) не стал. В годы Холокоста эти художники скрывались, пытались эмигрировать, а кому это не удалось — были депортированы и погибли в лагерях смерти сугубо как евреи, и лишь единицы среди французов стремились помочь этим людям в беде, и еще меньшее число их новых соотечественников видели в них «своих». Практически речь идет о людях, внесших огромный вклад в мировое искусство, но при этом не принадлежащих ни одной стране, а на всю жизнь оставшихся на пересечении диаспор и сохранявших диаспоральное сознание в самих себе.
[1] Автор благодарит Андрея Кожевникова за большую помощь в поиске и переводе с французского языка материалов, сыгравших существенную роль в подготовке статьи. (L'auteur tient a remercier Andrey Kozhevnikov pour son assistance a la recherche et a la traduction des textes qui ont large- ment contribue a la preparation de cet article.)
[2] Здесь и далее цитаты извлечены из каталога выставки: Restellini M. Jonas Netter et l'aventure de Montparnasse. Aux Origines de L'Ecole de Paris // La Collection Jonas Netter. Modigliani, Soutine et l'aventure de Montparnasse. Paris: Pi- nacotheque, 2012. Р. 9—26.
[3] Эренбург И. Люди. Годы. Жизнь. М.: Текст, 2005. Т. I. С. 148. Цитируемая здесь первая книга была написана в 1961 году.
[4] Крупицкий З. Искусство и иудаизм // Еврейская энциклопедия. СПб.: Брокгауз и Ефрон, 1911. Т. VIII. С. 326—327.
[5] Цит. по: Хасан-Брюне Н. Еврейская Парижская школа — обрести себя в избранной стране? Пер. с франц. // Парижская школа. 1905—1932. М.: ГМИИ им. Пушкина, 2011. С. 26.
[6] Биографии этих и других художников см. в книге: Niesza- wer N, Boye M, Fogel P. Peintres juifs a Paris. 1905—1939, Ecole de Paris. Paris: Denoёl, 2000.
[7] Хасан-Брюне Н. Еврейская Парижская школа. С. 26.
[8] См. список его экспозиций в каталоге выставки, прошедшей в Париже в 2008 году: Restellini М. Soutine. Paris: Pi- nacotheque, 2008. Р. 231.
[9] См. список его экспозиций в посвященном этому художнику масштабном альбоме: Diehl G. Pinchus Kremegne. Sublimated Expressionism. Paris: Navarin Editeur, 1990. Р. 228—229.
[10] Цит. по: Crespelle J.-P. La vie quotidienne a Montparnasse a la Grande Epoque, 1905—1930. Paris: Hachette, 1976; Пер. на рус. яз.: Креспель Ж.-П. Повседневная жизнь Монпарнаса в великую эпоху, 1905—1930. М.: Молодая гвардия, 2000. С. 95.
[11] Эренбург И. Люди. Годы. Жизнь. Т. I. С. 155.
[12] См.: Gros GJ. Les Grands Collectionneurs; Chez M.J. Net- ter // L'art vivant. 1929. № 97. P. 14—15.
[13] Цит. по: Augias С. Modigliani. L'ultimo romantico. Milano: Ar- noldo Mondadori Editore, 1998; пер. на рус. яз.: Ауджиас К. Амедео Модильяни. М.: Молодая гвардия, 2007. С. 181.
[14] Цит. по: Crespelle J.-P. La vie quotidienne a Montmartre au temps de Picasso, 1900—1910. Paris: Hachette, 1978; пер. на рус. яз.: Креспель Ж.-П. Повседневная жизнь Монмартра во времена Пикассо, 1900—1910. М.: Молодая гвардия, 2000. С. 204.
[15] Сведения о художниках, с которыми работала Берта Вейль, содержатся в единственной посвященной ей биографической книге, пока выпущенной только на французском языке: Le Morvan М. Berthe Weill, 1865—1951: La petite ga- leriste des grands artistes. Paris: L'Harmattan, 2011.
[16] Креспель Ж.-П. Повседневная жизнь Монмартра во времена Пикассо, 1900—1910. С. 222.
[17] См. каталог выставки: Four Americans in Paris: The Collections of Gertrude Stein and Her Family. New York: Museum of Modern Art, 1970.
[18] См. каталог выставки: The Steins Collect: Matisse, Picasso, and the Parisian Ava^-Gad / J. Bishop, C. Debray, R. Ra- binow (Eds.). New York: The Metropolitan Museum of Art, 2012.
[19] Виленкин В. Модильяни. М.: Искусство, 1970. С. 93.
[20] Цит. по: Герман М. В поисках Парижа, или Вечное возвращение. СПб.: Искусство, 2005. С. 349—350.
[21] См.: Паризо К. Модильяни. М.: Текст, 2008.
[22] Эренбург И. Люди. Годы. Жизнь. Т. I. С. 144.
[23] Там же. С. 145.
[24] Там же. С. 155.
[25] См.: Buisson S., Nieszawer N., Lachenal L., Jarasse D. Mont- parnasse deporte: Artistes d'Europe. Paris: Musee du Mont- parnasse, 2005.
[26] См. каталог этой выставки: Antcher. Retrospective. 1927— 1981. Paris: Galerie Katia Granoff, 1990.
[27] См.: Malcolm J. Two Lives: Gertrude and Alice. New Haven: Yale University Press, 2007. P. 25 и далее, а также p. 106.
[28] Одержимый в своем преследовании масонов, во всемирный заговор которых он верил, Бернар Фаи был лично виновен в гибели сотен людей, вследствие чего уже в августе 1944 года был арестован, судим и приговорен к бессрочной каторге с конфискацией имущества; ему удалось бежать в 1951 году и добраться до Швейцарии при помощи Элис Токлас. Он был помилован президентом Франции Рене Коти в 1959 году.
[29] См.: Дикань Ф. Парижская школа в Харькове. В последний раз // Портал «Медиапорт» (Украина). 17.07.2013 (http://www.mediaport.ua/parizhskaya-shkola-v-harkove-v-posledniy-raz).
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Декосмополитизация русской диаспоры: взгляд из Бруклина в «дальнее зарубежье»
(пер. с англ. А. Горбуновой)
Дэвид Лэйтин
Декосмополитизация русской диаспоры:
ВЗГЛЯД ИЗ БРУКЛИНА В «ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ»[1]
По мере того, как диаспоральные общины культурно и политически встраиваются в жизнь приютивших их стран, особое значение — по собственному ли желанию или по необходимости — они придают различным аспектам, выделенным из общей совокупности присущих им культурных черт. Одни выдвигают на первый план свою расу (чернокожие из стран Карибского бассейна в Соединенных Штатах), другие — свою религию (мусульмане из Алжира во Франции), а третьи — свою основанную на языке этническую принадлежность (англичане в Южной Африке). Угадать, какой аспект идентичности «победит», — задача, долгое время ставившая в тупик тех, кто занимается этнической проблематикой. Но со временем значительная часть каждой диаспоральной общины и их потомков объединяется вокруг какого-то одного аспекта различия, обусловливающего их социально-политическое поведение
как членов определенной категории (скажем, католики) в отношении выделенного аспекта (в данном случае религии)[2].
Такой выбор в вопросах идентичности нельзя считать несущественным. Как показала Мэри Уотерс, второе поколение мигрантов из стран Карибского бассейна не смогло получить ожидавшегося жизненного дохода — отчасти потому, что они идентифицируют себя (и идентифицируются людьми за пределами своей общины) как «черные». Национальная идентичность выходцев из стран Карибского бассейна имеет более высокий статус в глазах американских работодателей, чем идентичность чернокожих американцев, однако, несмотря на это, региональная идентичность уступила место расовой. Это имеет важные последствия. Результаты политики в области идентичности в значительной степени определяют возможных социальных и политических союзников, а также то, через какие каналы можно обращаться за поддержкой.
В этой статье описывается процесс, вследствие которого русско-еврейские иммигранты, осевшие в Нью-Йорке (по большей части на Брайтон-Бич в Бруклине), стали объединяться вокруг доминирующей религиозной идентичности[3]. У русскоговорящих (по большей части еврейских) эмигрантов из России в последней четверти прошлого века был выбор, когда они добрались до Вены: либо эмигрировать в Израиль, либо ждать более долгое время, но в конечном итоге добраться до Соединенных Штатов (через Италию). По- видимому, те, кто выбрал Соединенные Штаты, были более светскими и менее проникнутыми религиозными идеалами, чем те, кто уехал в Израиль. Тем не менее — заостряя различие между ними ради подразумеваемого сопоставления — русскоговорящие евреи в Брайтоне идентифицировали себя главным образом как «евреев»[4], в то время как русскоговорящие евреи в Израиле идентифицировали себя главным образом как «русских»[5].
В таком итоге есть очевидная ирония. В одном и том же ряду русскоговорящих евреев, покинувших Советский Союз в конце 1970-х (так называемая третья волна) и в конце 1980-х (четвертая волна, которая принесла многих этнических русских вместе с русскоговорящими евреями), есть две категории: те, кто влился в религиозное государство (Израиль), основывают свое политическое поведение на светских ценностях, тогда как те, кто влился в государство, не придерживающееся какой-то одной религии как государственной (Соединенные Штаты), основывают свое поведение на религиозной идентичности.
Рассмотренный с точки зрения определенных теоретических подходов, такой итог вовсе не удивителен. Здесь могут быть применены простые демографические модели политической идентификации. Русская идентичность имеет не столь высокую ценность, чтобы оказывать влияние на американскую и/или нью-йоркскую политику. Однако объединившись с американскими евреями, русскоговорящие евреи могут обеспечить себе позицию во влиятельном меньшинстве в обеих сферах. Демография в Израиле говорит о противоположном: идентификация с евреями-израильтянами не дает их лидерам какого-то дополнительного голоса, в то время как идентификация себя как русских израильтян стала заметной и привлекательной, по крайней мере для людей, вовлеченных в политику, ищущих поддержку со стороны этого демографически значительного избирательного блока. Эта расстановка показывает, что диаспоры не обязательно делают упор на самые глубинно значимые элементы из совокупности присущих им культурных черт; скорее, после «подсчитывания товарищей» — потенциальных союзников — они выбирают тот аспект своей идентичности, который позволяет им максимально увеличить свое влияние на выборах[6].
Подходы, принимающие во внимание политическое пространство, в которое прибывают иммигранты, также помогают понять эти результаты. В Соединенных Штатах, как следует из концепции Алексиса де Токвиля в его классическом исследовании Америки (том 1, глава 2), имеет место глубоко укоренившееся убеждение, что языковое разнообразие представляет угрозу для общественного блага, в то время как религиозное разнообразие безопасно. Неудивительно, что такие ученые, как Уилл Херберг, Хелен Эбо и Джанет Чафетс, периодически отмечали, что американские иммигранты объединяются в религиозные общины (к чему в обществе относятся с уважением) и избавляются от своих языковых отличий (которые рассматриваются как угроза доминирующему англоговорящему обществу). Между тем, в Израиле, при том что значительный процент мигрантов из стран бывшего Советского Союза не являются евреями (по статистике Министерства внутренних дел), ни одна группа не может получить жирный кусок от государства, или его кошерный эквивалент, идентифицируя себя в первую очередь как евреев. Таким образом, иммигранты, возвращаясь на свою воображаемую родину, объединяются вокруг черт идентичности, связанных со страной, откуда они эмигрировали.
Эта статья не ставит своей первоочередной задачей объяснить, почему русскоговорящие евреи в Нью-Йорке выстраивают свою политическую и социальную жизнь вокруг религиозной идентичности. Скорее, ее цель — описать на уровне семейных перипетий, как возник этот результат. Для этого я обращусь сначала к «модальной истории жизни» двух последних волн русскоговорящих мигрантов из бывшего Советского Союза. Мой тезис состоит в том, что эти жизненные истории наглядно показывают космополитичное сообщество, в которое встроились русскоговорящие евреи, и не предвещают результат, возникший вследствие их поселения в Нью-Йорке[7]. Затем я обсужу вопрос, каким образом русскоговорящая диаспора в «ближнем зарубежье» (то есть в странах — бывших республиках СССР) приняла «русскоговорящую» идентичность[8]. Напротив, эта базирующаяся на языке идентичность не стала основой или первостепенной причиной формирования идентичности рассматриваемых лиц в Нью-Йорке. В-третьих, я обсужу возникновение на повседневном уровне религиозно ориентированной еврейско-американской идентичности именно среди этих — прежде светских — космополитичных евреев. В заключительном разделе прослеживается механизм культурной передачи религиозной идентичности от родителей детям.
Для анализа менталитета одной диаспоральной общины, проживающей в «дальнем зарубежье», я провел весной 2004 года исследование среди русскоговорящих (в основном еврейских) мигрантов, приехавших в конце 1970-х годов и позднее, в большинстве своем проживающих на Брайтон-Бич. Интервью, в которых я опросил три поколения, представляют нам двадцать пять различных семейных историй. Вначале рассматривается поколение, которое приняло решение эмигрировать, затем — поколение их родителей, потом — их дети. Конечно, в изложенных свидетельствах сочетаются пересмотр фактов и риторические стратегии, используемые интервьюируемыми для обоснования событий их бурной жизни. Моя интерпретация этих интервью поэтому должна выйти на уровень более глубинного осмысления изложенных фактов[9]. Для дополнения этих историй с точки зрения более широкого видения проблемы, чем возможно с опорой исключительно на этнографию, я также обращался к вспомогательным источникам, газетным архивам и к данным массовых опросов.
I. МОДАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ ТРЕТЬЕЙ И ЧЕТВЕРТОЙ ВОЛН СОВЕТСКОЙ ЭМИГРАЦИИ В США
Очертания большинства историй, охватывающих несколько поколений семей мигрантов, имеют много общего. Старшее поколение родилось в черте оседлости на западных границах Российской империи — в узкой зоне, простирающейся от Черного до Балтийского моря, где цари разрешали селиться евреям, которые выплачивали налог; однако быть собственниками земли им не дозволялось. Местные этнические группы, укорененные на территории черты оседлости, как правило, относились с презрением к этим «защищаемым властью» евреям и были готовы терроризировать их, когда центральная власть ослабевала. При советской власти все быстро изменилось. Евреи начали принимать космополитическую идентичность, в которой их религия не имела принципиального значения[10]. В данных мне интервью старшее поколение рассказывает, вспоминая свой опыт жизни в ранний советский период, что в то время евреи стали частью широких социальных и профессиональных сообществ. И после нападения Германии в 1941 году многие евреи были эвакуированы с территории бывшей черты оседлости и переправлены в Центральную Азию ради их безопасности; так они смогли пережить холокост. После войны, более не привязанные к проживанию на территории бывшей черты оседлости, советские евреи продвинулись профессионально — по крайней мере, в процентном отношении — не меньше, чем другие советские народности. Тем не менее в период экономического застоя в 1970-х их дети начали ощущать дискриминацию, ограничивающую их возможности. Именно это поколение стремилось эмигрировать, и единственным путем к эмиграции было подчеркивание своей еврейской идентичности. Когда они обратились за документами, которые бы позволили им эмигрировать в Израиль, Советское государство стало ставить им бюрократические препоны и принимать против них репрессивные меры. Те, кто пошел на риск и добился получения визы, вытащили своих нерелигиозных космополитичных родителей за рубеж. Учитывая огромную социальную поддержку этих еврейских эмигрантов (со стороны сопровождавших их родителей, частных агентств, а также закона о беженцах в Соединенных Штатах), высокий уровень их человеческого капитала и предоставляемые американской экономикой возможности, среднее поколение быстро продвинулось в экономическом плане. Их дети в целом преуспели в учебе и интегрировались социально в американскую культуру. Именно эта модальная история является основанием для трактовки вопроса о том, какой аспект из общей совокупности присущих уехавшим евреям культурных черт станет их доминирующей политической идентичностью в американском контексте.
Начнем — и это касается многих из моих респондентов, которых я опрашивал в рамках их миграционной истории, — с трагедии немецкой оккупации в 1941 года и переезда с территории бывшей черты оседлости на Урал и в Казахстан. Вот, к примеру, одна такая история.
Респондентка рассказывает о том, что в 1941 году она закончила десятилетнюю школу, где языком обучения был украинский. Немцы разбомбили мост через Днепр, и респондентка участвовала в строительстве временного моста. Их семья была эвакуирована. Она вспоминает, как они ждали поезда на открытой железнодорожной платформе вместе с больными и престарелыми и как их разместили в вагонах. Семья рассказчицы состояла из четырех человек, ее саму вместе с матерью, братом и сестрой эвакуировали в Казахстан; отец был на фронте. Затем рассказчица оказалась на Урале и работала в Министерстве черной металлургии; их отдел занимался демонтажем фабрик на западе и реконструкцией их на Урале, занимался двигателями и прочим оборудованием, которое могло быть использовано после войны. Все оборудование учитывалось и классифицировалось, рассказчица делала списки и отправляла их в Москву. Таким образом, они могли посылать запчасти на заводы, работающие по всей России во время войны. Они жили в палатках, пока делали эту работу, по двадцать человек в палатке. Рассказчица сообщила, что ее начальника направили в Москву, и тогда рабочие стали подавать прошения о том, чтобы вернуться в свои родные места, но для этого требовалось получить разрешение. Начальник рассказчицы возглавлял комсомольскую организацию (ВЛКСМ). Он сказал, что возвращаться слишком опасно, что все разрушено. Сама рассказчица подавала прошение дважды, и ей было отказано, потому что считали, что некому будет делать ее работу. Я спросил ее, не в том ли было дело, что она еврейка. Она засмеялась и сказала: «Никого тогда не заботили эти вещи. Нас было восемьдесят процентов украинцев и двадцать процентов евреев, но никто не знал, кто какой был национальности, все мы говорили по-украински. Только после войны религия стала иметь значение». Затем рассказчица вступила в коммунистическую партию. Начальник посоветовал ей тогда «просто уехать» и не беспокоиться о разрешении и бумажной волоките. Она вернулась на Украину в октябре 1943 года, дорога заняла месяц. Вместе с матерью и маленькой сестрой они вернулись в свою старую квартиру, за которой присматривал друг, оставшийся на Украине. Брат рассказчицы умер на Урале. Отец отправился из Польши на японский фронт и затем вернулся на Украину. Молодой человек рассказчицы погиб в Сталинграде (интервью 9)[11].
В лагерях и в армии ситуация была похожей. Как объяснил один из интервьюируемых, в армии не было антисемитской дискриминации. Она появилась позднее. Ко всем в армии относились одинаково — ни у кого не было времени тогда выяснять, кто какой национальности (интервью 13).
После войны евреи чувствовали, что возможности для них открыты. Это подтверждают воспоминания следующего респондента. Он говорит о том, что уехал из Киева не по финансовым причинам. В материальном плане у него все было хорошо. В Киеве он жил через дорогу от центрального стадиона, на центральной площади. Во время перестройки там проходили многие массовые митинги, и до респондента доносилось множество угроз, в том числе, что евреев будут убивать (также присутствовали угрозы в отношении русских). Он начал бояться, так как многие его друзья сравнивали Украину того времени с Германией 1932 года; можно было услышать однотипные высказывания в Кременчуге, в Харькове, да где угодно на Украине. Друзья рассказчика начали уезжать, и он решил последовать за ними, в значительной степени из любопытства — это было что-то вроде прыжка с парашютом. Рассказчик отмечает, что, хотя он и ошибался насчет будущего, все равно это были страшные времена, вызванные ослаблением советской власти. И, отмечает рассказчик, с развалом СССР в независимой Украине, в связи с отсутствием денег, больше нет культурной жизни. «В Советском Союзе мне было хорошо. Я был из бедной семьи, но получил образование и пошел в технический институт» (интервью 8).
Как следует из приведенных рассказов, антисемитизм оказался новым шокирующим явлением для советских евреев в 1970—1980-е годы. Русскоговорящие еврейские иммигранты, которых я интервьюировал, были единодушны в том, что антисемитизм открыто выражался во время застоя 1970-х и нарастал во время перестройки в 1980-е. В одном опросе русско-еврейских иммигрантов, живущих в Нью-Йорке, восемьдесят пять процентов респондентов оценили угрозу антисемитизма в странах бывшего Советского Союза на том этапе как серьезную (RINA 32—33).
Мои респонденты сообщали о чувстве антисемитской угрозы как о неотъемлемой части повседневной жизни во время застоя, когда проявились прежде скрытые предрассудки. «В России даже самые маленькие дети ненавидят евреев, я не знаю почему», — рассказал респондент. «Я сказал моим детям, что они должны учиться в школе лучше всех, потому что их оценки будут занижать. Когда я попытался сдать экзамен в Ленинградский университет, это было трудно, потому что специальный "трибунал" в течение двух с лишним часов задавал мне вопросы (только мне), после чего глава комиссии сказал: "К сожалению, я не нашел вопрос, на который вы бы не смогли дать ответ", и они были вынуждены поставить мне "отлично"... Но даже с самыми высокими оценками, из-за особой ситуации для евреев, было трудно найти работу».
В газете «Новое русское слово»[12] Яков Смирнов, уроженец Одессы, приехавший в Соединенные Штаты в 1977 году в возрасте двадцати шести лет, рассказывает следующий анекдот, обобщающий чувства, которые испытывали евреи в советские времена. В продуктовом магазине стоит длинная очередь за колбасой. Из-за дефицита продуктов заведующий магазином просит уйти всех евреев. Через три часа он говорит, чтобы ушли все некоммунисты. Еще через три часа он сообщает, что колбаса кончилась и теперь все могут возвращаться домой. Один из оставшихся коммунистов жалуется: «Опять евреям повезло больше всех» (Ярмолинец, «Возвращение»). Сегодня одесский юмор Смирнова, простой и интеллектуальный одновременно, высоко ценят в Нью-Йорке.
Обзорное исследование Сэмуэля Клигера схватывает подлинную иронию устоявшегося мнения об антисемитизме: «Те евреи, что сейчас живут в Москве (включая "наполовину евреев"), составляют значительную часть новой русской элиты <...> их вес в российской политике и бизнесе гораздо больше, чем в любой другой христианской стране...» (Kliger 150). Таким образом, согласно Клигеру, это была предполагаемая дискриминация, а не действительный факт того, что евреям было хуже, чем другим, в Советском Союзе. И эта предполагаемая дискриминация провоцировала беспокойство евреев.
Беспокойство, наряду с новой политической возможностью эмигрировать для тех, кто заявлял о том, что он пострадал от антисемитизма, повлияло на то, как евреи в Советском Союзе воспринимали свою социально-экономическую ситуацию. Ряд неформальных соглашений между Советским Союзом и США открыл путь новому потоку эмигрантов в Израиль. Их обращения за визой, однако, в первые годы рассматривались как измена советскому государству и имели тяжелые последствия для тех, чьи обращения отклонялись (и кто, таким образом, получал статус «отказника»). Например, один из респондентов сообщает, что, подав заявление на получение визы, он сразу же потерял свою должность в Академии наук. Он выживал посредством написания диссертаций для аспирантов из Центральной Азии, которые платили ему, потому что недостаточно владели русским языком, чтобы написать серьезный труд и получить ученую степень (интервью 25).
Отказники создали новый образ жизни в Советском Союзе. Они присоединялись к «еврейским кругам», тогда как до этого многие из них совершенно не интересовались своими этническими традициями. У них возникла этническая идентичность, они начали следовать еврейским традициям (необязательно из религиозных убеждений, скорее потому, что это был обычай их народа). Только небольшое число из них стали по-настоящему религиозными; остальные соблюдали еврейские праздники просто как этнические традиции: «Как отказники, мы пытались отмечать еврейские праздники, но это было очень опасно. Мы пытались изучать иврит и иудейскую религию, потому что правительство стремилось подавить такие стремления. Каждый раз мы меняли место встречи нашей группы, изучавшей иврит, потому что боялись, что милиция запретит нам встречаться» (интервью 2).
Но возобновленная связь с этническими традициями вряд ли была их главной целью. Многие из них использовали свои сбережения, чтобы изучать английский язык. Как сообщает один из отказников, они изучали английский в течение многих лет еще до того, как приехали в Соединенные Штаты. Преподавание его было, конечно, на посредственном уровне. Пока они ждали приглашения, они начали брать частные уроки, договорившись с преуспевающей преподавательницей английского из Ленинграда, обучившей несколько поколений эмигрантов. У респондента были связи с преподавателями из Соединенных Штатов, которые отправляли ему учебные материалы. С этой преподавательницей они занимались в течение года. Они не изучали иврит — все они собирались в Нью-Йорк.
Однако, чтобы попасть в Соединенные Штаты, они сначала должны были получить приглашение из Израиля. Чтобы быть приглашенными в Израиль, потенциальные мигранты должны были получить документы из Израиля, доказывающие, что они родственники, желающие воссоединиться со своими семьями. В девяноста процентах случаев (эту цифру указывает респондент 22) эти родственные связи были ложными, но советские власти не обращали на это внимания, так как все знали, что такие документы не соответствовали истине.
Рассказчица вспоминает, что они получили такое приглашение от «двоюродных братьев» и принесли его в специальный отдел КГБ, заполнили подробные анкеты и должны были указать семейные связи с приглашающей стороной. И тогда они получили статус потенциальных эмигрантов. Сразу же возник риск потерять работу — с того самого момента, как они получили приглашение. Ее мужа, ученого-физика, уволили. Сначала ему отказали в допуске к архивам секретных документов. Затем получилось так, что британский ученый обратился в его лабораторию за консультацией. Они пригласили его к себе домой вместе с сотрудниками лаборатории. Такие вещи запрещалось делать без разрешения КГБ, и это было использовано как предлог для увольнения. Рассказчица тогда преподавала латынь, французский язык и историю в медицинском училище, и ее тоже уволили. После увольнения мужа они подали документы на выезд. Этот шаг привел к драматическим последствиям. Свекр рассказчицы имел доступ к секретным стратегическим военным документам и с юности состоял в коммунистической партии. После того как его сын с невесткой подали заявление, он, будучи честным человеком, отправился к начальнику отдела, чтобы поставить того в известность об этом, хотя у него самого не было намерения эмигрировать и он не разделял взглядов рассказчицы и ее мужа на будущее (но, как дедушка, он их «понимал»). На следующий день его отправили на пенсию, хотя он руководил крупным проектом (интервью 22).
В конце 1980-х началась четвертая и последняя волна русско-еврейской эмиграции. По соглашению между Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым открылись ворота для евреев, желающих уехать в Израиль для воссоединения со своими семьями. Те, кто приносил приглашения от фальшивых родственников, получали визы, а Горбачев — американскую пшеницу! В 1989 году конгресс США объявил советских евреев категорией, имеющей право въехать в США в качестве беженцев, если они могут представить убедительные свидетельства того, что они подвергнутся преследованиям, если останутся в СССР (Kliger 149).
Те, кто получил визы, отправлялись из Москвы в Вену, чтобы оттуда переправиться в Израиль. В Вене те из них, кто хотел эмигрировать в США, получали поддержку от Общества помощи еврейским иммигрантам (ХИАС). Оттуда они направлялись в Рим (месторасположение штаб-квартиры ХИАС), где подавали заявление на получение статуса беженца в США.
Как объяснила одна респондентка, вначале они отправились в Австрию за счет ХИАС. У них уже были планы ехать в Нью-Йорк — они хотели присоединиться там к своим друзьям, эмигрировавшим два года назад. Они отправились из Вены в Рим. Все было хорошо организовано. В августе они остановились на две недели в окрестностях Рима (в прелестном городке Монтичелло). Получив дотацию от ХИАС, им нужно было найти и снять квартиру. Сын рассказчицы хорошо знал римскую историю, помнил все наизусть и любил бродить по Риму. «Каждый стремился продлить свои итальянские каникулы благодаря ХИАС» (интервью 22).
Мигранты обычно путешествовали в составе представителей трех поколений, хотя в большинстве случаев бабушки и дедушки следовали неохотно: «Я отправился в США из-за дочери. Я не хотел ехать, потому что у меня была работа на Украине и я был членом Союза адвокатов в СССР, это был высокий статус. Но здесь я не могу работать юристом, пока не буду знать английский язык достаточно хорошо. Язык для меня — очень большая проблема» (интервью 4).
И другой похожий случай: «Я был военным офицером, полковником, отслужил двадцать девять лет в армии, ветеран Великой Отечественной войны. Я закончил свою военную службу в Ташкенте. Там процветал антисемитизм. Мои дети не хотели там жить и переехали сюда. Что мне оставалось делать? Я переехал вместе с ними» (интервью 10).
Еще: «Материнское сердце заставило меня быть с моим младшим сыном. Старший сын (который тоже не хотел эмигрировать) поехал с нами, чтобы сохранить единство семьи» (интервью 19).
В США эти объединенные семьи быстро осваивали язык, и их материальное состояние улучшалось. В 1990 году средний доход русскоговорящих семей в Соединенных Штатах составлял примерно 32 500 долларов по стране. «Процесс адаптации стал быстрым и относительно безболезненным для большинства из них — две трети находят работу во время первого же года пребывания в стране» (Supian)[13].
Это неудивительно. Автономные семейные единицы объединились для обеспечения ухода за детьми и оказания поддержки тем, кто был задействован как рабочая сила. Более значимым является уровень человеческого капитала. Уровень образования и навыков этой диаспоры — один из самых высоких среди тех, кто когда-либо въезжал в Соединенные Штаты. В одном опросе шестьдесят процентов интервьюируемых русско-еврейских иммигрантов указали, что имеют высшее образование, полученное за пять или более лет, в отличие от тридцать пяти процентов у американских евреев (RINA 12). В другом опросе дети русско-еврейских иммигрантов, прибывших после 1965 года, сообщили об образовании своих родителей: восемьдесят четыре процента имели по крайней мере одного родителя с высшем образованием, и шестьдесят один процент — двух родителей с высшим образованием (Kasinitz et al. 13). В еще одном исследовании, спонсированном Национальным фондом американской политики, рассматривались успехи детей недавних иммигрантов из разных стран. У них были лучшие результаты в математике и естественных науках, и многие дети родителей с визами H-1B (выданными лицам, имеющим ученую степень) — 100 000 человек прибывают ежегодно по таким визам со всего мира — вышли в финал национального конкурса «научных талантов», проводившегося корпорацией «Интел» в 1994 году. По данным этого исследования, опубликованным в нью-йоркской русскоязычной прессе, второе место занял Борис Алексеев, отец которого прибыл из России по визе H-1B. На международной олимпиаде по физике, проходившей в Южной Корее в 2004 году, американская команда включала двух недавних иммигрантов; единственной участницей-женщиной была Елена Удовина, отец которой также приехал по визе H-1B (Anderson)[14].
В самом деле, местная русскоязычная пресса наводнена историями об экономическом успехе русскоговорящих иммигрантов. История, озаглавленная «Золотых рук учитель» (Ярмолинец), рассказывает о Владимире Деминге, эмигрировавшем двадцать семь лет назад из Ленинграда, где он работал ювелиром. Его страстью была реставрация, и, оказавшись в США, он самостоятельно обучился этому ремеслу. Сейчас он преподает эти навыки в Нью-Йоркском институте моды и технологии и направляет американских студентов в Россию работать по реставрационным проектам. В «Новом русском слове» появилось интервью Александра Гранта с Семеном Захаровичем Кислиным. Кислин родился в 1935 году в Одессе и уехал из СССР в 1972-м. В СССР он был директором универсама, а сейчас возглавляет компанию «Trans-com- modity» с годовым доходом 1,1 миллиарда долларов. Когда Кислин приехал в Нью-Йорк, он не говорил по-английски, зарабатывал мытьем автомобилей и чисткой овощей. Его компания в настоящее время — крупнейший в мире поставщик литейного чугуна (Грант).
Амбиции иммигрантов «зашкаливают». Например, в интервью 13 мать гордо рассказывает о том, что ее ребенок сдал вступительный экзамен в школу Стайвесант, престижную манхэттенскую общеобразовательную школу, в которую можно поступить, только успешно сдав экзамены. Родители знали, что они уезжают из города, и поэтому их сын не сможет быть принят в эту школу. Тем не менее они заставили его сдать экзамен как свидетельство его академических успехов.
Кроме того, русскоязычная еврейская диаспора может похвастаться впечатляющим человеческим капиталом: ее члены имеют также наработанный в Советском Союзе навык пробиваться сквозь бюрократические барьеры — что довольно полезно для иммигрантов, стремящихся преуспеть в новой стране. Как уже говорилось выше, один из опрошенных мною сказал, что после пребывания в Вене «каждый стремился продлить свои итальянские каникулы за счет ХИАС». Рассказчица вспоминает, что их пригласили к консулу Соединенных Штатов в тот день, когда у нее была запланирована платная экскурсия. Эта экскурсия предназначалась в основном для русскоговорящих туристов, многие из которых находились на пособии от ХИАС. Они позвонили в консульство и сказали, что женщина заболела. Семья не пришла на прием. Через неделю они обнаружили, что их лишили субсидии от ХИАС, потому что они не пришли, когда им было назначено. Рассказчица с мужем пришли в ХИАС, чтобы выяснить, в чем дело, и их там приняли совершенно ужасно. В ХИАС знали, что у них двое детей и пожилой родитель, как же они могли лишить семью субсидии без предупреждения? — недоумевала рассказчица. В ХИАС отказались восстановить субсидию. Рассказчица с мужем уселись тогда в офисе и заявили, что не уйдут оттуда, пока финансовая помощь не будет восстановлена. Это сработало, помощь восстановили. Они получили то, что хотели, и вскоре после этого уехали (интервью 22).
В прессе отмечался еще один момент: «Как однажды сказал кто-то из русских комиков: если кто-то научился обкрадывать и обманывать свою собственную страну, ему легко удастся это сделать в любом другом месте. Это как раз касается русской мафии — даже итальянцы поражены их махинациями и бесстрашием» (Пахомов).
Старомодная коррупция вряд ли отсутствует в русско-еврейском обиходе. Американский анализ российских президентских выборов в марте 2004 года, включая данные госсекретаря США Колина Пауэлла, свидетельствует о махинациях. Ряд российских граждан, живущих в Нью-Йорке, отправились голосовать в российское консульство на Манхэттене и в театр «Миллениум» на Брайтон-Бич. Требовались паспорта. Один молодой человек представил сразу два, и сотрудник консульства упрашивал его использовать только один, «действующий» паспорт (Козловский).
Несмотря на то что опрашиваемые мной иммигранты своим успехом были обязаны сочетанию человеческого капитала, амбиций и хитрости, они выразили однозначную благодарность стране, которая предложила им убежище, и были почти единодушны в чувстве общей преданности Соединенным Штатам: «Все русские, которые прибыли сюда в возрасте старше двадцати пяти лет, говорят с акцентом, но они многого добились: они — врачи, юристы, владельцы крупного бизнеса; это великая страна, Боже, благослови Америку» (интервью 4). Один из респондентов жаловался на условия получения социального страхования. Они с группой ветеранов хотели, чтобы социальное страхование называлось «пенсией для ветеранов», поскольку это давало бы им чувство, что они имеют право на такое страхование, что они «заслужили» его. Тем не менее даже на фоне унизительной для него формулировки «социальное страхование» он выпалил: «Я благодарен Соединенным Штатам. Я получаю бесплатные лекарства, социальную страховку и много других преимуществ. Боже, благослови Америку» (интервью 15). Другая иммигрантка с ностальгией вспоминала Крым и Черное море (откуда она уехала, но куда регулярно возвращалась во время отпуска) как более красивое («более естественное») место по сравнению с тем, что она могла увидеть на пляже в Брайтоне. Однако ее преданность Соединенным Штатам не вызывает сомнений. Она вспоминает, как по прибытии в США они сняли комнату в частном доме в Бруклине. Они присоединились к жилищной лотерее и одиннадцать лет стояли на очереди, пока не получили квартиру в центре для пожилых людей. Но когда они получили ее, муж респондентки уже умер. «Мы проходили по Программе 8 и получали также дополнительный социальный доход и продовольственные талоны[15]. Чтобы получать все это, нам не нужно было работать. Боже, благослови Америку» (интервью 19).
В разных интервью постоянно встречалось выражение: «Мы очень благодарны. американскому народу. Мы ничего не дали Америке, а Америка дала нам социальное обеспечение» (интервью 10).
В одной газете репортер опросил русскоязычных иммигрантов, как они праздновали 4 июля. Одна из опрашиваемых так ответила на его вопрос: «Я провела День независимости с моим мужем. Мы пошли на Брайтон- Бич. Я — врач, поэтому я не могу отключать свой мобильный телефон. Но, к счастью, все мои пациенты чувствовали себя хорошо в этот день. Вечером мы встретились с друзьями и отправились в Бэттери-Парк смотреть салют».
Репортер пишет: «Празднование было позади. Я уверен, что все русские иммигранты почувствовали прилив патриотизма и растущее чувство принадлежности к американскому народу в День независимости» (Черноморский).
Я считаю, что иммигрантов подучили произносить «Боже, благослови Америку» для их интервью о гражданстве, потому что практически все они цитировали эту фразу как часть катехизиса. Однако не вызывает сомнений, что они испытывали безграничную благодарность Америке. И действительно, они становились сверхпреданными американцами. Но большинство американцев не «просто американцы», а имеют приставку перед этим словом (афроамериканцы, латиноамериканцы и т.д.). Что значит быть не «просто американцем» для представителей этой волны иммигрантов, которые в основном поселились в Бруклине? Я рассматриваю этот вопрос в следующих двух разделах.
II. НЕ СТАНОВИТЬСЯ «РУССКОГОВОРЯЩИМИ» (КАК В БЛИЖНЕМЗАРУБЕЖЬЕ)
Русскоязычные евреи могли называть себя таковыми и основывать свое социальное и политическое поведение на том, что они — представители «русскоговорящего населения» США. Если бы они это сделали, они стали бы частью надэтнического сообщества, включающего в себя русских, украинцев, белорусов, грузин и молдаван, которые также иммигрировали в Соединенные Штаты. В самом деле, многие евреи в республиках «ближнего зарубежья» после развала Советского Союза сделали выбор в пользу такого самоопределения. И по множеству причин адаптация к Америке в роли «русскоговорящих американцев» могла быть привлекательной.
Прежде всего, в Нью-Йорке имела место особенно сильная поддержка русского языка и сообщества говорящих на нем. В самом деле, в начале 1990-х здесь образовалась критическая масса говорящих по-русски. В 1990 году около 300 000 русскоязычных евреев жили в самом Нью-Йорке и около 400 000 — в прилегающих к нему районах. По данным официальных нью-йоркских источников, бывший Советский Союз был крупнейшим поставщиком иммигрантов в конце 1990-х годов (RINA 1—2). Учитывая размеры и географическую концентрацию русскоговорящей диаспоры, благоприятные условия для русского языка естественным образом распространились на следующее поколение. В отчете 1991 года показано, что пятьдесят три процента мигрантов второго поколения предпочитали говорить по-английски у себя дома, восемьдесят пять утверждали, что говорят по-русски «хорошо», и девяносто три сообщили, что понимают разговорный русский язык (Kasinitz et al. 10).
Один из моих респондентов объяснил, что в Бруклине очень хорошо сохраняется русская культурная жизнь благодаря большому количеству приехавших с четвертой волной. Этот респондент сам считает себя иммигрантом четвертой волны 1989—1992 годов; третья волна была в 1978—1979-м. У представителей третьей волны, с точки зрения респондента, не было ни знаний, ни информации; они страдали больше, чем представители четвертой волны. В 1989 году приток иммигрантов был огромным. Они прибывали по старому маршруту: израильская виза, Вена, Рим (на два месяца), затем — США. Рассказчик вспоминает, что, когда они приехали сюда, поток иммигрантов был такой, что они даже не могли снять квартиру. Теперь эти иммигранты — юристы, врачи, программисты, инженеры и художники. У иммигрантов третьей волны не было театра — в то время еще не открылся «Миллениум» в Брайтоне. Эти люди смогли сохранить русский язык, поддерживать существование русскоязычных газет, театров, двух радиостанций (не существовавших за десять лет до того) (интервью 3)[16].
Институциональная поддержка этого сообщества русскоговорящих была весьма сильной. Как сообщил один из опрошенных, когда он прибыл сюда, в публичной библиотеке Бруклина имелась лишь одна полка книг на русском языке. Сейчас существует огромный раздел русской литературы. Половина посетителей в библиотеке — русские, потому что русские — заядлые читатели. Все они посещают библиотеки и много читают; все местные библиотеки — в Брайтоне, в Шипшеде, в Герритсене — имеют русскоговорящий персонал. Когда респондент только приехал, имелся один-единственный русский книжный магазин, а сейчас их несколько, с множеством книг для детей. Рассказчик вспомнил, что он заплакал, увидев это, потому что в России, чтобы достать детские книжки, нужно было иметь знакомства в книжном магазине, а здесь, в Америке, вы можете купить все что угодно для русских детей, и сам рассказчик сообщил, что собирается покупать очередные книжки для своего внука. В библиотеках есть вся текущая художественная литература из России, включая классику, и вы можете заказать то, что желаете, через Интернет (интервью 1).
Благодаря превосходным библиотечным фондам русскоязычных книг и широкому использованию кредитных карт, с помощью которых можно заказывать книги онлайн, русскоговорящие американцы едва ли нуждаются в книжных магазинах.
Доступны и другие средства информации. Газеты на русском языке многочисленны. Телевещание на русском языке представлено многими каналами, к нему легко подключиться. «У меня есть четыре телеканала на русском языке. Последнее российское кино, которое мы видели, была "Бригада" (популярный в России сериал о бандитах; его можно взять напрокат во всех местных видеосалонах или посмотреть по телевидению)» (интервью 2). Российские радиопрограммы в Нью-Йорке повсеместно доступны, от ток-шоу до музыки и новостей. Театральных представлений тоже много, включая и привозные спектакли, премьеры которых проходили недавно в Москве и Санкт-Петербурге: «Что касается российских шоу, мы иногда ходим на них, потому что это удобно — в нескольких минутах ходьбы от моего дома. В театре "Миллениум" всегда аншлаг» (интервью 1).
Телефонная связь с русскоговорящим миром такая же дешевая, как и звонок в Нью-Джерси: «В 1989 году мы платили два доллара за минуту, сейчас это дешево; сейчас мы платим три цента максимум, звонок в Санкт-Петербург сейчас стоит 1,9 цента за минуту» (интервью 1). Все это — важное доказательство того, что в Нью-Йорке существует сформировавшееся самодостаточное языковое сообщество, члены которого имеют общую идентичность как русскоговорящие. Эти культурные и медийные возможности поддерживают образование сообщества с идентичностью «русскоговорящих». «Мы используем все более популярный термин "русскоговорящие" евреи, который включает людей со всего бывшего Советского Союза, а также формирующиеся "русскоговорящие" еврейские общины в Восточной Европе и Израиле», — сообщается в одном социологическом исследовании. И далее, там же: «Второе поколение все меньше интересуется тем, из какой советской республики происходят они или их друзья, в отличие от первого поколения иммигрантов» (Kasinitz et al. 10—11). В этом отчете есть примеры (и несколько наглядных иллюстраций) того, как дети русскоговорящих родителей отказывались от использования русского языка; однако, став взрослыми, они принялись изучать его в надежде научить ему своих собственных детей.
У некоторых из моих собеседников привязанность к родному языку — очень сильная и устойчивая. Так, один из них рассказывает, что дома они с семьей говорят по-русски — он на этом настоял. Он вспоминает, как в 1998 году взял своего сына в Санкт-Петербург. Город произвел на сына, Джулиана, огромное впечатление. Он отметил с восторгом: «Там все говорят по-русски. Спасибо, что научил меня говорить по-русски. Я могу понимать, что происходит вокруг меня». Рассказчик сообщил также, что его дети в течение трех лет проводили лето в Литве со своей бывшей няней и таким образом совершенствовали свой русский, а дочь рассказчика недавно провела лето со своей бывшей няней в Киеве и частично — на Черном море. Она вернулась, неспособная сказать ни слова по-английски, но при этом хорошо говорила по-русски, хотя все это закончилось примерно через неделю. Она не смешивала два языка, но каждое слово, которое она произносила по-русски, звучало очень забавно. Сын рассказчика загружает современную русскую музыку через Интернет, и они слушают диски на русском (интервью 11).
Русскоговорящие общины живут в определенных районах: Брайтон и Кью-Гарденс в Квинсе. Наиболее успешные русскоязычные евреи из Брайтон-Бич переезжают в более просторные дома и богатые кварталы на Манхэттен-Бич (Бергер). Но при этом стараются держаться вместе. Эстер Шварц, школьная учительница, сообщает, что большинство выходцев из России «липнут» друг к другу, потому что они предпочитают говорить на своем родном языке (Бергер). Чтобы символически увековечить появление такого исторически сложившегося языкового сообщества в Соединенных Штатах, газета «Новое русское слово» предоставила возможность выступить в печати человеку, выдвинувшему идею создать памятник русскоговорящей общине. «Нет достойного памятника, посвященного русскоговорящим иммигрантам», — написал Леонид Оловянников, который описывает иммиграцию как имеющую всемирно историческое значение. «Три поколения иммигрантов, которые принесли в США свои таланты, свои знания и опыт, заслуживают, чтобы их имена помнили вечно», — считает он.
Несмотря на все это, идентификация себя как говорящих по-русски не стала доминирующей политической идентичностью, по крайней мере среди русскоязычных евреев. Это, похоже, обусловлено несколькими взаимосвязанными причинами. Во-первых, имеет место классовое разделение между третьей (по большей части еврейской) и четвертой волнами иммигрантов (состоящей как из евреев, так и из этнических русских), препятствующее созданию общего культурного фронта. Многие из моих респондентов отрицают это разделение, но оно существует. Снова и снова интервьюируемые мной лица среднего поколения (третьей волны) настаивали на том, что у них есть близкие друзья неевреи (поддерживая тем самым представление о себе как космополитах), но, когда я просил их сообщить имена и телефонные номера (что позволило бы мне увеличить «снежный ком» примеров), они направляли меня в другие места, признавая, что у них нет этих номеров в мобильных телефонах. Одна из опрошенных, которая признала это разделение, обосновала его, сделав оговорку, что русские, приехавшие в Брайтон-Бич после 1991 года, были другими. Эти, по большей части русскоязычные неевреи, были бедными и приехали в США по материальным причинам, объяснила она, тогда как предыдущая волна, состоящая в основном из русскоязычных евреев, представляла собой хорошо обеспеченных людей, приехавших по политическим мотивам. Более поздние иммигранты поэтому имели больше трудностей с ассимиляцией, в то время как предыдущие ассимилировались легко (интервью 8). Другая опрошенная из третьей волны сказала то же самое. Она не «винит» представителей четвертой волны за их неудачу в установлении отношений с третьей волной иммигрантов, но находит с ними мало общего (интервью 22). Хотя в самовосприятии представителей третьей волны есть элемент заносчивости, поколение мигрантов-отказников и впрямь было более образованным и политически мотивированным.
Вторая причина того, почему мы не можем говорить о появлении в Нью-Йорке консолидированной и доминирующей идентичности, основанной на русском языке, — постепенная утрата родного языка у последующих поколений. Эта социальная реальность затронула все иммигрантские группы в Америке. Рассмотрим следующий фрагмент из Интернета, где пародируется способность детей второго поколения говорить по-русски. Курсивом отмечены английские слова:
Зарентовал двухбедрумный апартмент.
И для начала взяв полпаунда икры.
Я понял сразу — надо мной не каплет.
Мой велфер даст еще несметные дары («Weekend»).
Подобная смесь русского и английского языков в рамках нового диалекта довольно типична для диаспоральных ситуаций и аналогична развитию «хебраш» (иврита-русского) в Израиле (Remennick) и «спанглиш» (испано-английского варианта) в Соединенных Штатах. Она имеет место даже там, где уровень этнической эндогамии высок. В моих интервью постоянно сообщается об утрате способности читать и писать на языке отцов у поколения, рожденного в США. Родители с печалью признают всеобъемлющую одноязычную реальность английского, характерную для нового поколения: «Лучше всего наш старший сын говорит по-английски, затем по-русски, затем на иврите, который он изучает в школе. За обедом мы говорим по-английски. Если у нас есть силы, мы заставляем его отвечать по-русски; если нет — он отвечает по-английски, и мы просто принимаем это» (интервью 17).
Другой респондент отметил более тонкую особенность. Те, кто родился в Соединенных Штатах или уехал из России в возрасте семи лет и раньше, теряют «душу» языка, и он в большей степени становится средством коммуникации, чем компонентом культуры. Как только это происходит, психологическая мотивация старшего поколения сохранить язык пропадает.
Третья причина того, почему идентичность, основанная на русском языке, не оформилась, — это географические сдвиги. Например, существенно, что многие русскоязычные евреи переехали в Нью-Джерси и другие места США в поисках неограниченного рынка труда. Как только семьи покидают районы с высокой концентрацией русскоговорящих, дети в государственных школах теряют привязанность к языку, особенно в свете существенных экономических и социальных стимулов хорошо знать английский.
Четвертая причина, с точки зрения русскоязычных евреев, — это то, что в Америке распространены антирусские стереотипы, которые давят на психологию молодых людей; стремясь добиться успеха в Америке, они не решаются обнаружить свое русское наследие. Участвовавшие в опросе респонденты, даже из Нью-Йорка, проявляют крайне амбивалентное отношение к тому, чтобы считаться «русскими». Один респондент сказал: «В целом я плохо отношусь к русскому населению в своем районе, в Брайтон-Бич». Другой поправляет друзей, когда те называют его русским, и требует, чтобы его считали «русским евреем». Еще один говорит: «Американцы. смотрят сверху вниз на русских, потому что русские не такие религиозные, а быть религиозным — символ статуса». Одна девушка, с которой я говорил, беспокоится о своей цене на брачном рынке, поскольку многие американцы «смотрят на них (русских) как на стоящих ниже себя» (Kasinitz et al. 49—50).
Последняя причина вымывания русскоязычного культурного сознания в США — это конец «интеллигентской» культуры в американском окружении, которое не поощряет высокую культуру. «В России, — сказал мне один из опрошенных, — мы привыкли быть театралами, а здесь это меньше нас интересует. Поначалу нам не хватало языка для понимания театральных постановок. Кроме того, уровень режиссуры и актерского мастерства в России выше, чем тот, что мы видели в Штатах, особенно за пределами Бродвея и в Челси, поэтому мы перестали ходить в театр» (интервью 1). Или вот более неодобрительное заявление: «Америка скучна, в ней нет интеллектуального или поэтического сознания — того, что цементирует русский язык и что нынче вымывается» (интервью 8).
Подводя итог, можно предположить следующее: классовый разрыв, проходящий в большой степени внутри третьей еврейской волны и преимущественно затронувший русскую четвертую волну; неизбежная утрата языка последующими поколениями — судьба всех иммигрантских групп в Америке; все более широкое географическое распространение русскоговорящей еврейской общины и выделение определенных приоритетных аспектов идентичности (религия в противовес интеллектуальной культуре) — все это привело к снижению привлекательности основанной на русском языке идентичности для русскоязычных евреев.
III. СТАТЬ АМЕРИКАНСКИМИ ЕВРЕЯМИ (К ИХ БОЛЬШОМУ УДИВЛЕНИЮ)
Наши данные показывают, что русскоязычные евреи в Нью-Йорке становятся американскими евреями. В качестве своей доминирующей идентичности они принимают скорее религиозную, чем этническую, еврейскую идентичность. Это удивительно по нескольким причинам. Наиболее впечатляющим является то, что население, живущее в Брайтоне, является подгруппой отказников, которые отказались ехать в Израиль!
Но есть и другие причины, почему этот результат воспринимается как неожиданный. С одной стороны, большая часть этой диаспоры была воспитана в светской советской культуре, довольно несведущей в практике иудаизма. Один иммигрант сообщил мне с юмором, что на рейсе компании «Swiss Air» из Вены в Соединенные Штаты пассажирам-отказникам предложили кошерную еду, поскольку в авиакомпанию поступили сведения, что они еврейские беженцы. Он не знал, что значит «кошерный». Пассажиры пожаловались стюардессам, что они подвергаются дискриминации как евреи и хотят есть ту пищу, которую дают нормальным людям (интервью 25). В другом интервью респондент пытался подчеркнуть свою религиозную ортодоксальность. Однако, когда я спросил его, проходил ли он бар-мицву, оказалось, что он не знал про этот основной ритуал, который знаменует переход от детства к религиозному совершеннолетию (интервью 18).
Американские евреи были ошеломлены сопротивлением русскоговорящих евреев общепринятым в их среде религиозным практикам. Согласно Клигеру (Kliger 152—157), «американские евреи пытались установить контакт с русскими евреями как с иудеями, умаляя роль их особой русской идентичности и не понимая ее». В самом деле, русскоговорящим евреям, которые социализировались в обществе, исповедующем православие и еще недавно коммунизм, идея общинной еврейской жизни была чужда. Многие не могли по прибытии понять, зачем нужно платить за членство в синагоге; точно так же носить кипу было, по мнению многих иммигрантов, стыдно. Русские не говорят о своей религии, в отличие от американских евреев; скорее они говорят о своей вере. Для русскоязычных религия ассоциируется с утомительными ритуалами, тогда как вера опирается на размышления человека о своей судьбе.
В ходе опроса евреев в Санкт-Петербурге только один процент респондентов связал свою еврейскую идентичность с религиозной деятельностью, которая ассоциировалась с «исповеданием иудаизма». Такие же результаты были среди эмигрировавших в Израиль (Kliger 154). И в проводившемся в США исследовании мигрантов только 3,4 процента связывали свою идентичность с «исповеданием иудаизма» (Rliger 154). В Америке они говорят о своей религии таким образом, который не позволяет установить ориентиры для понимания их поведения, образа жизни или убеждений. Русские евреи в Америке не ходят в синагогу, говоря: «Бог может услышать меня и без синагоги».
В другом исследовании-анкетировании, в котором можно было дать один из нескольких ответов на вопрос, что значит быть евреем, только одиннадцать процентов русскоязычных еврейских иммигрантов смогли сказать, что значит «практиковать/исповедовать иудаизм»; семнадцать процентов сказали, что они соблюдают еврейские обычаи. Таким образом, для взрослых мигрантов еврейство имеет светский оттенок, ибо тридцать три процента заявили, что быть евреем — это «чувствовать себя частью [нечетко определенной категории] еврейского народа» (RINA 21). Клигер резюмирует эту ситуацию так: «С точки зрения подавляющего большинства американских евреев, исповедующих иудаизм, русские евреи в Америке продолжают быть столь же безразличными к еврейскому наследию и еврейской общинной жизни, как и тогда, когда они жили в Советском Союзе» (152).
Еврейские общинные практики были чужды этим иммигрантам. Однако есть области общей практики. Пейсах является наиболее соблюдаемым праздником (это отчасти объясняется тем, что община проводит Седер — ритуальную реконструкцию исхода). Тем не менее в публикации 1993 года сообщалось, что менее двадцати процентов евреев в России участвовали в Седере в том году (Шапиро и Червяков, цит. в: Kliger 157). Есть также некоторые данные по Соединенным Штатам, указывающие на активное участие в посте на Йом-Киппур («Судный день»). Однако подавляющее большинство молодых евреев из бывшего Советского Союза не были подвергнуты обрезанию. Раввин, осуществивший около 8000 операций обрезания в этой группе населения, сообщает, что двадцать процентов назначенных операций были отменены, и предполагает, что у русскоязычных евреев имеет место своего рода табу на этот священный еврейский ритуал. Более того, евреи из бывшего Советского Союза изначально не придавали большого значения соблюдению Шабата.
Мало того, что евреи из бывшего Советского Союза были встроены в светское окружение, но они еще и культивировали космополитичные дружеские связи в советское время. Один из опрошенных сказал, что все его ближайшие друзья — русские евреи, хотя в России его ближайшими друзьями были неевреи. Но в Америке практически каждый, кого он знает, и каждый, с кем он общается, — евреи из России (интервью 1). Другой сообщил, что все его родственники в США состоят в браке с лицами из среды русскоговорящих евреев. На Украине многие его друзья и коллеги не были евреями, а в Америке он вовсе не видит никаких «русских». Этот респондент подчеркнул, что ему нравятся русские и украинцы, потому что они хорошие люди, но в Америке он их не встречает (интервью 4)[17].
Несмотря на недостаточную вовлеченность и несерьезность русскоговорящих евреев в Нью-Йорке по отношению к религиозным практикам и вере, они становятся американскими евреями (с религиозным рвением, неожиданным для них самих). Это та идентичность, которая начинает определять их социально-политическое поведение. Почему это происходит? Некоторые ответы вытекают из моих интервью.
Во-первых, это историческая сила пятого пункта в советских паспортах, который классифицировал их как евреев по национальности в контексте советской социально-политической жизни. Однако, благодаря их светскому советскому воспитанию, они разработали светскую версию иудаизма, часто к огорчению спонсировавших их американских евреев. Тем не менее советская паспортная политика помогла материализовать их идентичность как евреев, и эта материализация имела долговременные последствия. Таким образом, советское бюрократическое наследие вполне может быть частью объяснения[18].
Во-вторых, существуют инструментальные причины для появления еврейской идентичности[19]. В конце концов, те, кто смогли заявить, что они евреи, получали бесплатный билет из «дурдома», которым считался Советский Союз. Данные интервью широко представляют эту тему: в 1989 году в СССР впервые было разрешено соблюдение еврейских ритуалов. Люди тогда смогли открыто собираться и изучать вещи, связанные с еврейской культурой. Респондент вспоминает, что в Перми в течение всего пятилетнего периода перед отъездом его семья имела возможность хорошо ознакомиться с разными аспектами еврейской жизни. Раввин приехал в Пермь из Израиля в 1991 году. Он пробыл в Перми три года, и респондент помогал ему, поскольку знал английский язык. Он помог ему получить квартиру и устроиться. Далее в разговор вмешалась жена респондента и сообщила, что еще до того появились три молодых человека из Израиля, из Министерства иностранных дел, и рассказали местным евреям, какие блага они получат, если эмигрируют в Израиль. Люди в Перми просто не могли поверить, что перед ними в их родном городе стоят люди с Запада. В то время сахар можно было получить только по талонам. Они сообщили этим молодым людям свои данные, чтобы получить приглашение из Израиля (интервью 17).
В другом интервью респондент по имени Василий вспоминает, как приехал в США в октябре 2000 года. Мать его жены была еврейкой, а отец жены евреем не был. Это позволило его жене и им обоим получить статус беженцев. Василий боялся уезжать, потому что он неважно знал язык и был стар для этого — даже и сейчас язык представлял для него трудность. Жена Василия вмешалась в разговор и сообщила, что, когда ее мужу исполнилось шестьдесят лет, он, как положено, вышел на пенсию. Пенсия была маленькой, поэтому он продавал найденные в мусорных баках вещи, чтобы хватало на жизнь. Он не хотел уезжать в США, но они получили статус беженцев и в один прекрасный день — телеграмму, разрешающую им уехать до ноября 2000 года. И они уехали. В США они получили добавочное пособие малоимущим (400 долларов в месяц), продовольственные талоны, медицинскую помощь (Василий перенес несколько операций, включая операцию на сердце, и все они были бесплатными) и пятидесятипроцентную скидку на пользование общественным транспортом (интервью 23).
Другой опрошенный (интервью 20) приехал в Соединенные Штаты в 1992 году. Был рабочим на строительстве. У него случился инфаркт миокарда, и он не мог больше выполнять ту же работу. Тогда он устроился в ювелирный магазин. Потом пошел учиться в бизнес-колледж в надежде научиться программированию. Он не закончил его, потому что у него случилось еще два инфаркта. Ему сделали операцию на сердце в госпитале Ленокс-Хилл, оплаченную за счет добавочного пособия малоимущим. В итоге он стал менеджером ювелирного магазина.
Обладая статусом беженца (который в Советском Союзе могли получить представители нескольких религиозных групп, но с наибольшим усердием к нему стремились евреи), русскоязычные евреи получали доступ к бесплатному здравоохранению мирового уровня и другим благам. Это было точно резюмировано в интервью 10: «Мы ничего не дали Америке, а Америка дала нам социальное обеспечение».
В-третьих, в США синагоги, иешивы и другие еврейские ассоциации играют ключевую организационную роль как средства ассимиляции. «По прибытии организация ХИАС встретила нас в аэропорту и проводила в отель» (интервью 7).
Хотя в целом надо отметить низкий уровень участия мигрантов второго поколения в общинной жизни, в целом это участие распределяется следующим образом: семьдесят один процент представителей поколения, рожденного в США, принимают участие в деятельности еврейских общинных центров и тридцать восемь процентов — в еврейских летних лагерях (Kasinitz et al. 30).
Респондент рассказывает: «Было очень интересно, как все это организовано. Нью-Йоркская ассоциация новых американцев (занимающаяся социальным обеспечением евреев) выплачивала арендную плату за первый месяц и залог собственнику, который новоприбывшие не должны были возвращать, поскольку фонд состоял из добровольных взносов. Но мы вернули этим людям то, что они на нас потратили [смеется]. Они списывали со счетов то, что передавали нам в качестве благотворительного пожертвования. Это я узнал позже, и это нормально» (интервью 11).
Уровень поддержки со стороны еврейских сообществ поражал иммигрантов. Анна (интервью 16) прибыла в Соединенные Штаты в 1993 году. Она получила статус беженки и была принята еврейской общиной в Форт-Уэйн, штат Индиана, которая пригласила ее семью. Здесь уже находился ее пожилой брат, у которого не было денег спонсировать других членов его семьи. Он обратился к этой общине в Индиане, которая помогла с деньгами для Анны, ее сына, его жены и их дочери. Община в Форт-Уэйн взяла эту семью под свое крыло на год. Им предоставили красивую, полностью меблированную квартиру с двумя спальнями, шкаф, набитый прекрасной одеждой, полный холодильник и конверт с 300 долларами. Это был маленький городок, но представители общины на машинах возили их повсюду. Во время интервью Анна неоднократно выражала свою благодарность этой общине. Позже она прожила в Нью-Йорке восемь лет, ожидая квартиру в доме для престарелых. Ее очередь подошла, и она проживает в этом доме уже два года. Она платит только 158 долларов в месяц за комнату, получает добавочное пособие малоимущим, продовольственные талоны и лекарства — все это благодаря статусу беженки. Сейчас она изучает английский язык в Еврейском колледже при синагоге каждый четверг, поскольку до сих пор владеет языком только на элементарном уровне.
А вот другой случай. Респондентка рассказала, как Нью-Йоркская ассоциация новых американцев нашла ей работу за четыре недели — продавщицей в лавке, торгующей клубникой; так вместе с коллегой по работе из Боснии она выучила английский. Параллельно она изучала бухгалтерский учет в школе и затем нашла работу клерка в отделе расчетов. Ее младший ребенок родился в Америке и пошел в детский сад. Опрошенная сообщила, что они не обращались напрямую в Еврейский центр. Ее муж Игорь не является зарегистрированным членом Еврейского центра, ему не хватает терпения высиживать чтение молитв. Но в прошлом году они ездили на неделю в Израиль с еврейской организацией (интервью 17).
После чего эта супружеская пара сделала свой выбор в пользу еврейской, а не русской идентичности.
Получив столь весомую социальную поддержку со стороны еврейских организаций, помогающих интегрироваться, диаспоральное сообщество из бывшего Советского Союза начало видеть своей «родиной», из которой они рассеялись по свету, скорее Израиль, чем Россию. Если это так, можно ожидать с их стороны гораздо большего интереса к ближневосточной политике, чем к политике России. Данные моих интервью подтверждают это.
Респондент рассказывает, что у него не осталось никаких связей в России. Он не скучает ни по кому из тех, кто там остался, но говорит, что здесь люди, эмигрировавшие со своей родины, сплачиваются. У опрошенного есть русский телеканал дома, но его не интересует, что происходит на Украине. Он подчеркивает, что, когда уезжал оттуда, никто не беспокоился о нем. Он сталкивался только с антисемитизмом и теперь считает Америку своей страной. Его интересует то, что происходит в Соединенных Штатах, особенно что касается терроризма, и что происходит в Израиле. В прошлом году он помогал собрать 200 000 долларов для Израиля. Он поддерживает людей, которые заботятся о прибывших евреях. Респондент сказал, что знает, что происходит в Чечне, но ему это не интересно. Его волнует положение дел в Ираке, потому что это недалеко от Израиля, и он утверждает, что эта война необходима ради Израиля (интервью 7).
В другом интервью опрошенная рассказала, что у них дома нет русского телевидения, они мало смотрят телевизор, но заходят на русские интернет-сайты. Они не следят внимательно за российской политикой. Муж респондентки Игорь заходит на российские новостные сайты несколько раз в месяц, а вот за израильской политикой следит в Интернете каждый день (интервью 17).
Другая респондентка говорит: «Я интересуюсь тем, что происходит сейчас в России, путинским тоталитарным правлением, но... мои друзья больше интересуются ситуацией в Израиле» (интервью 22).
Эти настроения — не просто интерес. Они отражают глубокое беспокойство за свой народ, и под этим народом понимаются евреи. Например, в разговоре с респонденткой я пошутил, что поток иммиграции продолжится, поскольку следующим поколением еврейских мигрантов, вероятно, будут люди, выселенные с оккупированных Израилем территорий. Ей было не смешно. Она сказала, что Израиль — очень деликатная тема и она не хочет говорить об этом в таком контексте.
Но не только вопрос ближневосточной политики выявил культурную идентичность опрошенных. Усвоив более или менее принятые по умолчанию требования эндогамии, они недвусмысленно обозначили, кто входит в их группу: подходящие потенциальные супруги — это американские евреи. Один респондент явно продемонстрировал то, о чем, в общем-то, можно было и не говорить: «Я мечтаю о том, чтобы мои внуки вступили в брак внутри еврейского сообщества. Мы — еврейская семья. У нас здесь есть возможность продолжить свою "нацию". Это очень важно» (интервью 7).
В поддержку этого стремления к эндогамии сеть еврейских объединений организовала программу совместного досуга для иммигрантов-евреев. Для этого используется, конечно же, синагога.
Один из опрошенных сообщил, что, когда он прибыл в Нью-Йорк, Нью-Йоркская ассоциация новых американцев предоставила его семье номера в отеле на три недели, пока он не нашел квартиру на углу авеню К и 31-й улицы. Он ходил в синагогу за школой Худд каждую субботу в течение двух лет. Респондент признался, что не понимал ничего, но ему переводили. Ему дали Талмуд на английском, и он читал его (интервью 10).
Все в плане помощи происходит именно так, даже когда иммигрантам малоинтересно то, что синагога может предложить. Так, другой респондент рассказал, что, когда он жил в Бейсайде, все свои связи он установил через синагогу, которую посещал всякий раз в Шабат. Он со смехом вспомнил, что был тогда хорошим евреем, куда лучше, чем сейчас. «Они не предоставляли социальных услуг, но я научился читать на иврите, правда, ничего не понимая. Я узнал о еврейских праздниках, что было очень полезно, потому что я не мог узнать о них дома» (интервью 11).
Объединение осуществляется не только через синагогу. Опрошенные рассказали о своем членстве во множестве еврейских организаций: Евреи из бывшего Советского Союза (респондент 4), Объединенная еврейская федерация (респондент 7), Американо-еврейская ассоциация ветеранов (респондент 21, офицер и ветеран Советской армии; члены этой группы заинтересованы в получении ветеранских льгот в США). Эти еврейские объединения дают возможность включить иммигрантов в более широкий социальный контекст, и, даже будучи светскими организациями, они сплачивают своих клиентов как американцев еврейского происхождения.
Еврейско-американская идентичность — центрированная на поддержке Израиля — может быть в высшей степени светской. Но возникающая еврейско-американская идентичность имеет склонность к религиозному складу. Этот путь лежит через детей. Многие иммигранты, имеющие детей школьного возраста, отдают их в иешивы (еврейские религиозные школы), с тем чтобы их дети что-то знали о некогда запрещенной религии. Интервью с еврейскими иммигрантами второго поколения из бывшего Советского Союза, живущими в Нью-Йорке, показали, что восемьдесят три процента опрошенных посещают государственные средние школы, семнадцать процентов ходят в частные, по большей части еврейские, школы (более высокий показатель посещения приходских школ, чем в любых других иммигрантских группах, в рамках более широкого исследования иммигрантов второго поколения в Америке; Kasinitz et al.). Шестьдесят шесть процентов из тех, кто родился в Соединенных Штатах («истинное» второе поколение), посещают иешиву по меньшей мере в течение года, так как большинство иешив не берут плату за обучение с детей-иммигрантов за первый год. Уровень академического обучения в иешивах не столь высок, однако они оказывают эмоциональную поддержку и оставили отпечаток религиозной идеологии на тех, кто посещал их. Иешивы меняли жизнь тех, кто их посещал. Ирен, одна из интервьюированных в социологическом исследовании, посещала иешивы с первого класса до окончания средней школы; она стала — и остается (сейчас ей уже за двадцать) — вполне ортодоксальной. «Это было травматично. Мои родители… не хотели быть религиозными. Они объясняли мне, что у них такое отношение ко всему этому, и они не собирались меняться. Они сказали мне, что, когда я вырасту и у меня будет собственный дом, я смогу делать все, что захочу, но что мне не удастся изменить их жизнь» (Kasinitz et al. 21—22).
Я слышал подобные истории и от своих респондентов. Например, один из опрошенных рассказал, что люди знакомились в Бруклине по большей части в иешиве, где брали уроки английского. Кто-то был из Белоруссии, кто-то из Кишинева, кто-то из Санкт-Петербурга, и все они были русскоговорящими евреями, но среди них не было чистокровных русских (русских русских — как их называли). Иногда русские из России приходили в иешиву, чтобы учить английский, — и они знакомились с ними и с теми, кто происходил из смешанных браков. Но на занятиях в иешиве девяносто пять процентов времени уделяется иудаизму, а пять — английскому (интервью 5).
По прибытии Галина немного говорила по-английски, а Александр по-немецки. Они прошли курс занятий английским до отъезда, но почти безрезультатно. Внучку Галины (которая только что закончила среднюю школу в Бруклине и которой было десять, когда они прибыли в США) отправили учиться в иешиву, потому что считали, что там она выучит английский быстрее, чем в государственной школе (интервью 9).
Другие опрошенные рассказали, что они отдали свою дочь в еврейский детский сад в Бруклине, на углу Кони-Айленд-авеню и авеню У. Они выбрали религиозную школу для своих детей, даже несмотря на то, что полагали, что в государственной школе качество образования выше. Родители чувствовали, что они без проблем могут помочь своим детям в изучении светских предметов, но они ничего не знали о предметах, связанных с иудаизмом, поэтому решили положиться в этом на школу. Они обсуждали этот вопрос с друзьями и много об этом думали. Некоторые друзья опасались, что, если дети станут религиозными, они отдалятся от родителей, потому что у детей будет другая культура. Но потом родители сочли, что этого не произойдет, и рискнули. И этого не произошло. Родители сказали, что они остались так же близки со своим детьми, как и раньше (интервью 24).
Исследования (Kasinitz et al.) демонстрируют, что сильнейшее формирующее воздействие на идентичность мигрантов второго поколения оказывают посещение иешивы более года, окончание иешивы и посещение Израиля. Посещение иешивы оказывало гораздо более сильное воздействие на религиозную идентичность респондентов, чем любой другой фактор. Оно положительно влияло на все аспекты идентичности, но сильнее всего затрагивало религиозный. Благодаря тому, что иешивы обеспечивали новоприбывшим детям мягкий переход к новой жизни, они были популярным выбором. Будучи однажды выбранными (по крайней мере теми, кто оставался в этой системе), они эффективно превращали русскоговорящую молодежь в практикующих иудеев.
Обучающиеся в иешивах или социализированные в рамках программ синагоги дети начинают «обращать» своих родителей, или, лучше сказать, превращать их светское этническое представление об иудаизме в религиозное. Из исследования мы узнаём о восемнадцатилетней Джулиане, родившейся в Соединенных Штатах вскоре после того, как ее родители эмигрировали. После ее рождения мать Джулианы стала все строже исполнять предписания религии и присоединилась к общине ортодоксальных иудеев. Джулиана рассказала, что ее мать хотела, чтобы она получила еврейское образование, так как в России это было бы невозможно. Еврейские школы требовали от женщин, чтобы они были религиозными, соблюдали все законы и покрывали волосы. И мать Джулианы в какой-то мере стала следовать этим правилам. Она делала это для того, чтобы ее дочь могла пойти в еврейскую школу. А затем, когда Джулиана узнала еврейские обычаи, она стала подталкивать к их соблюдению своих родителей (Kasinitz et al. 22).
Эта же тема проходит через несколько моих интервью. Одна пожилая респондентка четко видела тенденции: «При том что мои внуки теряют способность свободного владения русским языком, они вспоминают знания, полученные в синагоге, когда они были детьми». В этот момент в разговор вмешалась ее дочь: «Она пытается сказать, что ее внуки в большей мере иудеи, чем я. Нас не обучали религии, а наших детей обучали» (интервью 4). «Мои ближайшие друзья все-таки стали ортодоксальными иудеями, — отметила респондентка. — Так же, как и их дети. Они соблюдают всё. Их дети под влиянием местной синагоги склонили их к ортодоксальному иудаизму. Их родители последовали за ними» (интервью 22). Другие опрошенные признались: «В США мы стали интересоваться иудаизмом, и он стал частью нашей жизни. Наши же дети не просто им интересуются — они стали религиозными» (интервью 24). Данные, приведенные в таблице, подтверждают идею, что со временем русскоязычное еврейское сообщество в Нью-Йорке все больше начинает определять себя как иудеев.
Моя интерпретация данных таблицы такова: чем дольше русскоязычные евреи остаются в США, тем более религиозными они становятся. Альтернативная интерпретация (ее тоже нельзя исключать) такова: те евреи, которые уехали из Советского Союза раньше, были изначально более религиозны.
Выбор идентичности: отношение русско-еврейских иммигрантов в Нью-Йорке к религии
Процент тех, кто согласен с тем, что
«Новички» (более 3 лет в Нью-Йорке)
«Второкурсники» (3—6 лет в Нью-Йорке)
«Третьекурсники» (6—9 лет в Нью-Йорке)
«Выпускники» (более 9 лет в Нью-Йорке)
быть евреем важно или очень важно
63
65
65
79
иудаизм — наиболее привлекательная религия
41
46
54
64
Источник: RINA 9.
Вот интерпретация авторов исследования: «У нас есть ощущение, что число тех, кто придерживается иудаизма, увеличилось. Это может указывать на реальный рост веры и практики иудаизма или на усвоение американских привычек этнически-религиозной идентификации» (RINA 4). В любом случае мы видим постепенный переход русскоязычного еврейского сообщества к более религиозной идентичности.
Данные об отношении второго поколения мигрантов к религии (Kasinitz et al. 41—48) предполагают нарастающую со временем религиозную консолидацию в плане базовой идентичности:
— 40% второго поколения евреев, родившихся в Соединенных Штатах, в противовес 10%, приехавшим в США детьми, считают себя ортодоксальными иудеями или хасидами;
— 89% второго поколения евреев, родившихся в США, в противовес 65%, приехавшим в США до 1988 г., держат дома еврейские традиционные предметы;
— 63% второго поколения евреев, рожденных в США, в противовес 37%, приехавшим в США до 1988 г., утверждают, что посещают синагогу;
— «Мало вероятно, что те, кто родился в США, сообщат, что большинство их друзей — русские; скорее всего, они сообщат, что большинство их друзей — евреи» (Kasinitz et al. 30).
Эти данные подтверждают мнение, что мигранты второго поколения сильно привязаны к еврейским символам, организациям и еврейскому образу жизни — больше, чем их родители.
Все эти этнографические черты складываются в четкий выбор культурной идентичности. Один из опрошенных выражает это следующим образом: «Все называют нас "русскими евреями". Никто не говорит о нас как о "евреях". В России любой, кто упоминает "евреев", говорит: "Уезжай в Израиль". И вот мы приехали сюда, а они называют нас "русскими". Нас не устраивает определение "русский". Мы хотим быть "евреями", а не "русскими"» (интервью 7).
Русскоговорящие евреи пришли к осознанию себя, как в социальном, так и в культурном отношении, прежде всего «евреями» с сильной религиозной составляющей. Таков парадокс идентичности: происходя из абсолютно светского общества, каким оно было в Советском Союзе, русскоговорящие евреи в США пришли к видению себя социально и культурно прежде всего «евреями» с сильной религиозной составляющей. Между тем, в Израиле с его строгими религиозными установками русскоговорящие евреи пришли к видению себя в социальном и культурном отношении прежде всего русскоязычными и, как правило, нерелигиозными[20].
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Нью-йоркская русско-еврейская диаспора, исследование которой лежит в основе этой статьи, имеет, как и любые группы, основанные на идентичности, множество культурных черт и национальных признаков. В 2000 году в опросе RINA (16—18) респондентам было предложено выбрать свою идентичность из четырнадцати возможных. Результат:
— у 71% респондентов прозвучало слово «еврей» в различных вариантах ответов;
— 31% респондентов просто сказали «еврей». Это безоговорочно была самая безусловная идентичность;
— 6% сказали «американец»;
— 4% сказали «русский»;
— 56% привязали свою еврейскую идентичность к какой-то другой национальности.
В этой статье рассматривался вопрос, какой аспект из общей совокупности культурных черт, присущих русскоязычным евреям, был и остается базовой составляющей главенствующей идентичности; был сделан вывод, что это идентичность американского еврея. Чтобы объяснить этот вывод (в неявном сопоставлении с Израилем и «ближним зарубежьем»), вероятно, достаточно будет модели, подчеркивающей демографию группы и дающей общую схему распределения новоприбывших по категориям внутри принимающей страны. Однако процессы, в силу которых это произошло (а также сильное религиозное влияние в рамках еврейской идентичности), требуют более полного описания. Представленная здесь этнографическая информация показывает, что среднее поколение нашло в своей еврейской идентичности способ отреагировать на ограничение возможностей во время экономического застоя в Советском Союзе. Эта идентичность принесла возможность мигрировать, за которую они ухватились. Сразу по приезде они оказались не в руках политиков Тамани-Холла (как когда-то ирландские иммигранты в Соединенных Штатах), а в руках еврейских организаций, которые помогли направить их в синагоги, а их детей в иешивы. Дети серьезно отнеслись к урокам в иешиве и подтолкнули многих из своих родителей в направлении еврейской идентичности, основанной на религии. Они, как правило, идентифицируют себя с американскими евреями, все более всерьез принимают религиозную привлекательность идентичности и ограничивают социальные связи с российскими неевреями. В результате потомки тех, кто поддерживал космополитический идеал светского еврейства в черте оседлости XIX века, сегодня становятся чрезвычайно успешными декосмополитизированными американскими евреями в Брайтоне.
Перевод с англ. А. Горбуновой
ЛИТЕРАТУРА
Anderson Stuart. The Multiplier Effect // International Educator. 2004. Summer. P. 14—21.
Chandra Kanchan. Why Ethnic Parties Succeed. New York: Cambridge University Press, 2004.
Cohen Rina. From Ethnonational Enclave to Diasporic Community: The Mainstreaming of Israeli Jewish Migrants in Toronto // Diaspora. 1999. № 8. P. 121 — 136.
Ebaugh Helen Rose, Janet Saltzman Chafetz. Religion and the New Immigrants. Walnut Creek, CA: Altamira, 2000.
Gitelman Zvi. Becoming Israelis. New York: Praeger, 1982.
Gitelman Zvi. E-mail to the author. 12 Feb. 2005.
Gitelman Zvi. Immigration and Identity: The Resettlement and Impact of Soviet Immigrants on Israeli Politics and Society. Los Angeles: Wilstein Inst., 1995.
Herberg Will. Protestant—Catholic—Jew. Garden City, N.J.: Doubleday, 1955.
Kalyvas Stathis. The Rise of Christian Democracy in Europe. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1996.
Kasinitz Philip, Zeltzer-Zubida Aviva, Simakhodskaya Zoya. The Next Generation: Russian Jewish Young Adults in Contemporary New York. Russell Sage Foundation Working Paper № 178, June 2001.
Kliger Samuel. The Religion of New York Jews from the Former Soviet Union. New York Glory / Tony Carnes and Anna Karpatakis (Eds.). N.Y.: New York University Press, 2001. P. 148—161.
Laitin David D. Identity in Formation: The Russian-Speaking Populations in the Near Abroad. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1998.
Lipset S.M., Stein Rokkan. Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments. Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives / S.M. Lipset and Stein Rokkan (Eds.). New York: The Free Press, 1967.
Markowitz Fran. Criss-crossing Identities: The Russian Jewish Diaspora and the Jewish Diaspora in Russia // Diaspora. 1995. № 4. P. 201—210.
Posner Daniel. Institutions and Ethnic Politics in Africa. New York: Cambridge University Press, 2005.
Remennick Larissa. The 1.5 Generation of Russian Immigrants in Israel: Between Integration and Sociocultural Retention // Diaspora. 2003. № 12. P. 39—66.
Research Institute for New Americans [RINA]. Russian Jewish Immigrants in New York City: Status, Identity, and Integration. New York: Amer Jewish Committee, 2000.
Suny Ronald G. Revenge of the Past. Stanford, CA: Stanford University Press, 1993.
Supian V.B. Rossiiskaia Emigratsiia v SshA [Российская эмиграция в США]. International Union «United Russia» N.d. 15 July 2004 // http://www.msedina.org/?id=3022.
Waters Mary. Black Identities. New York: Russell Sage, 1999.
«Weekend» // Новый американец. 1989. Январь.
Werth Paul W. Theorizing the Politics of Cultural Identities in Russia and Ukraine. Rebounding Identities: The Politics of Identity in Russia and Ukraine / Dominique Arel and Blair A. Ruble (Eds.). Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press, 2006.
Zisserman-Brodsky Dina. The «Jews of Silence»—the «Jews of Hope»—the «Jews of Triumph»: Revisiting Methodological Approaches to the Study of the Jewish Movement in the USSR // Nationalities Papers. 2005. № 33. P. 119—139.
Бергер Йозеф. Русский десант на Манхеттен-Бич // Новое русское слово. 2004. 22 марта.
Грант Александр. Закон Кислина: деловитость + милосердие = успех // Новое русское слово (без даты).
Козловский Владимир. Одни выборы и два пожара // Новое русское слово (без даты).
Оловянников Леонид. Letter // Новое русское слово (без даты).
Пахомов Александр. Из школы коммунизма выходят профессионалами // Огонек. 1996. 3 июня.
Страна, где расцветают таланты // Новое русское слово. 2004. 26 июля.
Токвиль Алексис де. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992.
Тринадцать лет спустя // Новое русское слово (без даты).
Червяков Валерий, Шапиро Владимир. Что значит: «Быть евреем»? // Еврейский научный центр (опрос 1992—1993 гг. и 1997—1998 гг.).
Черноморский Владимир. Веселился народ независимый // Новое русское слово. 2004. 7 июля.
Ярмолинец Вадим. Возвращение Якова Смирнова // Новое русское слово. 2003. 23 января.
Ярмолинец Вадим. Золотых рук учитель // Новое русское слово. 2001. 8 мая.
[1] @ Diaspora: A Journal of Transnational Studies. 2004. Vol. 13. № 1. P. 5—35.
Исследование в рамках этой статьи проводилось, когда автор являлся членом Фонда Рассела Сейджа. Первоначально оно было подготовлено для конференции «Изменение и наложение идентичностей: Латвия перед лицом вступления в ЕС», проводившейся в Риге 17—18 сентября 2004 года. Автор благодарит Юриса Розенвалдса за приглашение к написанию этой статьи, ранняя версия которой была опубликована в Латвии. Автор также благодарит Инну Ставицки за материально-техническое обеспечение на Брайтон-Бич, Анну Гурфинкель за помощь в проведении исследования, Цви Гительмана за обмен данными и Канчан Чадру, Виктора Макарова, Инну Ставицки, Ай- варса Табунса, Сидни Тарроу, Цви Гительмана и Хачика Тололяна за критические замечания.
[2] С.М. Липсет и Стейн Роккан опубликовали основополагающую статью на тему социокультурных оснований доминирующих политических разногласий, и за ней последовало огромное количество литературного материала. См. работу Каливаса, в которой он анализирует взлет и падение католицизма в сравнении с секуляризмом как доминирующее разногласие в Западной Европе.
[3] Русско-еврейские иммигранты — термин, используемый ведущими учеными, изучающими эту общность. Но значительная часть этой общности не является ни русскими (по национальности), ни россиянами (гражданами Российской Федерации), поскольку многие иммигранты родом из Украины, Молдовы и других бывших советских республик, которые сейчас — независимые государства. Поэтому, когда я не ссылаюсь на работы других ученых и не пересказываю речь респондентов (где благодаря контексту определяется, какая именно общность описывается термином «русские»), я называю русско-еврейских иммигрантов русскоязычными или русскоговорящими евреями.
[4] Десекуляризация второго поколения русских евреев, о которой здесь говорится, согласуется с выводами Рины Коэн, сообщающей о светских израильских мигрантах в Канаду, чьи дети испытали религиозное пробуждение.
[5] Лариса Ременник показывает жизнеспособность в Израиле идентичности, основанной на русском языке.
[6] О подсчете голосов при возрождении культурных иден- тичностей см.: Chandra (гл. 4) и Posner.
[7] Образ русских евреев, жаждущих исповедовать свою религию, был опровергнут Фрэном Марковицем, чьи данные показывают, что большинство русско-еврейских эмигрантов в США отвергали возможности исповедовать свою религию и изображали из себя космополитов, стремящихся приспособиться к советской идентичности. Мои респонденты сообщили о том же самом. Однако они не поддержали предположение Марковица, что высокая русская культура сохранится в диаспоре как часть транснационального сообщества. Для обзора литературы по этому вопросу см.: Zisserman-Brodsky.
[8] О выборе идентичности русскими в «ближнем зарубежье» см.: Laitin.
[9] В этом Мэри Уотерс (см.: Waters) установила новый стандарт.
[10] «Космополит» — нагруженное многими смыслами слово в советском дискурсе. При Сталине оно ассоциировалось (по контрасту со словом «интернационалист») с буржуазной утонченностью, противоположной равенству. Я использую этот термин в его общепринятом смысле: те люди, которые идентифицируют себя как разделяющих судьбу всех народов мира, а не только собственной группы.
[11] Эта героическая работа по-иному оценивалась после войны. В ежедневной газете «Новое русское слово» опубликованы личные воспоминания о бытовом антисемитизме в послевоенной советской жизни, написанные через тринадцать лет после эмиграции: «Ничто не сотрет воспоминания о моем детстве, из которого я помню горькие антисемитские замечания, что "они"... все уехали в Ташкент, а за них должны были сражаться русские.» («Тринадцать лет спустя»).
[12] Название русскоязычной ежедневной газеты, выпускающейся в Нью-Йорке.
[13] Все переводы из источников на русском языке сделаны автором и проверены Анной Гурфинкель. Г-жа Гурфинкель присутствовала на всех интервью, которые проходили на смеси русского и английского, и переводила, когда это было необходимо.
[14] Об исследовании Андерсона сообщалось в газете «Новое русское слово» 26 июля 2004 года («Страна»). Там же была фотография «нашего соотечественника» Сергея Брина, одного из основателей Google.
[15] Добавочные пособия малоимущим (SSI) — федеральная программа дополнительного дохода, финансируемая за счет общих налоговых поступлений (а не за счет социального страхования). Она предназначена для того, чтобы помочь пожилым людям, слепым и инвалидам, у которых недостаточно или вовсе нет доходов; эта программа обеспечивает их наличными, чтобы удовлетворить базовые потребности в пище, одежде и крове. Потребовалось вмешательство заинтересованных органов, чтобы русско-еврейские иммигранты могли пользоваться этими средствами.
[16] Я изменил нумерацию волн, которую указывали информанты, в соответствии с российской историографией. Обычно принято считать, что первая волна была после революции, вторая — после Второй мировой войны, третья — еврейская миграция 1970-х и четвертая — во время и после перестройки.
[17] Цви Гительман (Gitelman) сообщает по электронной почте, что в соответствии с его исследованием положения евреев на Украине и в России в советское время сплоченные круги евреев вряд ли были более космополитичными, чем те, кто эмигрировал. Но это требует дальнейших исследований.
[18] О сохранении навязываемых Советским Союзом национальных идентичностей см.: Suny. Однако почему советский проект национальной идентичности был столь успешен, в то время как попытка социализировать граждан как «новых советских людей» провалилась — это головоломка, которую предстоит решить.
[19] См.: Werth. После реформ, дозволяющих свободу вероисповедания, последовавших после Революции 1905 года, большое число евреев стремились зарегистрироваться как баптисты. Столыпинское правительство отказывалось признать эти обращения, поскольку они были истолкованы не как конфессиональные, а как инструментальные. Обращенные полагали, что расходы, связанные с присоединением к баптистам, будут низкими, а потенциальные выгоды от возможности торговать в России — высокими.
[20] Более подробную информацию о русских иммигрантах в Израиле см. в исследованиях Цви Гительмана, где автор показывает, что молодежь в Израиле в меньшей степени является носителем «еврейского духа», чем старшее поколение.
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
О системах ценностей русской эмиграции в Китае
Марк Гамза
(пер. с англ. А. Володиной под ред. Д. Харитонова)
«На самом деле мы не знаем, каковы наши культурные ценности, пока они не вступят в противоречие с ценностями другой страны»[1] — эти слова принадлежат Нэнси Хьюстон, канадской писательнице, живущей во Франции и пишущей на неродном для нее французском языке; они не слишком оригинальны, но послужат нам хорошей отправной точкой. Большинство русских эмигрантов в Китае никогда не оказывались в ситуации такого противоречия, не столкнувшись с культурным вызовом другой страны. Китай ими как «страна культурного вызова» не воспринимался. Вместе с тем радикальная инаковость обстановки, в которой эти эмигранты оказались, и ограниченность практических и воображаемых возможностей для социальной интеграции (по сравнению с возможностями, открытыми для тех, кто уехал на Запад), подталкивали русских, очутившихся в Китае после 1917 года, к сплочению вокруг тех культурных ценностей, которые казались им общими и неизменными. Многие верили, что в России эти ценности уничтожались после Октябрьской революции; к этому представлению прибавлялось усиливавшееся ощущение того, что они навсегда оторваны от родины. Что бы ни понималось под «русскостью», ее следовало оберегать и передавать другим поколениям. По необходимости в этом исследовании я сосредоточусь на восприятии «ценностей»; попытки же измерить их соотнесенность с действительностью сделано не будет. Следует иметь в виду, что моральные коды или «системы ценностей» (о которых я не случайно говорю во множественном числе), присущие людям с общими национальными корнями, меняются с течением времени, а также в зависимости от места и языкового окружения. Разумеется, они могут принимать новые формы при переходе из поколения в поколение, особенно в тех случаях, когда разрыв между поколениями усугубляется дезориентирующим эффектом эмиграции.
Мои рассуждения о ценностных системах русской эмиграции в Китае будут конструированием воображаемого «среднего» — с учетом того, что в реальности существовало множество его вариаций на индивидуальном уровне. Руководствуясь принципом поиска общего, а не частного, я обращусь к трем книгам прозы русских писателей-эмигрантов, живших в Китае. Они были изданы в 2011 году издательством «Рубеж» (Владивосток), составив серию «Восточная ветвь». Эти книги — Михаила Щербакова (1890—1956), в чей сборник вошли также стихи, очерки, рецензии и переводы, Альфреда Хейдока (1892—1990) и Бориса Юльского (1912—1950?) — представляют собой весьма различные «голоса» русской эмиграции в Китае[2]. Некоторые сочинения Щербакова и Юльского будут интересны не только специалистам по дальневосточному региону, но и широкому кругу читателей и исследователей литературы русской эмиграции. Вышеупомянутые сборники — это первые издания их произведений в России. Рассказы Хейдока, уже переиздававшиеся в 1990-х годах, открыли читателю «мистическое» измерение литературы русской эмиграции в Китае. Эти рассказы публиковались в популярном харбинском литературно-развлекательном журнале «Рубеж», название которого переняли действующие сегодня во Владивостоке издательство и журнал.
Хейдок и Юльский, тоже постоянный автор «Рубежа», жили и публиковались в Харбине, Щербаков — в Шанхае, международном мегаполисе, который, однако, до тридцатых годов уступал Харбину роль центра русской эмиграции в Китае. Харбин был основан царским правительством в 1898 году в Маньчжурии как транспортный узел и административный центр строящейся Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Россияне прибывали в Шанхай в основном в качестве беженцев (начиная с 1918 года), тогда как те, кто обосновался в Харбине в первые два десятилетия существования города, были первопроходцами или колонизаторами — в зависимости от того, как толковать эти понятия. Число русских, изначально населявших Харбин, резко выросло в 1920-е годы за счет приезжих из Сибири, бежавших от революции и Гражданской войны. Отказываясь принимать советское гражданство, харбинские старожилы и их потомки также приобретали статус эмигрантов. Существовали и другие, куда меньшие русские «поселения» в таких городах, как Тяньцзинь, Далянь (который первоначально назывался по-русски Дальний) и Шэньянь (бывший Мукден) — ни один из них, впрочем, не стал культурным центром, сравнимым по важности с Харбином или Шанхаем. Наконец, на воображаемую карту русской жизни в Китае часто забывают нанести эмигрантские общины, возникшие вблизи железнодорожных станций и рассеянные по сельскому пейзажу Внутренней Монголии.
Я исхожу из того, что художественные тексты могут быть прочитаны с целью выявления тех систем ценностей, которые они отражают, — вне зависимости от того, декларируются ли в них эти ценности напрямую, даются намеками или предстают как нечто само собой разумеющееся. Предположу также, что пристальное чтение текстов двух писателей из маньчжурской эмиграции и одного из Шанхая даст нам адекватное представление о ценностях, важных для них и для их читателей. Выявление общих черт — а также различий — между авторами из двух главных русских центров Китая оправдает столь общее название этой статьи. Нужно признать, что отсутствие здесь женского взгляда усложняет дело. Я начну с попытки уяснить из отобранных текстов[3], как их авторы представляли себе окружавший их нерусский мир. Определив контуры этого «другого», можно будет рассмотреть их представления о «себе»[4] и на материале этих же текстов установить, как они воспринимали и описывали русскую эмигрантскую публику — своих читателей.
Эмигранты существовали в китайском окружении. Три вышеупомянутые книги, невзирая на расставленные по-разному акценты, проникнуты схожим отношением к персонажам-китайцам. Это отношение казалось бы парадоксальным или специфическим, будь оно присуще какому-нибудь одному из этих писателей. Однако оно заметно в сочинениях всех троих. По их книгам видно, что китайцы могли бездумно высмеиваться как составляющие коллективного целого, неразличимые лица в толпе, когда речь шла о настоящем — и при этом эстетизироваться и романтизироваться как личности, особенно когда они помещались авторами в прошлое или отождествлялись с ним. Заметим сразу, что восхищение китайской древностью в сочетании с отказом всерьез воспринимать современный Китай не было отличительной чертой русских писателей на Дальнем Востоке: в тридцатые годы беллетристы и путешественники, писавшие на английском языке, отзывались о Китае в том же ключе[5].
В текстах Щербакова мы находим проявления «рефлекторного» расизма, который даже не мыслится в собственно расистских категориях; эти предрассудки настолько банальны и обыденны, что не требуют разъяснений или оправданий и могут рассматриваться как часть системы ценностей, общей для автора и его предполагаемого читателя. В слова и мысли своих персонажей из русских Щербаков вкладывает такие обозначения представителей низшего класса китайского общества, которые ему должны были казаться как приличествовавшими русским охотникам и морякам из приморских областей Дальнего Востока, так и вполне приемлемыми для его читателей- горожан из Шанхая. Самое мягкое из этих слов (хотя и весьма пренебрежительное) — «ходя»; слово же «китаеза» если и может показаться забавным, то никак не китайцу. В раннем рассказе Щербакова «Корень жизни», в котором применяются оба этих обозначения, главный герой, охотник Николай Тимофеевич, обнаруживает такую чувствительность к запаху китайских продуктовых лотков на улице Владивостока, что вынужден бежать от этой культурно невыносимой для него «китайской вони»: «Охотнику сделалось тошно от всех этих чуждых запахов и звуков, его потянуло туда, где были белые люди, а не эти скользкие черные фигуры, от которых так явственно пахло смертью»[6]. В повести «Черная серия» главный герой, летчик Никита Анисимович, называет конфисковавших его самолет японцев «желторожими». Повествователь в рассказе «Кадет Сева» вспоминает, что накануне захвата Владивостока большевиками там действовали «шныркие коротконогие японцы, кишевшие во всех концах города, расползшиеся... точно муравьи на холодеющей лапе недобитого зверя»[7].
В этих сочинениях Щербакова азиаты без обиняков представлены людьми второго сорта — и при этом в тех же текстах разрабатывается мотив таинственного, экзотического Востока. В некоторых рассказах и стихотворениях с восторгом изображаются древние буддистские и даосские храмы и воспевается китайская каллиграфия. Подчас автор заигрывает с традиционным азиатским репертуаром — например, верой в дух корня женьшеня, лис-оборотней, божеств народной религии и даже драконов: чтобы придать основательности рассказу о неприятной встрече с одним из них («Утес дракона»), автор ссылается на источники в библиотеке Зикавей в Шанхае, утверждая, что существование драконов подтверждается документированными свидетельствами[8]. «Заигрывание» — пожалуй, наиболее подходящее слово для характеристики манеры, в которой такого рода мотивы используются и Щербаковым, и другими русскими писателями-эмигрантами из Китая: этот прием рассчитан на то, чтобы поддразнить читателя допущением «а что, если?», заставив его на мгновение усомниться в своей картине мира, предположить, что верования азиатов — не обыкновенные суеверия[9]. Впрочем, такое использование этих мотивов не исключает наличия подлинного интереса к восточной традиционной культуре у автора (так, Щербаков много путешествовал по Дальнему Востоку), или у читателя, или у них обоих. Обнаружить сегодня в текстах первой половины ХХ века «некорректные» выражения — задача слишком простая, а критика их с предвзятой позиции Эдварда Саида лишь помешает любой серьезной попытке понять, что за ними стоит. Несмотря на интерес к Китаю, который питали наши авторы, и некоторые признаки их знакомства с отдельными аспектами местной культуры, у нас нет свидетельств того, что кто-либо из них знал китайский язык. За редким исключением в лице поэта Валерия Перелешина (1913—1992), русские писатели в Китае почти не читали и не говорили по-китайски. Щербаковские переводы двух рассказов Лу Синя (1881—1936), опубликованные в шанхайских русских журналах, когда знаменитый китайский писатель жил в этом городе, были, скорее всего, сделаны по французскому изданию, вышедшему в Пекине[10] (хотя редакторы сборника Щербакова 2011 года и полагают, что Щербаков переводил с оригиналов).
Вернемся к словам Нэнси Хьюстон, с которых начинается эта статья: русские писатели редко пользовались вызовом, брошенным им Востоком, для того чтобы аналитически осмыслить чужие «культурные ценности», теоретически способные поколебать привычную для их читателей ценностную шкалу. Разительно неординарный пример — рассказ Юльского «Песня». Герой рассказа, монгольский скотовод Нурханов коротает в харбинском отеле пустые, трагические дни; они оказываются для него последними. Он напоминает «изваяние в монгольском капище» и называет себя «князем»: это дань Юльского традиции возвышения отдельных азиатов над их расовой принадлежностью через изображение их лицами благородного происхождения, вообще пережитками прекрасной старины[11]. Тяга к вольной жизни с степях борется в Нурханове с соблазном перебраться в город; своими желаниями и заблуждениями он выгодно отличается от харбинских русских, с которыми он имеет дело, — проститутки и сутенера, нацелившихся на его деньги. Даже лаконичная речь монгола не указывает на его культурную «второсортность», а относится на счет пиджина, распространенного русскими среди населения Дальнего Востока[12]. Такой резкой критике, как в этом рассказе, русские писатели, как правило, предпочитали национальную гордость, выражали коллективное «мы» и осмеивали «их» — причем не только априори «второсортных» азиатов, но и тех представителей Запада, которые смотрели свысока на русских беженцев.
Для читателя, который в таком нуждался, был явно предназначен рассказ Щербакова «Европеец», в котором описывается карикатурный богач-француз в Шанхае, легко добивающийся успеха у доступных американок, но неспособный увлечь бедную русскую девушку из благородной семьи. Героиня рассказа вздрагивает, услышав в трамвае вульгарный монолог хозяйки борделя, обращенный к «мадам Соловейчик». Это напоминание о грозящей ей опасности и следующие за ним воспоминания о благополучной жизни в России до эмиграции заставляют девушку отвергнуть ухаживания ее нетрезвого французского кавалера, который с досады называет русских «азиатами»[13]. У Юльского есть рассказ «Человек со шрамом», в котором показано, что честь русского офицера не купить ни за какие британские деньги[14]. Отсутствие у нерусских чести подразумевается в ключевой сцене «Черной серии» Щербакова, в которой капитан американского парохода хладнокровно игнорирует отчаянный сигнал о помощи русской шхуны в водах Тихого океана к востоку от Японии, будучи чрезвычайно занят — он танцует фокстрот под звуки джаз-банда[15].
В этих текстах к фамилиям иностранцев (в одном случае — к еврейской фамилии) последовательно и иронически приставляются обращения «мосье», «мадам», «м-р» и «мистер». У Юльского есть и «лэди», избалованная англичанка, наследница состояния, на которой женится высоконравственный герой «Человека со шрамом», капитан Антипов, чьи военные раны она врачевала; впоследствии он бросает ее, предпочтя ее обществу честную бедность. Эти простые приемы рассчитаны на то, чтобы создать ощущение отчуждения; то, как они применяются в прозе писателей-эмигрантов, поразительно напоминает стратегию советской литературы по изображению растленного капиталистического Запада. Представление о превосходстве русских было общей чертой обоих дискурсов, но рассказы об эмигрантских чести и гордости были призваны утешать читателей, предлагая им альтернативу зачастую суровой действительности. Некоторые русские женщины зарабатывали на жизнь занятиями, которые писателям-мужчинам казались зазорными: устраивались официантками и танцовщицами в кабаре или становились проститутками. Начиная с 1920-х годов офицеры царской и Белой армий, а также русские помоложе — попавшие в Китай детьми или там родившиеся — служили местным китайским милитаристам, а в 1930-х годах — японскому оккупационному режиму в Маньчжурии; рисковать жизнью за деньги что на одной службе, что на другой было отнюдь не то же самое, что рисковать ею за патриотические идеалы, придававшие смысл служению царю на полях сражений в Европе и в борьбе с большевиками на внутреннем фронте. Выражая эту мысль, Хейдок писал о «бесславной войне», которую вели русские наемники-эмигранты ради китайского генерала[16]. У Юльского же, напротив, озабоченность вопросами чести выразилась в том лестном свете, в котором он представлял службу у японцев в вооруженном лесном патруле — «русской лесной полиции», куда вступил и сам. На этом примере перейдем от тонкостей «негативного» определения различий между «ними» и «нами» к рассмотрению понятий, в которых «позитивно» формулировалась коллективная идентичность.
Герои Юльского демонстрируют воинскую храбрость, сталкиваясь с китайскими бандитами, так называемыми «хунхузами», которых они расстреливают в опасных ближних боях[17]. Потом они сжигают их «фанзы» (это слово — одно из тех, которые читатели дальневосточной русской литературы должны были знать, — означало либо пристанище бандитов, либо просто бедный китайский дом; все трое авторов употребляли его постоянно). Оба слова, заимствованные из китайского («хунхуцзы» — разговорное, буквально — «красная борода», «фанцзы» — «дом» или «комната»), вошли в торговый пиджин, иногда называвшийся «моя-твоя», которым пользовались русские и китайцы в Маньчжурии первой половины ХХ века. Когда слова из пиджина использовались русскими, они несли (особенно в печатном тексте) функцию кода, общего «местного» языка, способного «связывать» собеседников друг с другом. При том что китайская «фанза» вообще-то не была равноценна русскому «дому», частое употребление слов из пиджина указывает на то, что русские воспринимали азиатский мир как фон, необходимый для формирования собственной идентичности на Дальнем Востоке. «Как испуганное стадо, пассажиры убегали в фанзу, где сгруппировались у кана в ожидании своей жалкой участи», — пишет Хейдок, рассказывая о налете хунхузов на автобус в одном из своих приключенческих рассказов, опубликованном в харбинском «Рубеже»[18]. Посторонний бы этого не понял. Таинственные храмы неведомых богов, непонятный язык и даже зловонные продуктовые рынки были одновременно совершенно чуждыми и, как можно судить по включению в русский словарь звучащих по-китайски слов из пиджина, по-своему необходимыми для чувства дома. «Я не видел Венеции, но мне почему-то кажется, что Сучоу (sic!) сильнее, подлиннее ее, — писал Щербаков. — Каждый вершок грязной поверхности каналов потребен и... от этой тысячелетней настоенности быта исходит и бьет в голову крепкий, острый отвкус жизни, отгул своеобразной и не чуждой нам, русским, культуры»[19]. Китайские «бандиты» представляли собой единственные человеческие мишени, по которым русские эмигранты в 1930-х годах имели право стрелять (при поддержке своих японских нанимателей) и, таким образом, оставались единственными азиатами, которых русские в Китае еще могли подчинить себе. Поэтому хунхузы тоже были необходимы.
Однако во множестве произведений эмигрантской литературы, действие которых разворачивалось в Китае, нет персонажей-китайцев или иных намеков на то, что мы только что назвали «азиатским миром» (достаточно рассказов такого рода мы найдем и в сборнике Юльского)[20]: они создавали иллюзию самодостаточного русского общества — ценой ухода от действительности. Многие вещи, написанные в этом духе, были ностальгическими, и их герои редко видели смысл в своей жизни в настоящем. Придать ей смысл могло бы чувство положительной связи с местом проживания. Подлинный враг солдат Юльского из сборника «Зеленый легион» (автор озаглавил свои рассказы по аналогии с французским Иностранным легионом) находился за советско-китайской границей и был недосягаем для их пуль. И, хотя малая часть русской эмигрантской молодежи была мобилизована японцами для организации диверсий на советской территории, единственным альтернативным способом доказать свое мужество в девственных лесах Маньчжурии и выжить, чтобы поведать о нем, была охота на уже исчезавших маньчжурских тигров — тема охотничьих рассказов Николая Байкова (1872—1958)[21]. Хунхузом предстояло сыграть роль другой «дичи». В прозе Юльского, где тоже хватает охотников и тигров, русский «легионер» может, застрелив китайского бандита, нечаянно спасти жизнь невинной китайской женщины, над которой тот собирался надругаться[22], но удовлетворение его герои испытывают не столько от таких подвигов, сколько от ощущения мужского товарищества и от сознания того, что своей работой они вносят вклад в постепенное установление в Маньчжурии закона и порядка. Такой рассказ, как «Яблоня отцветает» (опубликован в 1944 году), в котором русский солдат и японский инженер, говорящий на литературном русском языке и читавший в оригинале Толстого с Чеховым, сходятся на том, что война есть настоящее призвание мужчины[23], может свидетельствовать о стремлении автора угодить своему японскому начальству, но точно сказать трудно: он с тем же успехом может отражать искренние политические убеждения автора как члена русской фашистской партии в Маньчжурии, которую японцы поддерживали. В некоторых рассказах Юльский доходит до откровенной пропаганды японского режима, грубо увязывая средства к существованию в настоящем и счастливое будущее русских эмигрантов в Китае с милосердным и заботливым Маньчжоу-го[24].
Так или иначе, у Юльского, как и у многих других писателей-эмигрантов, система ценностей сориентирована скорее на прошлое, чем на настоящее. Перспектива остаться в Китае под политической защитой Японии — не единственное будущее, которое он воображает для своих героев и, возможно, для себя самого. В своих последних сочинениях 1944 года он изображает поселение для русских эмигрантов, устроенное японцами в отдаленной области Маньчжурии, и, дав циклу рассказов о них название «Новая земля», сравнивает тамошних русских пионеров с персонажами Джека Лондона. Писатель присоединился к ним и, вероятно, там и был взят в плен советскими войсками, занявшими Маньчжурию в августе 1945 года; в ноябре он был приговорен к десяти годам лагерей и этапирован в Севвостлаг в Магаданской области, откуда бежал в 1950 году и, по всей видимости, погиб после бегства[25]. Однако ему представлялись и другие «новые земли». В одном из лучших своих рассказов, «Человек, который ушел» (1940), Юльский описывает от первого лица своего сослуживца по лесной полиции: антигерой, бывший поручик Вальтер, «последний отпрыск старого дворянского рода» — занесенный в маньчжурское захолустье алкоголик, которого его сын, живущий в Харбине (там же выходит за другого его жена), считает погибшим; у него нет «настоящего» и уж точно нет ощущения, что его служба имеет какой бы то ни было смысл. Глаза Вальтера «были выцветшими и пустыми. Глаза, которые ничего не видели впереди. Они, казалось, могли смотреть только вглубь, в прошлое». Все, что у него осталось, — это воспоминания о том далеком прошлом, когда он был блестящим офицером царской кавалерии. Среди воспоминаний поручика Вальтера — неожиданная встреча в дождливой ночи на поле боя с вольноопределяющимся Гумилевым. Повествователь цитирует Вальтеру стихотворение Гумилева, когда они беседуют при луне, и предлагает контрастное сравнение: «Я спрашиваю: — Подходит к настоящему моменту, правда? Только здесь вместо Африки — тайга, а вместо дикарей — хунхузы.»[26] Впрочем, подлинное различие между обстоятельствами и настроениями, на которое указывает тень Гумилева, связано с описанием в «Записках кавалериста» боев, в которых молодой идеалист-доброволец снискал славу, бесстрашно сражаясь за Россию в Великой войне, и портретом отчаявшегося и обесчещенного человека средних лет, гоняющегося за китайскими бандитами в фантомном японском государстве. Финал рассказа выделяет его из ряда ностальгических припоминаний утраченных радостей «прежней жизни» и стереотипических сетований на судьбы князей, ставших шоферами и лифтерами, воспроизводившихся литераторами из русских эмигрантов на страницах журналов от Харбина до Берлина. Когда Вальтер погибает от пули, полученной в стычке с хунхузами, повествователь пишет ему письмо, в котором говорит убитому офицеру, что «солдаты не умирают: они "уходят на запад", в какую-то далекую и красивую страну»[27].
Эта страна, в которой повествователь обещает Вальтеру новую встречу, — место отдыха и рай для солдат: «Там, в этой стране, Вы снова встретите то, что было прежде». Но он прибавляет: «Я не видел этого наяву, знаю об этом только из Ваших рассказов»[28]. Эти слова раскрывают положение писателя и его поколения: привезенные в Китай детьми (родившемуся в Иркутске Юльскому было семь лет, когда его семья пересекла маньчжурскую границу в 1919 году) или родившиеся в обстоятельствах, которые окружавшие их взрослые называли «эмиграцией», они унаследовали ностальгию по прошлому, которого у них не было. Его воссоздание (на китайской ли земле, где- либо еще) тоже не могло отражать их мечты — лишь мечты других (родителей, старших товарищей по оружию). Так, многим сторонним наблюдателям поселения казаков или староверов в Маньчжурии казались микрокосмическими осколками канувшего в небытие русского мира, отвергнувшими географию и время[29]. В рассказе «Линия Кайгородова», героя которого, художника, лишают рассудка сообщения в газетах о войне в далекой Европе, автор называет пригород — очевидно, харбинский — «уголком устаревшей русской провинции» и предсказывает, что и это вневременное бытие вскоре окажется в пропасти, в «бездонной черной яме» (лейтмотив рассказа)[30].
На что же было рассчитывать людям, не сумевшим убежать от времени и политики, которые лишили их власти над своей жизнью? Одним из возможных выходов было укрепление связей друг с другом: в нескольких рассказах Юльского восхваляются семейные ценности[31]. Другому способу превозмогать тяготы, игравшему важную роль в жизни русских эмигрантов в Китае, авторы, о которых идет речь в этой статье, уделили немного внимания — им почти нечего было сказать о православии и церковных праздниках. Иной мир, которым повествователь утешал поручика Вальтера в «Человеке, который ушел», является в рассказе «Парашютист» — тоже о русском (в этом случае ребенке), погибшем в Маньчжурии от хунхузской пули, — в образе «сказочного брига с ажурными черными парусами». Повествователь жалеет, что этот сказочный корабль не унес его «по лунной дороге» в бескрайнее небо еще тогда, когда он сам был ребенком в русской провинции[32].
В финале рассказа Альфреда Хейдока, писавшего о сверхъестественном и оккультном, смерть также предстает путешествием в другую страну[33]. Мы не можем утверждать, что религия и эзотерика для их адептов были всего лишь средствами уйти от трудностей существования. Не все, конечно, так просто; но не приходится сомневаться в том, что разные формы веры в потустороннее должны были, среди прочего, даровать утешение в этом мире. Русские в Китае, побитые волнами политических потрясений и оказывавшиеся во все более и более шатком положении, весьма в таком утешении нуждались. Не следует считать, что само состояние эмиграции делало человека несчастным, не следует и чрезмерно полагаться на общие сведения об обстоятельствах эмигрантов, почерпнутые из политической и социальной истории. Выводы, основанные на совокупности «обезличенных» данных, будут применимы лишь к условному «среднестатистическому», тогда как (это следует подчеркнуть) во множестве частных случаев жизнь в Китае или «переэмиграция» в какую- нибудь третью страну в дальнейшем обеспечила выходцам из России более надежные бытовые условия и больше возможностей для счастья и самореализации, чем родная страна могла бы предложить им на протяжении большей части ХХ века. При этом многие страдали, и страдания усиливались ощущением оторванности от корней. Расцвет интереса к религии и сверхъестественному среди эмигрантов в Китае — феномен, отразившийся во множестве книг на эти темы, опубликованных русскими издательствами Харбина и Шанхая, — был связан с их жизненной ситуацией.
Сочинения Хейдока удовлетворяли соответствующие потребности. При этом представления о переходе от обыденной реальности эмигрантской жизни к возвышенным формам духовного бытия, присущие героям его рассказов, по меньшей мере туманны: в «Трех осечках» один из них выражает «смутную веру в страну Высших Целей, откуда иногда [к нему слетают] удивительные мысли.»[34]. В рассчитанной на широкую аудиторию прозе Хейдока увлеченность мистикой подпитывается цветастым восточным романтизмом, примером чему могут служить рассказы «Нечто» и «Маньчжурская принцесса»[35]. В этих незамысловатых с литературной точки зрения вылазках в область сверхъестественного чувствуется влияние Николая Рериха (Хей- док был его верным последователем); в 1934 году, пребывая в Харбине, тот написал предисловие к его сборнику «Звезды Маньчжурии», в котором приветствовал оживление «древних былей» в свете созидания новой Маньчжурской империи. Перспективы, предлагавшиеся читателям этого сборника, не связывались даже с крепнувшей японской властью (как в рассказах Юльского): мечтатели и безумцы, наводнившие рассказы Хейдока, в жизни терпят поражение. Ценности, с которыми они сообразовываются, тоже не выдержали проверки эмигрантскими невзгодами. Его герои живут фантазиями о мистическом «не здесь», о другом, воображаемом бытии, потому что больше у них ничего нет.
В заключение этого краткого экскурса в сложную и деликатную тему я вынужден сделать то, чего обещал не делать: отвлечься от персонажей, населяющих книги троих писателей, и перейти к обыкновенным людям из Харбина, из поселений КВЖД и других китайских городов, в которых жили русские эмигранты. В их повседневной жизни тенденции к консервации и адаптации неизбежно сочетались друг с другом. Модель бытования русской эмиграции на Западе была иной: в Китае русские не продержались достаточно долго для того, чтобы их дети пустили в этой стране корни, а Харбин и Шанхай — укрепились бы на карте рассеяния русской диаспоры. Просуществовав на карте русского зарубежья почти полвека, эти экзотические места стерлись с нее — и потому, что сами эмигранты не желали навсегда сделать Китай своим домом, и под воздействием политических сил, СССР и КНР, солидарных в желании выдворить их оттуда. История русских в Китае ХХ века, по сути, завершилась с отбытием последних из них в 1960-х годах. Какие ценности они увезли с собой? Даже эмигрировав повторно — в Северную Америку или в Австралию, — эмигранты первого поколения, ставшие таковыми в Китае, зачастую не теряли патриотизма, стремясь, несмотря на все невзгоды и неудачи (а может быть, именно из-за них) оставаться «русскими» по языку, вере, образу жизни и мысли и воспитывать «русскость» в своих детях. Другие эмигранты, пережившие репатриацию в Советский Союз и вынужденные приспосабливаться к системе социалистических ценностей, насаждавшейся в этой стране, системе, автоматически превращавшей «эмигрантов» в «предателей», пытались сохранять и (до последних лет советской власти — тайно) передавать следующим поколениям сознание своей особой принадлежности — к харбинцам, или «русским из Китая».
Пер. с англ. Александры Володиной под ред. Дмитрия Харитонова
Работа над статьей осуществлена при поддержке Фонда Цзян Цзинго (The Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange), грант RG002-P-08.
[1] Huston N. The Mask and the Pen // Lives in Translation: Bilingual Writers on Identity and Creativity / Ed. by Isabelle de Courtivron. N. Y.: Palgrave Macmillan, 2003. P. 55.
[2] Щербаков М. Одиссеи без Итаки. Владивосток: Рубеж, 2011; Юльский Б. Зеленый легион. Владивосток: Рубеж, 2011; Хейдок А. Звезды Маньчжурии. Владивосток: Рубеж, 2011. В дальнейших примечаниях я буду ссылаться на эти издания, указывая фамилию автора и страницу.
[3] Ради задач, поставленных в этой статье, я исхожу из того, что издания 2011 года представляют собой точные (не- отредактированные и несокращенные) воспроизведения оригиналов. У меня нет оснований полагать, что это не так, если не считать множества опечаток в этих изданиях Щербакова и Юльского. Остается вопрос о том, как выбирались тексты — понятно, что решение было за редакторами серии, Александром Колесовым и Александром Лобычевым.
[4] Ср.: Jahn H.F. «Us»: Russians on Russianness // National Identity in Russian Culture: An Introduction / Ed. by Simon Franklin and Emma Widdis. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 53—73, в особенности p. 73.
[5] См. проницательную критику этого подхода к Китаю в статье американской писательницы Эмили Хан (1905— 1997), в то время жительницы Шанхая: Hahn E. The China Boom // T'ien Hsia monthly. 1938. № 3. Репринт: China Heritage Quarterly. № 22 (June 2010).
[6] Щербаков, 35. Отметим употребление слов «ходя» и «китаеза» в том же рассказе; последнее также употребляется в городском контексте Шанхая на с. 158. О китайской вони см. в рассказе «Паршивый уголь» на с. 52. Герой рассказа, капитан русского парохода, говорит о «китаезах из Шандуня»: «Ведь из этого самого Чифу желторожие прут к нам, как из брандспойта. Чего только не делали при Царе, чтобы остановить: ничего не помогло. Расползлись, точно клопы». Китайцы, в свою очередь, называют его «капитана» и назначают судьей, дабы он заставлял их соблюдать закон тайги (54). В другом рассказе о дальневосточном капитане («Последний рейс») упоминаются «местные "манзы" — китайцы» и «местная китайня» (170, 175).
[7] Щербаков, 192, 244.
[8] Щербаков, 102—104. О женьшене см. уже упоминавшийся рассказ «Корень жизни» и стихотворение «Жень-шень». В двух из «Шанхайских набросков» Щербакова («Каллиграф» и «Хрустальный шар») появляются китайский каллиграф и адвокат-эстет; в другом рассказе этого цикла посещение храма в центре Шанхая представлено путешествием во времени, в глубокую древность («Поэма огня»). Посещения корейских и японских храмов — предмет ряда стихотворений Щербакова (в его поэтическом творчестве есть и другие вариации на азиатские темы); его путевые очерки «Священный остров» (о буддийских храмах Путу- шаня и местном культе богини Гуаньинь) и «По древним каналам» (о Сучжоу) также демонстрируют расположенность к традиционной китайской эстетике.
[9] См.: Щербаков, 150; и рассказ «Иринари» о японской лисе-оборотне.
[10] Источник второго из двух рассказов (их названия Щербаков перевел как «Господин Кун» и «Завтра») — явно «Choix de nouvelles de Lou Shun» в переводе Чжан Тянья (Peking: Imprimerie de la «Politique de Pekin», 1932). Щербаков — не утверждавший, что знает китайский язык, — обращался к другому номеру журнала «Politique de Pe- kin», чтобы перевести опубликованную в нем лекцию китайского автора о театре (см. с. 447). В очерке «Вывески», который начинается с самокритичного замечания — европейцы, мол, «ходят по китайским улицам не только как глухонемые, но и как слепые», — автор говорит о том, что означают торговые вывески, «объясненные [ему] в Пекине и Шанхае» (143). В рассказе «Чэ» из «Шанхайских набросков» (его заглавие воспроизводит звучание китайского глагола «есть») повествователь дает понять, что его китайский «приятель и сослуживец», который познакомил его с местной кухней, пригласив на свадебный обед, использовал для своих подробных гастрономических разъяснений «чужой язык», то есть говорил по-французски или по-английски.
[11] Сюжет «Озера богача. Корейской легенды» Щербакова основывается на фантастическом рассказе, который повествователь слышит от знатного корейца. При виде впечатляющей гробницы в Сучжоу Щербаков воображает, что в ней погребен «князь, принц крови, а может быть, и сам император», и описывает вымышленные похороны этих древних правителей (378—379).
[12] «Слова произносил почти без акцента, но в построении фраз была та примитивность и короткость, которые русские в течение долгого ряда лет старались ввести при объяснении с монголами и тунгусами» (Юльский, 306).
[13] Щербаков, 158—159, 168; ср. «полуазиаты», с. 156.
[14] Юльский, 127, 136—139. См. также рассказ «Мяу», в котором высмеиваются англичане. В рассказе Хейдока «Ми-ами», фантазии на тему межрасового секса в Гонконге, русский персонаж, разозленный британцами, стремится «превратить себя в скифа, полуазиата, чтобы прислушиваться [в туземном квартале] к шипению скрытой ненависти, питаемой цветным населением к белым братьям» (Хейдок, 96).
[15] Щербаков, 227—228. Злополучной шхуне откажет в помощи и другой, неопознанный иностранный пароход, затем русский экипаж будет вынужден подавить восстание струсивших корейских матросов (234—235, 238), и лишь после этого «Диана» в конце концов спасается, прибившись к берегам Гуама.
[16] Хейдок, 54—55; развенчание героизма поборников Белого дела — на с. 64, 88.
[17] Рассказ Юльского «Вода и камень» начинается словами: «Мы подошли к фанзе бесшумно шагов на двадцать и только тогда открыли огонь» (с. 38). Ср. с. 70—71, 78, 438— 439. Во время оккупации Маньчжурии Японией (1931— 1945) японские власти называли «бандитами» целый ряд враждебных им сил, в том числе участников китайского сопротивления и коммунистов. «Белобандитами» называла белоэмигрантов советская пропаганда с начала 1920-х годов.
[18] Хейдок, 188—189. Кан — кирпичная кровать с подогревом, напоминающая русскую печку; ими пользовались в северном Китае и в Корее.
[19] Щербаков, 371; см. там же, с. 410 — о том, что, по Щербакову, русские писатели в Китае были не только географически, но и духовно ближе к России, чем их коллеги из европейской эмиграции: «.здесь, на Востоке, мы гораздо меньше оторваны от Родины, продолжающей невидимо питать нас своими соками, тогда как на Западе этот живо- носный родник иссякает все больше и заметнее под давлением чуждой механической цивилизации».
[20] См. рассказ «Закон жизни», в котором единственным свидетельством того, что действие происходит в Китае, служит курение «маньчжурского табака» (Юльский, 285), или «Поезд на юг», в котором поезд, фигурирующий в названии, направляется в Шанхай, однако больше о Китае ничего не говорится; в рождественском рассказе «Станция на окраине» русский бал на станции КВЖД, где один из юных гуляк «был наряжен китайцем» (с. 302), прерывается вооруженным нападением хунхузов.
[21] Еще один важный проект владивостокского издательства: Байков Н. Собр. соч.: В 3 т. Владивосток: Рубеж, 2011 — 2014.
[22] См. рассказ «Вторая смерть Шазы» (с. 78). Далее происходит все то же «заигрывание» с китайским суеверием: убитый бандит, возможно, перевоплощается в тигра, и русскому прапорщику приходится убивать его еще раз. На аналогичном «заигрывании» строятся рассказы «Господин леса» (из того же сборника) и «След лисицы», в котором русский преследует китайскую лисицу-оборотня. Отличается от них лирический рассказ «Возвращение г-жи Цай», который, не будь он подан как устное повествование «старого китайца за чашкой цветочного чая» (с. 316), можно было бы сравнить с европейскими модернистскими экспериментами с китайской стилистикой и тематикой. Ср. недавно переведенный сборник рассказов Белы Балаша (1884—1949): Balazs В. The Cloak of Dreams: Chinese Fairy Tales [1921] / Trans. by Jack Zipes. Princeton: Princeton University Press, 2010.
[23] См.: Юльский, 173. В рассказе «Чудесная птица — любовь», основанном, по словам автора, на правдивых фактах, относящихся к службе русских в армии китайского милитариста, сообщается, что впоследствии его герой «пал смертью храбрых при штурме Толедо, сражаясь в авангарде армии генерала Франко» (с. 343).
[24] См., в частности, рассказ «Счастье», опубликованный в 1941 году. Из-за цензуры в Маньчжоу-го Япония и японцы в этом рассказе называются по-русски «Ниппон» и «ниппонцы», а ханьское население Китая стало «маньчжурами» (с. 447).
[25] Биографическая справка о Юльском почерпнута из полезного предисловия к сборнику, написанного Александром Лобычевым, который тоже (хотя и в ином ключе) подчеркивает значение рассказа «Человек, который ушел». См. также комментарий (с. 551).
[26] Юльский, 59, 67. Неточно цитируется стихотворение «Африканская ночь» (1913).
[27] Юльский, 71.
[28] Юльский, 72.
[29] Герой рассказа Юльского «Закон жизни», склонный к размышлениям о смысле бытия, заново находит себя после несчастной любви, перебравшись из города в тайгу; он возвращается с простой женой-казачкой, которую он нашел и заслужил, пройдя «первобытное» испытание силы вдали от цивилизации.
[30] Юльский, 421, 427, 431.
[31] Кроме слащавого пропагандистского рассказа «Счастье», см. также рассказы «Серая смерть», «Святочный гость» и «Полынь».
[32] Юльский, 168—169. У Юльского есть и другие рассказы, которые кончаются мечтой о невозможных переменах в обстоятельствах героев: см. «Черт» (Николай Филиппович, помещенный в психиатрическую лечебницу, «требует... виллу с мраморной балюстрадой и яхту, белую, как чайка, с парусами, окрашенными в небесно-голубой цвет», с. 211) и «Поезд на юг» (когда поезд, увозящий женщину, в которую был влюблен герой рассказа, уходит, герой осознает, что прожил жизнь, так и не узнав счастья: воображая упущенное, «Мартонов. видел изумрудное, как на фарфоровых чашках, море у ниппонских берегов, джонки и лес мачт в порту Сингапура, ажурные пальмы Гавайских островов», с. 441).
[33] В миг казни «Жданов отправился в одну страну, где он еще не побывал и откуда не возвращаются.»; см. финал рассказа «Безумие желтых пустынь» (Хейдок, 41).
[34] Хейдок, 54. Ср. «таинственные тропы, уводящие живых в вечность», в рассказе «Маньчжурская принцесса» (с. 72).
[35] См. также рассказ «Приключение Анатоля Гайнау» (sic; в тексте, однако, герой именуется Анатолием), еще одну «сказку», которая кончается видением жизни «не здесь», в данном случае — на воображаемом юге Китая: китаянка по имени Ван-мей-ли забирает Гайнау, спасшего ее от хунхузов, в свой дом «с верандой красных колонн» на берегу реки, где время остановилось (с. 194). Художнику же Багрову автор отводит двенадцать лет страстной брачной любви с «Маньчжурской принцессой» (так называется рассказ), ожившим реликтом династии Цинь, где-то в «горах маньчжурского севера» (с. 84).
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Литература Третьей волны: границы, идеология, язык
(пер. с англ. Д. Харитонова)
Ольга Матич
Памяти Андрея Синявского
Название воспоминаний Романа Гуля «Я унес Россию» (1981—1989) подчеркнуло значение России как места памяти. Важное различие между первыми тремя волнами эмиграции было связано с тем образом России, который каждая из них уносила с собой. Поэт из Третьей волны Дмитрий Бобышев писал: «У первой волны Россия буколически-усадебная, у второй — страшная сталинская, а у третьей — брежневская, скучно-постылая»[1].
В своем эссе «Меньше единицы» Иосиф Бродский определил память как «замену хвоста, навсегда утраченного нами в счастливом процессе эволюции. Она управляет нашими движениями, включая миграцию. Помимо этого, есть нечто явно атавистическое в самом процессе вспоминания — потому хотя бы, что процесс этот не бывает линейным. Кроме того, чем больше помнишь, тем ты ближе к смерти. Если это так, то хорошо, когда твоя память спотыкается. Чаще, однако, она закручивается, раскручивается, виляет — в точности как хвост; так же должно вести себя твое повествование, даже рискуя показаться бессвязным и скучным. <...> Пусть писатель во всеоружии таланта готов перенести на бумагу мельчайшие флуктуации сознания, все равно, попытки воспроизвести сей хвост во всем его спиральном великолепии обречены, ибо эволюция не прошла даром. Перспектива лет спрямляет вещи до точки полного исчезновения. Ничто не воротит их назад, даже рукописные слова с их кручеными буквами. И тем более обречена такая попытка, когда твой хвост кончается где-то в России. <...> У меня, по крайней мере, такое впечатление, что все пережитое в русском пространстве, даже будучи отображено с фотографической точностью, просто отскакивает от английского языка, не оставляя на его поверхности никакого заметного отпечатка»[2].
Память как замена хвоста, утраченного в ходе эволюции, как некая рекурренция, не согласуется с ностальгией, которая зиждется на идеализации утраченного дома и прошлого; остается только язык. «...Выброшенный из родного языка, [писатель-эмигрант] или брошен или же отступает в него, — пишет Бродский в другом эссе. — И из его, скажем, меча язык превращается в его щит, в его капсулу. То, что начиналось как частная, интимная связь с языком, в изгнании становится судьбой.»[3]
Если старые эмигранты заявляли ностальгически, что унесли Россию с собой, то представители Второй и Третьей волн этого не делали. Политика коллективной ностальгии как реакции на утрату (по-гречески «ностос» значит «возвращение домой», а «альгия» — «боль»), ключевая, как полагал Джеймс Клиффорд, составляющая диаспорической идентичности[4], характеризовала постреволюционную диаспору; ее культурный миф предполагал не только возвращение на родину, но и реставрацию той России, какой она была до большевиков. Среди старых эмигрантов немногие верили в то, что большевики — это надолго, а те, кто отбыл с Белой армией, были готовы сражаться с ними, когда придет время. Отсюда — троп «сидеть на чемоданах», избыточное применение которого приводило к дистанцированию от принимающих культур. Тогдашняя диаспора видела свою задачу в том, чтобы сохранять за рубежом «настоящую» русскую культуру, по-разному понимаемую многочисленными политическими и культурными объединениями в диапазоне от монархистов до социалистов. Знаменитые слова Нины Берберовой «Я не в изгнаньи — я в посланьи» («Лирическая поэма», 1924—1926)[5] отражали культурную и/или политическую установку интеллигенции на сохранение и передачу «настоящей» русской культуры в диаспоре. Сконструированная миссия возвращения с ее многочисленными проявлениями не только относилась к области фантазий — все это быстро сделалось анахронизмом; она подпитывала диаспорическую ностальгию в одном поколении за другим, укрепляя, в частности, нежелание диаспоры ассимилироваться.
Анахронистична была их навсегда исчезнувшая «воображаемая родина»; в зависимости от политических убеждений представителей постреволюционной диаспоры этой родиной была или царская Россия, или Россия после Февраля; для некоторых она была связана с идеей небольшевистской социалистической революции. По определению Светланы Бойм, ностальгия — это тоска по «упущенным возможностям»[6]; оно применимо к чувствам тех, кто тосковал по краткому промежутку между царской властью и победой большевиков. Так или иначе, старую эмиграцию характеризовали анахронистичность, пребывание в своем собственном историческом времени, и в прошлом, и в настоящем. Разумеется, это — стереотипическое представление о первой русской диаспоре, но я и говорю об определившем ее культурном мифе.
Если в основе этого культурного мифа лежала мечта о возвращении, даже ожидание его, то частью коллективной идентичности Третьей волны она отнюдь не была; не была ею и ностальгия. Бродский назвал ее «простым неумением справляться с реальностью настоящего и неопределенностью будущего»[7], а Андрей Синявский в своем автобиографическом романе «Спокойной ночи» (1984) писал о ней так: «Размышляя об эмиграции и о чувстве ностальгии по России, повествователь признается, что он бы туда не вернулся, даже если бы ему дали свободно писать: Если очень хочется, слетай во сне. <...> Не отсюда ли у нас — от невозможности вернуться — появляются мемуары?..»[8] Линда Хатчеон описала ностальгию как увековечение «невозвратимого по своей природе прошлого»; это описание может быть применено к противоречивому представлению о ностальгии Синявского[9].
Впрочем, распад Советского Союза вполне неожиданно сделал возвращение в Россию возможным. Одни русские писатели вновь там обосновались — например, Александр Солженицын и Эдуард Лимонов, исповедовавшие весьма различные почвеннические (чтобы не сказать — националистические) взгляды. Другие — например, Андрей Синявский, Наум Коржавин, Алексей Цветков — наезжали в отечество и потом возвращались в принявшие их страны. Третьи — например, Владимир Войнович и Василий Аксенов — жили на несколько стран, то есть имели дом и в Европе, и в России, тем самым реализуя диаспорическую практику пространственной промежуточности. Современные исследователи диаспор окрестили бы их мигрантами-космополитами, теми, кто перемещается между культурными кодами[10].
Бродский был единственным писателем из диаспоры Третьей волны, которому по-настоящему удалось пересечь границу нового языка и прижиться в новой стране. Он был единственным, кто писал по-английски и даже сделался частью культурной элиты, близко сдружившись с одним из знаменитых американских интеллектуалов, Сьюзен Сонтаг, и известным карибским поэтом Дереком Уолкоттом. Принято считать, что Бродский повлиял на политические взгляды Сонтаг, вследствие чего она в 1982 году приравняла фашизм к коммунизму, вызвав негодование у нью-йоркского левого культурного истеблишмента.
В этой статье речь пойдет о литературной диаспоре 1970—1980-х годов, многие представители которой отбывали из Советского Союза в Израиль вне зависимости от того, были у них еврейские корни или нет (впрочем, Третья волна состояла в основном из евреев). В их числе были Бродский (1972), Наум Коржавин (1973), Эдуард Лимонов и Юрий Мамлеев (1974), Александр Зиновьев (1977), Сергей Довлатов (1978). Изгнан в прямом смысле этого слова был один Солженицын (1974); Синявского пригласили в Сорбонну (1973), Аксенова — в Мичиганский университет (1980). Последним из уехавших больших писателей был Владимир Войнович, которого, как и многих других, скорее принудили это сделать (в конце 1980 года). В 1975 году австрийский канцлер Бруно Крайский помог получить выездную визу Саше Соколову.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦ И ТЕКСТУАЛЬНОСТЬ
«Пространственный поворот» в философии и социальной теории 1970— 1980-х годов, зачинателями которого были Мишель Фуко, Анри Лефевр и Мишель де Серто, имел одним из своих предметов отношения между временем и пространством. «Мы живем в эпоху сопоставления, в эпоху близкого и далекого, примыкающего, рассеянного, — писал Фуко. — Мне представляется, что мы живем в такой момент, когда мир воспринимается не столько долгой жизнью, длящейся во времени, сколько сетью, вбирающей всякого рода точки и пересечения в свою ткань»[11]. «Пространственный поворот» — концепция, принадлежащая географу-постмодернисту Эдварду Сойе[12], — со временем оказал сильное влияние на изучение диаспор и миграций, главным образом в аспектах, связанных с пересечением границ, мобильностью, дистанцированием, вопросами пространства и места, памятью. Мирия Джорджиу писала, что пространство — это «центральная категория идентичности и репрезентации в контексте диаспоры и миграции»[13]. Первая эмиграция, настойчиво повторявшая слова «русское зарубежье» и «зарубежная Россия», означавшие рассеяние русских за границами отечества, «вписала» пространство в свою самоидентификацию. В книге «Русская литература в изгнании» Глеб Струве определил русскую литературу как «временно отведенный в сторону поток общерусской литературы, который — придет время — вольется в общее русло этой литературы»; его воды содействуют ее обогащению[14]. Словосочетания «эмигрантская литература» и «зарубежная литература» в первой диаспоре были взаимозаменяемы; возможно, оттого, что второе стало в Советском Союзе относиться к литературе иностранной, в последующих поколениях осталось только первое.
Для трех волн эмиграция, пересечение границ, означала, по существу, совершенно разные вещи. Если для первой и второй это было внезапное решение, вызванное историческим катаклизмом и смертельной угрозой, то для большинства людей брежневской эпохи миграция представляла собой процесс, который подолгу обдумывали. К тому же разрыв с отечеством оказался для них неполным: были возможны переписка, телефонные разговоры, для тех, кто не был связан с политикой, — даже посещение Советского Союза, приезды родственников и друзей. В результате сложилась диаспора, прочнее соединенная с отечеством и более мобильная, чем прежние, — хотя и в 1920-е годы, главным образом в первой их половине, когда границы были еще проницаемы, некоторые выехали за рубеж и потом вернулись: среди самых заметных фигур были Андрей Белый, Виктор Шкловский, Максим Горький и Илья Эренбург. Сюда же относится и Алексей Толстой, чье возвращение было связано со сменовеховством и новой экономической политикой, предполагавшей сочетание социализма с капитализмом.
Большинство писателей из Третьей волны начинали с «подрывного» пересечения границ своими текстами — практики, которая стала называться тамиздатом; она, как я полагаю, и породила «промежуточное» состояние их авторов, определяющее для диаспорической идентичности — вне зависимости от того, оказались сами авторы в конце концов за границей или нет. Опубликоваться «там» для писателей брежневской эпохи, выходивших за рамки официально дозволенного, означало вырваться за советскую границу в чужое пространство. Тамиздат Третьей волны начался со статьи Синявского «Что такое социалистический реализм» (1959), впервые опубликованной на чужом языке — по-французски.
В середине 1980-х годов в частном разговоре Синявский описал свою эмиграцию так: сначала границу тайно пересекли тексты, написанные Абрамом Терцем, а несколько лет спустя за ним/ними последовал Синявский. Он сравнил написанное Терцем с гоголевским Носом, отпавшим от своего владельца и собиравшимся бежать за границу; получилась метафора разделения корпуса текстов и писательской идентичности. Иными словами, «текстуально» Синявский обладал двумя телами — в соответствии с советской институциональной практикой разделения творчества писателей на «печатное» и «непечатное». В романе «Спокойной ночи» повествователь описывает Терца приблатненным сорвиголовой: юный, крепкий, красивый, ироничный, с ножом в кармане — противоположность Синявского, истинного академического интеллектуала, склонного к созерцанию и компромиссу того рода, что требовало советское общество. Существенно, что Синявский сохранил свою раздвоенную писательскую идентичность и в диаспоре — как в литературном, так и в политическом отношении. Разделение на Синявского и Терца послужило прообразом того болезненного противоречия между общественным и частным, которое будет характеризовать значительную часть советской интеллигенции, проводившей различие между своей общественной и частной идентичностями, имевшими также пространственное измерение. Арест Синявского в 1965 году — пример криминализации советской властью того, что я определила как диаспорическую идентичность; его результатом стали пересечение Синявским границ внутри страны и попадание в место, названное Солженицыным «Архипелагом ГУЛАГ», а затем, после освобождения в 1973 году, в эмиграцию.
Вскоре после прибытия в Париж иронический двойник Синявского написал статью о литературе, которую сопряг с побегом, бегством, пересечением границ и криминализацией текстов на границе. В ироническом ключе: «Новый подъем русской литературы лучше всего прослеживается на таможне. Что ищут больше всего? — Рукописи. Не бриллианты и даже не советского завода план, а — рукописи!»[15]; в серьезном: «Всякое — даже без отношения к власти — писательство запретно, предосудительно, и в той беззаконности, собственно, и заключается весь восторг и весь вопрос писательства. <... > Возьмем ли мы "Евгения Онегина" или выберем для солидности "Воскресение" Льва Толстого, мы заметим, что все они построены на побеге, на нарушении границы. Что сама душа писателя просит — к побегу»[16].
В «Спокойной ночи», как в любом автобиографическом или мемуарном сочинении, память изображена хронотопом; Синявский с оглядкой на себя представлял письмо в пространственных категориях, отсылая к знаменитой метафоре Пруста — книге, строящейся, как собор[17]: «Я был мальчишкой со своей страстью к писательству по сравнению с этим стосильным, тысячеглавым эхом, которое разносилось по гулким сводам собора»[18]. Синявский превратил готический собор Пруста в собор-тюрьму — топос лагеря с его лабиринтами стал для него приличествующим ХХ веку символом «пространства прозы»: «Сама словесная масса обладает пространственными параметрами, которые свойственны архитектуре и изобразительному искусству»[19]; темпоральность нарратива принимает пространственную форму.
Совсем другим был путь в диаспору Аксенова. Его представление о пространстве отличалось от представления о нем Синявского; оно занимало его еще на рубеже 1950—1960-х годов: неограниченное западное «там», противопоставленное ограниченному советскому «здесь», было воображаемым объектом желания Аксенова со времен «Звездного билета». Мирия Джорджиу писала, что «диаспорический транснационализм имеет отношение не столько к месту, сколько к пространству, не столько к границам, столько к воображению»[20]; эти слова можно применить и к этой повести. Текст полон примет американской и французской действительности; юные герои повести создают для себя воображаемый Запад в Прибалтике, куда они приезжают летом за тем, что можно назвать лучшим суррогатом транснационального опыта. Хотя Эстония является частью Советского Союза, в течение одного волшебного мига она воспринимается ими как экстерриториальное, неограниченное пространство. Если диаспорическая идентичность, по определению, транснациональна, то «Звездный билет» был первой попыткой Аксенова ее, так сказать, примерить. Писатель, создавший шестидесятническое представление о Западе как о развеселом карнавале, основывавшемся на личной свободе, принципе удовольствия, популярной культуре и эстетике потребления, начал «проговаривать» свою воображаемую транснациональную идентичность еще до того, как попал на «настоящий» Запад. Первым опубликованным в тамиздате текстом Аксенова, связанным с поэтикой пересечения границ, был «Ожог» (1980)[21], некоторые персонажи которого, русские и иностранцы, практически неотличимы друг от друга, словно граница между «здесь» и «там» стерлась.
«Ожог» и последующие книги Аксенова выходили под знаком издательства «Ардис», основанного в 1971 году двумя замечательными американскими славистами, Карлом и Эллендеей Проффер, в Анн-Арборе (Мичиган)[22]. Помимо издания великих произведений русской литературы ХХ века, которые в Советском Союзе были запрещены цензурой и которые приходилось возвращать туда контрабандой, «транснациональной» задачей «Ардиса» было публиковать современную литературу, имевшую прежде всего художественное, а не политическое значение. «Криминализированные» тексты, в свою очередь, незаконно возвращались в отечество: такой была возвратно- поступательная траектория тамиздата.
Если созданное Синявским альтер эго, Абрам Терц, пересекло границу для того, чтобы опубликоваться, то инаковость Аксенова определилась «советским» желанием войти в транснациональную культуру. Предположу, что идеологические основания его гедонистического транснационализма можно также рассматривать в связи с возникшей в середине ХХ века оптимистической теорией сближения Соединенных Штатов с Советским Союзом, капитализма с социализмом[23]. Ее выдвинул социолог из первой эмиграции Питирим Сорокин[24]; по другую сторону геополитического разлома идею сближения поддержал Андрей Сахаров, чьи «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» (1968) были опубликованы в тамиздате.
В остроумной джеймс-бондовской фантазии Аксенова «Остров Крым», написанной в России и изданной «Ардисом» в 1981 году, изображен крах мечты о сближении. Пародируя эмигрантский миф о возвращении (жители острова называются врэвакуанты, то есть временные эвакуанты, по аналогии с Временным правительством), Аксенов создал ироническую альтернативную историю постреволюционной диаспоры. Она живет в космополитической, капиталистической, демократической, даже мультикультуралистской утопии, напоминающей Южную Калифорнию, где Аксенов в 1975 году провел несколько месяцев при Калифорнийском университете. Утопически-либеральная диаспора разрушается изнутри — главным героем романа, эмигрантом, альтер эго автора, наивно верящим в сближение острова с «большой землей», которое оборачивается советской оккупацией Крыма[25]. Разочарование Аксенова в идее сближения и западном либерализме (недостаточно действенно противостоящем коммунизму), выразившееся в романе, в котором демифологизировалась ностальгическая идея возвращения, которой жила первая диаспора, предшествовало его эмиграции — хотя роман был издан после: как и Синявский, Аксенов последовал за своим текстом за границу.
ЯЗЫК, РУСОФОБИЯ, ИРОНИЯ
Русский язык брежневской эпохи существенно отличался от дореволюционного русского, сохранившегося в диаспоре, представителям которой первый казался грубым, отражающим вульгарность советской культуры; к тому же они зачастую не понимали особой иронии позднесоветской интеллигенции[26]. Неудивительно, что читатели из первой диаспоры в большинстве своем предпочитали реалиста Солженицына Синявскому, чье творчество уходило корнями в авангардистские, нарушающие табу эксперименты с языком. Неудивительно и то, что нравоучение и антисоветские взгляды Солженицына были им ближе Терцевой эстетики провокации и расположенности к «искусству фантасмагорическому, с гипотезами вместо цели и гротеском взамен бытописания», о котором он писал еще в статье «Что такое социалистический реализм». К тому же читатели-эмигранты объявили Синявского русофобом после слов Терца: «Россия-мать, Россия-сука, ты ответишь и за это очередное, вскормленное тобою и выброшенное потом на помойку, с позором — дитя!..»[27]Читатели эти не увидели иронической отсылки к советским репрессиям, следствием которых стала третья эмиграция.
Книга «Прогулки с Пушкиным», написанная в лагере, была опубликована лишь в 1975 году, после того как Синявский эмигрировал; слово «прогулки» предполагало сладостное бесцельное хождение, противопоставленное неумолимо целесообразным перемещениям зэка. Если суд над Синявским и вынесенный ему приговор возмутили и русскую диаспору, и Запад, то «Прогулки с Пушкиным» возмутили только диаспору. В результате состоялся так называемый «второй суд над Абрамом Терцем», начало которому положил старый эмигрант Роман Гуль, автор довольно грубой отповеди под названием «Прогулки хама с Пушкиным». Как и другие читатели его поколения, Гуль не понял художественной декларации пошедшего против табу автора — зэка, постигающего «тайны искусства» через «недозволенную» любовь к Пушкину. В манере Василия Розанова, чей парадоксальный стиль повлиял на стиль Синявского, Терц объявил Пушкина воплощением «чистого искусства», соединившим в себе глубину и пустоту, серьезность и легкомыслие (или легкость), любовь к жизни и смерти. Вместо того чтобы увидеть в этом тексте попытку оживить образ Пушкина, остановить инерцию общеупотребительного культурного мифа посредством розановской парадоксальности, Гуль приписал автору «потребность предать надругательству наши традиции и святыни». «...В этой, на мой взгляд, именно хамской (в библейском смысле, конечно!) книге примечательно не то, что о Пушкине написал Абрам Терц, а как он пишет о Пушкине»[28], — Гуль отнес то, что ему представилось поразительной вульгарностью стиля, на счет советской вульгаризации языка вообще. Стилистика авангарда, «фантастическое литературоведение» (термин Синявского) и советский русский язык — все это Гулю и его поколению эмигрантов было чуждо.
Многие представители Третьей волны, в первую очередь Солженицын, моралист на страже священных русских мифов, тоже были возмущены. В 1984 году в своем запоздалом отзыве Солженицын обвинял Синявского и его последователей в желании «развалить именно то, что в русской литературе было высоко и чисто. Распущенная и больная своей распущенностью, до ломки граней достойности, с удушающими порциями кривляний, [враждебная Солженицыну «литературная ветвь»] силится представить всеиронию, игру и вольность самодостаточным Новым Словом, — часто скрывая за ними бесплодие, вспышки несущественности, переигрывание пустоты»[29]. Издание «Прогулок с Пушкиным» в Москве в 1989 году тоже сопровождалось метафорикой криминализации, с той разницей, что дисциплинарную роль судьи и обвинителя сочинения Абрама Терца, которую в 1966 году играло государство, взяла на себя интеллигенция.
Что же до слов Солженицына о «разрушающей всеиронии» Синявского, то Терц еще в 1956 году писал, что «ирония — неизменный спутник безверия и сомнения»[30]. Если Солженицын отвечал на советские репрессивные практики нравственным возмущением, то Синявский избрал субверсивную, дистанцирующую иронию, которой характеризовались отчуждение Терца от официальной культуры и сопротивление ей. В позднехрущевскую и брежневскую эпохи ирония стала дискурсивным средством сопротивления в тех кругах интеллигенции, которые создали иллюзию отделения, воображаемого пространственного разрыва между ними и официальной культурой. Предположу, что эта практика внутри круга посвященных походит на специфически советскую форму дендизма, отграничившего себя от официальной эстетики и политики, которые посвященными дискурсивно отвергались. Тонкая ирония и остроумие характерны для дендизма как способа отмежевания себя от морализаторского общества и утверждения своего над ним превосходства. В эпоху застоя эта речевая установка позволяла ее носителям одновременно существовать в советском обществе и дискурсивно противостоять ему, не рискуя понести наказание в виде увольнения с работы или, хуже того, ареста. Тексты Синявского, скрывавшиеся под именем его иронического приблатненного денди, были предвестниками этого стиля, но, в отличие от практики позднейших интеллигентских кругов, его ирония находилась под пристальным наблюдением, потому что ее «текстуализация» вышла за границы частной жизни и сделалась достоянием общественности в криминализированном чужом пространстве.
Ирония, которая, как известно, есть понятие ускользающее, трудноопределимое, часто использовалась представителями интеллигенции Третьей волны для дистанцирования от культуры принявших их стран. Вместо коммуникативной манеры, которая была бы направлена на сужение разрыва между ними и теми, у кого они были «в гостях», они выбрали основанную на иносказании-иноговорении иронию, известный им одним код, вывезенный из отечества, который только сильнее бередил травму перемещенности. Возможно, поэтому они сетовали на отсутствие иронии в их новом окружении; их иронический репертуар был продуктом советского опыта, зачастую с трудом понимаемого теми, чей иронический дискурс сформировался в совсем других социополитических обстоятельствах. Коммуникативная манера эмигрантов нередко отражала «тоталитарную» манеру советских диссидентов (чью систему ценностей большая часть интеллигенции Третьей волны разделяла), во многих отношениях походившую на официальный язык, только с «обратной полярностью». Часто это означало непоколебимые убеждения и суждения, не соответствующие западному либеральному дискурсу. Вместо того чтобы прибегать к более тонким формам иронии, к непрямому, неоднозначному высказыванию, они предпочитали высказывания резкие. Разумеется, это относится к стереотипической повседневной иронии третьей диаспоры. В литературе Третьей волны ирония была распространена не менее широко; в лучших ее образцах, например у Синявского (из «старших») и Соколова (из «младших»), она релятивизирует смыслы, порождая подрывную неодномерность.
Если ирония, направлявшаяся эмигрантами на свой новый дом, отделяла их от него, то внутри диаспоры они использовали ее для преодоления своего маргинального положения посредством установления дистанций — например, между теми, кто принадлежал к культурной элите, и прочими членами сообщества. Из субверсивной антисоветской практики ирония превратилась в чисто социальный инструмент самоидентификации. В то же время она означала невысказанную, неосознанную даже ностальгию по утраченному культурному контексту — иноговорению, узкому кругу, социокультурному статусу; Линда Хатчеон называла это «тайным герменевтическим родством» иронии и ностальгии[31]. Напряжение между иронией и ностальгией — предмет знаменитых соц-артовских работ Комара и Меламида; в них показательны одновременно иронические и «увековечивающие» изображения Сталина.
Ирония как утверждение фундаментальной относительности характеризовала московский концептуализм — русский вариант постмодернизма. Одним из его провозвестников можно считать того же Синявского: его гибридная, пересекающая границы текстуальная идентичность — это деконструкция, раздробление авторской идентичности, типичное для постмодернизма. Я очень хорошо помню, как в 1982 году впервые читала со студентами «Что такое социалистический реализм» и думала о том, что программный призыв Терца к литературе «с гипотезами вместо цели» и его нескрываемая ирония напоминают о постмодернистской эстетике, а раздвоение авторского голоса — о концепции «смерти автора» Ролана Барта, которая тогда была у всех на слуху. В статье, написанной по поводу смерти Синявского в 1997 году, Михаил Эпштейн объявил «Прогулки с Пушкиным» его «вторым, после трактата о соцреализме, постмодернистским манифестом. <...> То, что Дер- рида впоследствии назвал "рассеянием и осеменением" смыслов в языке, а Делёз и Гваттари — "детерриторизацией" (перемещением), у Синявского раньше того выразилось простой формулой ("искусство гуляет"[32]). <...> Отсюда "подвижность, неуловимость искусства, склонного к перемещениям"». Иными словами, Эпштейн соотносит метафорическое «опространствовление» текста у Синявского с постмодернистскими теоретическими установками; он цитирует начало «Голоса из хора»: «.текст как пространственная задача не может быть ни статичной площадкой, ни движущейся в одном направлении лентой. Он ближе к кругам по воде. Антиномии <...> заставляют слова разбегаться по радиусам, повторяя и исключая друг друга, производя вращение речи». Это вращение знаков вокруг пустой воронки центра-значения, пишет Эпштейн, «одна из устойчивых, "коллективных" метафор всего корпуса текстов западного постструктурализма»[33].
Синявский-Терц пересмотрел образ Пушкина, а в противоречивой книге «Gesamtkunstwerk Stalin» (1988) состоялся пересмотр образа Сталина; ее автором был философ и ученый, эмигрант Борис Гройс, идейно связанный с московским концептуализмом — Комара и Меламида он назвал «лучшими учениками Сталина». В России книга была опубликована в 1993 году под названием «Стиль Сталин»; в ней утверждается, что построение абсолютно нового общества, предложенного, с одной стороны, авангардом, а с другой — Октябрьской революцией, поместило сталинский проект в художественный контекст: «Художник в своей новой, авангардной функции строителя нового мира сменяется не мыслителем, а неким военно-политическим начальником над всей "насыщенной искусством действительностью", мистической фигурой "великого разводящего", вскоре реализовавшейся во вполне реальной фигуре Сталина»[34]. Если «Прогулки с Пушкиным» возмутили диаспору, то Гройс возмутил еще и западную академическую среду — он заявил, что русский авангард был предшественником социалистического реализма, оспорив устоявшееся мнение, согласно которому сталинская эстетическая доктрина авангард задавила[35]. Роман Соколова «Палисандрия» он представил постутопическим текстом, в котором «сталинская культура предстает как исторический рай, как породнение всего исторического в едином мифе. Крах этой культуры в то же время означает и окончательное поражение истории[36]». (О «Палисандрии см. ниже.)
Книга Гройса была написана в 1987 году; отдельные ее положения он напечатал в журнале «Синтаксис». В том же году там появилась статья Синявского «Сталин — герой и художник сталинской эпохи»: «Оглядывая сталинскую эпоху, я не нахожу в ней художника, который был бы достоин Сталина и отвечал бы его грозному "ночному" иррациональному духу. Таким художником при жизни Сталина мог быть, очевидно, лишь сам Сталин»[37]. Следующие утверждения также схожи с утверждениями Гройса: «От одного имени "Сталин" все зазвучало в стране по-сталински и стало стилем. Этот стиль Сталин назвал социалистическим реализмом» (с. 107); «Очевидно, Сталин и верил и не верил своему воображению, как и подобает истинному художнику» (с. 114). Ранее Синявский объявил социалистический реализм возвращением к классицизму, при этом назвав Маяковского «самым социалистическим реалистом». Гройс писал о родстве соцреализма с авангардом; тем не менее соцреалистическая идеализация Сталина в ностальгическом китче его «лучших учеников», Комара и Меламида, отсылала к неоклассицизму.
ДИАСПОРА И ПОЛИТИКА
Дроблению на кружки, идеологическому разобщению подвержена любая диаспора. Бродский видел в этом неизбежный результат перехода «метафизического состояния» изгнания в политическую повседневность диаспоры[38]. Большинство диаспорических сообществ характеризуются также попытками воздействовать на политические дела в отечестве и в стране пребывания. Солженицын даже взялся наставлять Запад в вопросах морали; самый знаменитый пример — его самоуверенная речь в Гарварде 1978 года, обращенная к культурным элитам; в ней он говорил об упадке либеральной демократии: не обладая в достаточной мере нравственным мужеством и духовностью, та погрязла в материализме, индивидуализме и легализме. Бродский с Синявским не давали уроков морали и политики, а стремились усвоить терпимость и уроки западной демократии.
Первый номер «Континента», важнейшего политического и литературного журнала Третьей волны, который читали не только в России, но и во всей Восточной Европе, вышел в 1974 году. Его редактором был писатель Владимир Максимов, а ответственным секретарем — искусствовед Игорь Голомшток, московский соавтор Синявского. В объединенном общим опытом советских и эмигрантских злоключений номере из русских приняли участие Солженицын, Синявский, Бродский, Сахаров, а также Зинаида Шаховская, редактор парижской газеты «Русская мысль» — связующее звено между первой и третьей диаспорами[39]. Транснациональную идентичность, подразумевавшуюся названием журнала, представляли Милован Джилас и Эжен Ионеско, а также Роберт Конквест, автор книги «Большой террор», чьи антилиберальные взгляды совпадали с позицией Солженицына и Максимова, отрицательно оценивавших западный либерализм, главным образом в лице интеллектуалов-марксистов.
Хотя главными принципами «Континента» были провозглашены безусловный религиозный идеализм, антитоталитаризм, демократизм и беспартийность, различия в политических и эстетических убеждениях, существовавшие между его первой редколлегией и между его авторами, — не говоря уже о самолюбиях и стилях, — быстро разрушили единство. Главная разделительная черта прошла между консервативной фракцией Солженицына—Максимова и демократической — Синявского. Если обобщать, то для первой творчество отождествлялось с абсолютным этическим императивом, что часто приводило к дидактическому морализаторству; вторая настаивала на первичности эстетической задачи и выступала за политический ли- берализм[40]. Увидев в деятельности «Континента» перерождение советской редакторской манеры, Синявский и Марья Розанова в 1978 году основали «Синтаксис», провозгласив эстетический и политический плюрализм; название журнала, в противовес «Континенту», предполагало ограниченную установку: на язык, стиль. Другое отличие «Синтаксиса» от «Континента», который щедро финансировал немецкий медиамагнат-консерватор Аксель Шпрингер, состояло в том, что «Синтаксис» существовал на скудные средства самих Синявских.
Если «Прогулки с Пушкиным» спровоцировали первый большой литературный скандал в диаспоре, то второй — менее, впрочем, громкий — был вызван «Сагой о носорогах» Максимова (1979), посвященной, что неудивительно, Ионеско. В ней сатирически изображались те европейские интеллектуалы, которые, по мнению Максимова, потакали Советскому Союзу или закрывали глаза на тамошние нарушения прав человека, предпочитая порицать их случаи в других странах. Выведенные в памфлете люди не назывались по именам (вполне в советском духе), но некоторых узнать было легко — например, немецкого писателя Генриха Бёлля. Также Максимов обрушился на предателей-плюралистов — это «писатели без книг, философы без идей, политики без мировоззрения, [сделавшие] моральную эластичность своей профессией, начисто выхолостив из памяти цели и пафос того самоотверженного движения, из которого вышли»[41]. «Сага о носорогах» была напечатана не только в «Континенте», но и в старых эмигрантских газетах «Русская мысль» и «Новое русское слово» — это говорит о том, что критика Максимовым западных и русских либералов нашла там отклик.
Атаку на «Прогулки с Пушкиным» возглавил Роман Гуль; в случае «Саги о носорогах» аналогичную роль сыграл литературовед Ефим Эткинд, преподававший в Париже русскую литературу[42]. После того как ни «Русская мысль», ни «Новое русское слово» не напечатали его отзыв, он опубликовал его в «Синтаксисе» под названием «Наука ненависти». Эткинд сосредоточился на том, что ему показалось ненавистью, с которой Максимов выступил «против "интеллектуалов". Против интеллигенции»: «Те, кого Максимов именует носорогами, составляют половину Германии, половину Франции, половину Италии, половину Англии (преувеличено для вящего эффекта. — О. М.). Я испытываю ужас перед этой проповедью ненависти»[43]. Эткинда также потрясло то, что Максимову не было дела до несправедливости за пределами Советского Союза — словно внимания заслуживали одни советские граждане. Иными словами, Эткинд инкриминировал ему полное отсутствие либерального дискурса — того, что в «Синтаксисе» обозначалось как плюрализм. Лев Копелев, еще не эмигрировавший, там же назвал дискурс Максимова тоталитарным: «Такая публицистика не может содействовать духовному и нравственному обновлению и оздоровлению нашей страны: это лишь вывернутая наизнанку сталинская идеология нетерпимости»[44].
«С таким гневом свободные плюралисты никогда не осуждали коммунизм, а меня эти годы дружно обливали помоями — в таком множестве и с такой яростью, как вся советская дворняжная печать не сумела наворотить на меня за двадцать лет. Очень помогло им, что западная пресса, особенно в Штатах, в руках левых — и легко, и охотно эту травлю переняла и усвоила» — такой бесцеремонный выпад сделал Солженицын в статье «Наши плюралисты», появившейся в «Вестнике русского христианского движения» старого эмигранта Никиты Струве, где Солженицын регулярно публиковался[45]. Обвинил он русских плюралистов и в русофобии; Синявский откликнулся статьей «Солженицын как устроитель нового единомыслия» и т.д.
Самым вопиющим аргументом Максимова в этой полемике стало обвинение Синявских в сотрудничестве с КГБ; впрочем, когда архивное свидетельство показало, что он был не прав, он взял свои слова обратно, опубликовал соответствующий документ в «Континенте» и публично попросил у Синявских прощения. Они втроем подписали письмо протеста против применения Ельциным силы против парламента в 1993 году[46]. Остается, однако, вопрос — почему Максимов использовал без всяких доказательств самые постыдные обвинения против своих врагов и конкурентов?[47] Ответ — обвинение в сотрудничестве с органами в кругах диссидентской и околодиссидентской интеллигенции было самым страшным оружием.
Я отчасти наблюдала эту распрю, когда организовывала конференцию «Русская литература в эмиграции: Третья волна» в Университете Южной Калифорнии в 1981 году. Ее задачи можно свести к трем: собрать главных ее представителей, относящихся к различным, в том числе враждующим друг с другом, направлениям; дать высказаться тем писателям младшего поколения, которых не издавали в Советском Союзе и которые, в отличие от Бродского, не имели особенных возможностей публиковаться на Западе; свести писателей-эмигрантов с литературоведами. Выполнить вторую и третью задачи мне удалось, но идея наладить диалог между враждующими фракциями диаспоры была по меньшей мере наивной: к тому моменту они были уже непримиримы. Возможно, это мое желание отражало западную либеральную веру в силу посредничества. Наступление на свободу слова в Советском Союзе и как следствие — писательская эмиграция тогда живо обсуждались в Америке, поэтому на конференцию выделили необыкновенно много денег Национальный фонд развития гуманитарных наук, фонды Рокфеллера и Форда, а также мой университет и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA).
Из главных писателей эмиграции были приглашены Солженицын, Бродский и Синявский, а также эмигрант из Польши Чеслав Милош, в 1980 году получивший Нобелевскую премию; американскую литературу представлял известный драматург Эдвард Олби. Максимова пригласили как представителя «Континента». Солженицын, как можно было ожидать, не ответил; Бродский ответил, что приедет, но затем отказался (он, в общем, не участвовал в эмигрантских мероприятиях); Синявский и Олби приглашение приняли, Максимов тоже — но отказался, узнав, что вступительное слово будет говорить Синявский, а также потому, что, в отличие от своего соперника, приглашен он был не как писатель, а как редактор (его заменил Виктор Некрасов). Отличался Максимов от других участников и тем, что вел подрывную закулисную работу, например уговаривал некоторых приглашенных не ехать: думается, что Милош, принявший приглашение, отказался именно под давлением Максимова[48]. Аксенова, который тогда преподавал в Университете Южной Калифорнии, он тоже уговаривал бойкотировать конференцию[49].
Отношение к западным институтам и связанным с ними людям, выраженное в письмах Максимова Аксенову в связи с лос-анджелесской затеей, было сходно с тем, что вдохновляло «Сагу o носорогах». В нем были неприязнь к либеральному мышлению, негодование и паранойя: «Эту конференцию можно назвать не конференцией "писателей третьей эмиграции", а совещанием авторов "Ардиса" с двумя-тремя приглашенными из посторонних (этот выпад в адрес Профферов очень много говорит о той важнейшей роли, которую они играли как издатели). Только, уверяю тебя, напрасно устроители взялись составлять свой список русской литературы за рубежом и определять, кто в ней есть кто. Списки эти составляет время и непосредственный литературный процесс, а не Карл Проффер (при всем моем уважении к нему) и не Ольга Матич. <...> Эти люди и стоящие за ними "благотворители" пытаются столкнуть нас лбами и затем пользоваться нашими распрями для своих, далеко не безобидных целей. Но, поверь мне, люди эти (я знаю это по своему горькому опыту) циничны и неблагодарны. Как только отпадет нужда, они бросят вас на произвол судьбы»[50].
Такие страсти бушевали за кулисами. Получилось, что из главных российских «знаменитостей» присутствовали только Синявский и Аксенов, что, разумеется, уменьшило число скандалов на конференции, но и лишило ее скандального успеха. Из старшего поколения, кроме уже упомянутых, в ней участвовали Юз Алешковский, Войнович, Коржавин и Анатолий Гладилин, из младшего — Довлатов (как редактор нью-йоркской газеты «Новый американец»[51]), Соколов, Лимонов, Цветков и Николай Боков (как редактор авангардного парижского журнала «Ковчег»).
Во вступительном докладе на волновавшую эмиграцию и хорошо ей знакомую тему «Две литературы или одна?» Синявский, разумеется, отстаивал единство русской литературы. Главным недостатком эмиграции он назвал отсутствие серьезной литературной критики и, как следствие, сведение литературы к политике: «Разделение литературы по партийно-политическому признаку, с какой бы стороны оно ни исходило, вызывает у меня чувство протеста. <...> Самая хорошая политика — это еще не критерий художественности»[52]. Более всего его смущали «промежуточная литература и критерий подлинности» — так называлась статья эмигранта Юрия Мальцева в «Континенте». (Мальцев приписывал промежуточность не диаспорическому сознанию, а подцензурным текстам вроде «Дома на набережной», в котором вытесненное из памяти говорит само за себя.) Синявский не соглашался с тем, что «промежуточные» Трифонов, Шукшин и Распутин не являются «подлинными» писателями по простой причине подцензурности их произведений. Важнее всего было то, что Синявский отдал предпочтение сошедшим со «столбовой дороги», проложенной Солженицын и его последователями: «искусство гуляет»[53].
Поэт Алексей Цветков в своей лекции «По ту сторону Солженицына» повторил сетования Синявского на разлагающие отношения между литературой и политикой. Назвав литературную диаспору «инцестуальной», он заявил, что критики из этой среды в лучшем случае практиковали «иконоборческий конформизм» и неизбежно подчинялись незыблемым представлениям о том, кто есть кто. Показательным было отсутствие отзывов на блистательный роман Соколова «Между собакой и волком», сказал Цветков, хотя он вышел больше года назад. Он заклеймил литературоведов, предпочитавших литературу, напрямую связанную с советскими политическими обстоятельствами, и привел ряд иронических примеров того, что западная аудитория отчасти грешит тем же самым: когда Бродского позвали на популярное ток-шоу, ведущий говорил с ним не о его стихах, а о суде над ним; западный обозреватель отмечал, что стиль, которым написана «Школа для дураков» Соколова, отличается от стиля «"другого блестящего изгнанника", Солженицына, [как будто] вся нонконформистская русская литература, в той или иной степени, ориентируется на него. <...> Как бы выглядело, если бы русский рецензент объявил, что стиль, скажем, Джона Апдайка вовсе не похож на стиль Хемингуэя?»[54] В случае с Бродским очевидная ирония заключается в том, что у него была мировая слава лучшего русского поэта второй половины ХХ века, демонстрировавшего силу поэзии именно как поэзии.
Вместо того чтобы отвечать Цветкову по существу, писатели старшего поколения, бывшие членами Союза советских писателей, перешли на личности: Цветков говорил, что ССП обеспечивал своим членам «готовую» славу на Западе, в особенности в случае изгнания из него, и что некоторые из них производили «второразрядную продукцию»; в пример он привел Коржавина, которого стали защищать Гладилин и Войнович, подтвердив правоту слов Цветкова об инцестуальной атмосфере в литературной диаспоре. В конечном счете участники конференции не обсуждали то, что Бродский назвал «метафизикой изгнания», а выясняли отношения и концентрировались на политике в жизни диаспоры.
Из эмигрантских сочинений больше всего внимания (в основном сочувственного) со стороны литературоведов привлек роман Лимонова «Это я — Эдичка»; на заключительных прениях автор поблагодарил всех за то, что ему «на этой конференции оказали незаслуженное, непропорциональное. внимание». При этом Лимонов дерзко отказался от своего места в русской литературе: «Я <... > не хочу быть русским писателем, не хочу заключить себя в унылое литературное гетто. <...> Быть в наше время русским писателем очень трудно. Потому что русскую литературу норовят использовать все, кому не лень. Используют ее здесь на Западе, используют ее в России. Быть русским писателем — значит оказаться между двух гигантских жерновов — России и Запада». Соколова, Цветкова, Юрия Милославского и себя Лимонов назвал представителями «русской литературы вне политики (курсив Лимонова. — О.М.): «Нас трудно использовать и с той, и с другой стороны. Ну как, скажите мне, использовать прозу Соколова в интересах геополитической борьбы двух великих держав?»[55] Знал бы Лимонов, что через пятнадцать лет будет выступать именно с политических позиций!
Несмотря на художественную значимость Соколова, ему было уделено значительно меньше внимания — скорее всего, потому, что его проза действительно вне политики. В спорах он не участвовал, на одном из «круглых столов» был готов уступить свои пять минут Науму Коржавину, который всякий раз просил себе больше времени. В своем выступлении Соколов сказал, что его волнуют прежде всего литературное слово и вопросы повествования. Это подтвердил Дон Джонсон, делавший доклад о «Между собакой и волком»: «Художественность у него замкнута на себе самой, очищена, а затем очищена еще раз — до еще большей чистоты». Соколов, впрочем, отдал дань политике, рассказав в своем витиевато-ироническом стиле об очередном допросе на американо-канадской границе[56]: «У нас заходит душещемительная беседа на предмет сердечной привязанности. В Канаде, говоришь, родился? А пишешь, говоришь, по-русски? А сердце, говоришь, — где? Мое сердце — летучая мышь, днем висящая над пучиной кишечной полости, а ночью вылетающая сосать удалую кровь допризывников с целью ослабления ваших вооруженных сил, сэр». Распри в эмигрантской среде он свел к «безобразию сплетен об истине. <...> На улице неотложных вопросов — праздник и ярмарка. В балагане политики, идеологии и тщеславия, где витийствуют околоведы и вещают пророки — полный сбор. Главный номер программы: пара коверных с брандспойтами обдает умиленную публику густопсовой дресней, а потом вся в белом на белом коне на арену выезжает сама Посредственность. Спешите видеть»[57].
Два рассказа Довлатова, опубликованные незадолго до конференции в престижном журнале «Нью-Йоркер», придали вес его докладу о том, как печататься на Западе. Конференцию и себя как ее участника он иронически описал в «Филиале», а в коротком рассказе о ней назвал Аксенова кумиром своей юности — правда, с легкой иронией, направленной и на себя самого. На конференции русские говорили по-русски, американцы — по-английски. Не владевшим одним из рабочих языков (у Довлатова, например, английский был плохой) синхронно переводили переводчицы из ООН и Госдепартамента. Предлагались наушники и слушателям. Их в первый день было свыше 400 человек; многие прибыли издалека, что помогло писателям хотя бы на некоторое время избавиться от ощущения своей «маргинальности».
НОВЕЛЛИЗАЦИЯ ДИАСПОРЫ
В том, что писал о нью-йоркской русской диаспоре Довлатов («Иностранка»), было типичное для него сочетание легкой иронии с юмором, нравившееся его читателям-эмигрантам и ничем не грозившее их самоощущению. Совсем другое дело — скандальный роман «Это я — Эдичка», в котором диаспоральная идентичность была представлена посредством нарушения литературных и других табу. Нечего и говорить, что сцена гомосексуальной связи в ночном Нью-Йорке тех же самых читателей шокировала. Если Довлатов был осторожен в изображении эмигрантской травмы перемещенности, то Лимонов действовал противоположным образом, выставляя напоказ бесстыдное самоутверждение и сексуальные похождения своего героя, о которых рассказывал от первого лица в манере, которую я назвала «поэтикой раздражения»[58]: главное в ней — раздражающе самовлюбленный, резкий и вместе с тем жалобный голос рассказчика. Не менее существенной причиной неприятия романа «Это я — Эдичка» были выраженные в нем неинтеллигентские, даже антиинтеллигентские, взгляды: вместо того чтобы присоединиться к антисоветски настроенному эмигрантскому сообществу, Эдичка ищет новой политической идентичности среди нью-йоркских маргиналов- троцкистов и чернокожих бродяг, сочувствия у эмигрантов не вызывавших. Их также задел чуждый им индивидуализм героя, который тот предпочитает привычной для них диаспорической идентичности.
Роман может читаться как иронический отклик на доэмигрантскую ироикомическую фантазию Лимонова «Мы — национальный герой», в которой одержимый манией величия, иронически изображенный русский национальный поэт и герой покоряет Запад. Одна из пространственных траекторий в «Эдичке» — падение героя с воображаемого пьедестала, воздвигнутого в прозаической поэме, на социоэкономическое дно принявшей его страны, выразившееся в утрате языка, статуса и предмета любви (жена героя уходит от него в мир богатых и знаменитых). Подобно герою романа Ральфа Эллисона «Человек-невидимка»[59], Эдичка превращается в невидимый (по Юлии Кристевой — «отброшенный», или абъектный) субъект, чей нарциссический кризис развивается в декорациях Нью-Йорка, локусе невероятного богатства, а также нищеты и расовой напряженности на социальной периферии города, с жертвами которых отождествляет себя герой; человек улицы, он бесконечно бродит по Нью-Йорку, зачастую — без всякой цели, «опространствляя» свой иммигрантский опыт.
Экзистенциальный локус промежуточности в романе выражен также в гендерной неопределенности героя, явленной в гомосексуальном эпизоде, состоявшемся в таинственном нью-йоркском «нигде», a травматическая утрата языка передается остранением. Помещая поэта-неудачника в неустойчивое диаспорическое междупространство, Лимонов изображает языковую неуверенность своего субъекта-иммигранта посредством наложения английского языка на русский, создающего языковой гибрид, который напоминает непрестижный пиджин. Эпилог романа открывается метаописанием приема двойной экспозиции как демонстрации разрыва между мифологизированной «американской мечтой» и жизнью Эдички на пособие. Герой приносит в свое бедное жилище глянцевый журнал о роскошной американской жизни, чтобы изучать по нему английский язык: «"Вы имеете длинный жаркий день вокруг бассейна и вы склонны, готовы иметь ваш обычный любимый напиток. Но сегодня вы чувствуете желание заколебаться. Итак, вы делаете кое-что другое. Вы имеете Кампари и оранджус взамен..."»[60]. Таков буквальный перевод рекламы престижного напитка кампари. Жизнь преуспевающих американцев, чье благополучие подчеркивается грамматически неправильным русским «иметь», доступна ему только на словесном уровне.
Бродский «по-диаспорически» определил родной язык как меч, щит и капсулу[61], Лимонов же поступил радикально иным образом, подав его через утрату без обретения-компенсации. Нет нужды и указывать на то, как резко его нескладный языковой палимпсест отличается от знаменитой своим изяществом двойной экспозиции русского и английского у Владимира Набокова, отражавшей элитарное двуязычие. Его двуязычная игра была доступна лишь тем, кто не только уверенно владел обоими языками, но и понимал скрытые тонкости этой двойной экспозиции. В «Это я — Эдичка» диаспори- ческая идентичность изображена в иммигрантском ракурсе, а не с позиции эмигранта, ощущающего себя изгнанником, чью тайну знают лишь немногие избранные, а состоит она в том, что он «вписал» свой родной язык в язык своего новоприобретенного пристанища.
ДИАСПОРА: ДРУГИЕ ТЕЛА И СКАНДАЛ
Снова взглянем на Синявского как на путеводную звезду: он не только придумал не убоявшегося опасностей тайного пересечения границ Терца, но и применил творческие силы Терца к остранению советской жизни через вселение в чужое тело. Речь о рассказе «Пхенц», в названии которого прочитывается «Терц». Изгнанник с другой планеты, Пхенц скрывает свое чудовищное растениеобразное тело (напоминающее кактус, но нуждающееся в огромном количестве воды) от обитателей его нового дома. Наглядное воплощение отличия, его тело — символ инакомыслия как чудовищной потусторонности. Герой стилистически изысканной «Палисандрии» Соколова, романа, представляющего собой пир интертекстуальности[62], напоминает в том числе Пхенца — как и он, физически «чудовищный» герой этой книги проводит много времени в ванне с водой. Его символ отличия — гермафродитизм. Этот пародийный и решительно постмодернистский роман транснационален, география в нем подвижна: от иронически поданного воображаемого Запада — к столь же иронически поданному воображаемому отечеству[63].
Несмотря на то что знатоки считают «Между собакой и волком» лучшим романом Соколова, он практически не был замечен эмигрантской критикой, не говоря о западной (кроме славистской): на иностранные языки он не переводился. Предположу, что усилившееся ощущение своей «невидимости» как писателя после успеха «Школы для дураков» сыграло роль в принятии Соколовым решения обыграть традиционное для диаспоры письмо, спародировав жанр политически и социально ангажированной литературы свидетельства. «Палисандрия», написанная как бы в будущем (в 2044 году), — это псевдовоспоминания человека из Кремля, изгнанного из круга элиты. Его состояние иронически называется и «изгнанием», и «посланием» (отсылка к знаменитой максиме Берберовой); второе переосмыслено как воссоединение диаспоры с отечеством (намек на «Остров Крым»). Время-история изображено в романе как изгнание из представленной идиллически советской истории в состояние, названное «безвременьем». Переживание Палисандром времени можно сравнить с тем анахронистическим представлением об истории, которое было у первой диаспоры, с ее ощущением «выброшенности» из истории отечества. Называя дежавю словом «ужебыло», Палисандр подразумевает, что после его изгнания история прекратилось. Он ждет конца ее повторений: «И однажды наступит час, когда все многократно воспроизведенные дежавю со всеми их вариациями сольются за глубиной перспективы в единое ужебыло»[64]. Ужебыло отсылает ко времени, дежавю, этимологически, — к зрению (уже виденное; это отсылка дополняется «перспективой»); в этой фразе они соединяются: время и пространство становятся одним. Если говорить о желании преодолеть время и пространство, то роман свидетельствует о желании Соколова преодолеть литературу о советской истории, поместив своего героя в постмодернистское пространство по ту сторону истории.
Иронически описанные в куртуазном, или декадентском, fin de siecle-стиле, «геронтологические» сексуальные излишества героя напоминают (по контрасту) о педофилии Гумберта Гумберта из набоковской «Лолиты», одного из интертекстов «Палисандрии». Они также метят в «Эдичку», которого Палисандр по части сексуальных приключений обходит. Соколов сам обозначил автора «Эдички» как объект иронической пародии, поселив Палисандра в одном из его бесконечных путешествий на Rue des Archives (один из парижских адресов Лимонова). Стремясь затмить скандальную славу «Эдички», Соколов изобразил все возможные виды, чтобы не сказать — перформансы, сексуальности своего героя: от инцестуальной, садомазохистской, трансвеститской и гомоэротической — до некрофилии и проституции, а также его беременность и аборт. Гермафродитизм Палисандра определенно оставляет позади гомосексуальные связи Эдички; если истолковывать неустойчивую сексуальную идентичность Эдички в терминах теории гендерной перформативности Джудит Батлер[65], основанной на нарушении социосим- волической бинарности и выходе за ее пределы, туда, где нет ничего определенного, то Палисандр и тут оставляет Эдичку позади. Главное, впрочем, то, что Соколов превзошел Лимонова в изображении психологического кризиса, с блеском переместив его в пространство постмодернистской игры.
Наверное, самым необыкновенным ходом Соколова, сделанным для того, чтобы превзойти современников из диаспоры, было создание своего героя гермафродитом, древним символом полноты и самодостаточности. Потенциальную способность гермафродита к наслаждению, сексуальной и политической власти, а также к остранению через грамматический род мифический герой «Палисандрии» использует полностью.
Существенно, что о его чудовищном теле читатель узнает лишь в конце романа, что может быть связано в том числе со страхами мигранта, относящимися к адаптации и инаковости[66]. Подобно тому, как гибридное тело Пхенца сохраняется в тайне в пространстве изгнания, гибридное тело Палисандра содержится в тайне в его отечестве, пародируя засекреченность советской истории; по иронии автора, эту тайну знают не только родители Палисандра, но и Берия со Сталиным, который является для героя одной из родительских фигур в кремлевской идиллии. В изгнании эту тайну раскрывает не кто иной, как Карл Юнг, считавший гермафродита «символом творческого союза противоположностей, [который, несмотря на свою чудовищность, означает] разрешение конфликта и исцеление»[67]. Перефразирую Бродского: транссексуальное тело Палисандра, символизирующее промежуточность, становится и щитом, и мечом, являя собой инструмент преодоления травмы изгнания.
Повествование в этом романе, имитирующем воспоминания, ведется от первого лица. Оно, как приличествует «гермафродитическому» случаю, в конце переходит в средний род, изображая трансгендерность изгнания: «Свершилось — бита и эта карта. Отныне пусть ведают все: я — Палисандро, оригинальное и прелестное дитя человеческое, homo sapiens промежуточного звена, и я горжусь сим высоким званием. <...> Я никогда не страшилось и не страшусь профанации, т. к. образ по-настоящему честного человека настолько высок, что снизить его никому не удастся. И я говорю Вам, Биограф, со всей настоятельностью: "Человечество должно знать суровую правду: я было гермафродитом!" Нет, я не эксгибиционист, любезнейший, как меня, вероятно, трактуют иные ваши хронографы от порнографии; я, скорее, действительно интроверто. Но я хочу — претендую — дерзаю быть тем единственным, кажется, лидером нашей злосчастной эпохи, который всегда и во всех обстоятельствах оставался предан исторической истине — душою и телом. И я хочу быть уверен, что осознание Вами моей двуполости и изучение связанных с нею особенностей моего правления и личного экзистенса не пройдут под грифом "секретно"»[68].
Скандальность как результат нарушения социальных, политических и прочих границ, о котором не раз говорилось в этой статье, — инструмент рекламы. Своим международным успехом Набоков был обязан скандальному успеху «Лолиты». В третьей диаспоре обеспечиваемая скандальностью реклама помогала писателю справиться со страхом невидимости. Лимонов понимал «производственные» отношения между скандальностью и признанием лучше всех своих современников из Третьей волны. В «Палисандрии», ответе на «Эдичку», скандальность имеет пародийный характер, но в то же время Соколов заигрывает с ней ради ее рекламного потенциала; впрочем, поиск скандального успеха спрятан в тексте за беспрестанной словесной игрой и лабиринтообразной структурой.
Реклама, обеспечиваемая нравственным возмущением в отношении советских репрессивных практик (тут лучший пример — Солженицын, которому она принесла мировую известность), связана с совершенно другим типом скандальности. «Архипелаг ГУЛАГ» произвел эффект разорвавшейся бомбы (первые два тома были опубликованы сразу перед изгнанием Солженицына из страны). Джордж Кеннан, игравший важную роль в политике сдерживания во время холодной войны, назвал эту вещь «величайшим и сильнейшим обвинением политического режима, брошенным в современную эпоху»[69]. «Моральной» целью скандальности является изменение того, на что она направлена; главной задачей Солженицына было внедрить в коллективное бессознательное возмущение и ужас перед советской историей. В этом он видел свою нравственную миссию, ощущая себя в долгу перед другими уцелевшими в ГУЛАГе, перед теми, кто там погиб, и перед грядущими поколениями. При том что «Архипелаг ГУЛАГ» также сыграл роль в окончательном отходе большинства западных левых от коммунизма, он возмутил многих марксистов (особенно во Франции), которые отделяли Ленина от Сталина и считали сталинизм аберрацией.
Наконец, писатели постарше в основном предпочитали описанию своего транснационального опыта и осмыслению диаспорической промежуточности сосредоточенность на отечестве. Написанное Солженицыным об ужасах советской истории, представляя огромный интерес для Запада, было все же обращено к своим — как и его ностальгическая идеализация дореволюционного прошлого и заявления о культурном своеобразии России. Ее отличие от остального мира подчеркивала большая часть писателей из диаспоры, наследуя, так сказать, великой традиции Гоголя, Достоевского и Толстого. Оно стало предметом книги Синявского «Основы советской цивилизации», в основу которой лег курс лекций, прочитанный им в Сорбонне по-русски: овладеть французским Синявский не пожелал. Тем не менее эта книга, вышедшая сперва французским изданием и затем переведенная на немецкий и английский, предназначалась для западной аудитории. В предисловии Синявский пишет, что «[советская цивилизация] порою даже людьми, которые выросли в ее недрах и являются, по сути, ее детьми, воспринимается как чудовищное образование, как нашествие марсиан, к которым мы сами, однако, уже принадлежим». История этого образования его не занимает; он пытается понять советскую цивилизацию через «символы, остающиеся величавым памятником эпохи», определившие собой ее метафизику. В пику Солженицыну (что и понятно), Синявский цитирует в этой связи Троцкого, которого называет «пока что непревзойденным историком русской революции»; революция же, по Троцкому, — «самая великая мастерица символов»[70]. Целью Синявского было познакомить тех, кто к этой цивилизации не принадлежал, с ее причудливой инаковостью.
В послесловии (к американскому изданию) Синявский выражал надежду на перестройку — с, я бы сказала, иронически-эксцентрической русской национальной гордостью: «Подумать только: вот была моя страна, где десятилетиями ничего не случалось, где один день было не отличить от другого и можно было загадывать на годы и километры вперед. <...> И вдруг эта страна не знает, что случится на следующей неделе. И весь мир не знает. Мы, русские, снова в авангарде, снова — самое интересное явление на свете, интересное, не побоюсь сказать, в художественном смысле: как роман с никому не известным финалом»[71]. Возможно, эти соображения и чувства принадлежали не столько Синявскому, сколько Терцу.
Исключением был Аксенов, изначально питавший симпатию к американским популярной культуре и культуре потребления, к идеям сближения Востока с Западом и культурного их слияния. Как и в «Острове Крым», в романе «Бумажный пейзаж» (о советской и американской бюрократиях) давался неудачный пример сближения. Но потом Аксенов написал «В поисках грустного бэби» (название отсылает к популярной песне), в котором проявилась ностальгия по «американской мечте» его юности. Еще важнее то, что эта вещь представляла собой попытку укорениться в американской культуре и добраться как до американской аудитории, так и до русской: она была издана одновременно (в 1987 году) по-английски и по-русски. Неудивительно, что существенная критика в адрес Соединенных Штатов в нем относилась лишь к левацкой ориентации их либеральной элиты и тех, кто находился под ее влиянием. В этом отношении Аксенов напоминал представителей фракции Солженицына—Максимова — с той разницей, что в его взглядах не было озлобленности и «тоталитарной» установки. Вне зависимости от того, удалась ему повесть об Америке или нет, она была попыткой передать состояние диаспорической промежуточности в типичной для Аксенова иронической, игровой манере.
Литературовед и культуролог Михаил Эпштейн, уехавший из Советского Союза в 1990 году, осознавал жизнь в диаспоре и диаспорическую идентичность в терминах обретения, а не утраты: «Изгнание и послание — это однонаправленное движение из одной точки в другую. Теперь, когда оба направления открыты и можно двигаться туда и сюда, — важна именно интенсивность проживания здесь и сейчас, на пороге двух культур. <...> Жизнь вдвойне — вот как можно это назвать: на пороге двойного бытия вдвойне заостряются все переживания цветов, звуков, запахов, голосов, языков, <... > наша двойная жизнь, которая сродни искусству в том, что остраняет вещи, заставляет увидеть их впервые. Наша иностранность — это и есть способ остранения, сама заграничная жизнь как прием. <...> Двукультурие — это условие свободы от обеих культур, возможность более глубокого вхождения в каждую из них»[72]. Возможно, основной причиной того, что Эпштейн воспринимал диаспорическое существование в контексте обретения без утраты, была именно свобода передвижения между отечеством и диаспорой, обеспеченная падением Советского Союза. Отсюда — другое представление об остранении, возникшее в связи с этой переменой: оно больше не означает отчуждение от нового пристанища, а дает возможность полнее ощутить состояние промежуточности.
Когда я писала эту статью, я смогла полностью оценить вклад Синявского в постсталинскую русскую литературу и культуру, породивший такое множество литературных и культурных практик как в отечестве, так и за границей, как в его время, так и в будущем. Тут я не стану выяснять, почему его значение кажется недооцененным, но вопрос этот существует. Среди осознававших важность фигуры Синявского был Александр Эткинд, хорошо написавший о его теории метафоры; особое внимание он обратил на образы чудовищного и точно отметил присущее Синявскому тонкое понимание опасности, которой грозит перетекание метафорического чудовищного в жизнь[73]. Я бы добавила, что в разграничении художественного воздействия чудовищного и его чудовищного воздействия в жизни можно увидеть очередной пример защиты литературы от жизни, которой он был озабочен всегда.
В заключение приведу пример чудовищного «черезграничного» языка жестов из доклада под названием «"Я" и "Они"», прочитанного Синявским на симпозиуме в Швейцарии (XXV-es Rencontres de Geneve) на тему «Общение и одиночество» в 1975 году. Среди участников были Жан Старобинский, ведущий специалист по Руссо, Жорж Баландье, видный социолог постколониализма, Джордж Стайнер, известный литературовед и автор противоречивой повести о Холокосте, и Макс Поль Фуше — публичная фигура, интеллектуал, художественный критик и телезвезда; все они высказывались на заданную тему довольно абстрактно. Синявский говорил о крайних случаях тюремной коммуникации, которым он был свидетелем и которые он определил как проявления «последнего, тотального языка» тела, речи, строящейся «наподобие своеобразного спектакля, который разыгрывается перед охраной, перед начальством, перед сидящими здесь же в камере другими арестантами, либо — более отвлеченно — перед всем светом»: заказав себе вино с мороженым, чтобы отметить со своим сокамерником Новый год, зэк «берет железную тюремную кружку и вместо крема вводит туда сперму. Затем вскрывает себе вену и заливает мороженое вином. И оба — с праздником, с Новым Годом. Осмелюсь спросить: что это такое? И осмелюсь ответить: искусство. Искусство и более того — в некотором роде мифотворчество»[74]в соборе-тюрьме ХХ века. Этот театральный перформанс Синявский называет «экспериментом» с языком тела — единственным языком, доступным зэку. Доклад заканчивается в пространстве возвышенного — группа заключенных-«пятидесятников» молится в бане, и этот «перформанс» завершается ангельской глоссолалией: «…они возглашали, они говорили всему миру — сразу на всех языках, — что значит общение в условиях одиночества»[75]. Это общение, по Синявскому, — вид лагерного искусства, а возвышенное тут сродни Богу в «Что такое социалистический реализм»: «Утрачивая веру, мы не утеряли восторга перед происходящими на наших глазах метаморфозами бога, перед чудовищной перистальтикой его кишок — мозговых извилин»[76].
Перевод с английского Дмитрия Харитонова
[1] Бобышев Д. Последний мамонт. Встречи и разговоры с Игорем Чинновым //http://www.thetimejoint.com/taxonomy/term/3097.
[2] Бродский И. Меньше единицы // Бродский И. Сочинения. СПб.: Пушкинский фонд, 1999. Т. 5. С. 25.
[3] Бродский И. Состояние, которое мы называем изгнанием, или Попутного ретро // Бродский И. Указ. соч. 2000. Т. 6. С. 35.
[4] См.: Clifford J. Diasporas // Cultural Anthropology. 1994. Vol. 9. № 3. P. 305.
[5] Берберова Н. Лирическая поэма // Современные записки. 1927. № 30. С. 230.
[6] Boym S. Future of Nostalgia. N. Y.: Basic Books, 2008. Р. xvi.
[7] Бродский И. Состояние, которое мы называем изгнанием. С. 33.
[8] Терц А. Спокойной ночи. Париж: Синтаксис, 1984. С. 389— 390.
[9] См.: Hutcheon L. Irony, Nostalgia, and the Postmodern // Methods for the Study of Literature as Cultural Memory / Ed. by Raymond Vervliet, Annemarie Estor. Amsterdam: Ro- dopi, 1997.
[10] См.: Guesnet F. Russian-Jewish Cultural Retention in Early Twentieth Century Western Europe: Contents and Theoretical Implications // The Russian Jewsih Diaspora and European Culture, 1917—1937 / Ed. by Jorg Schulte, Olga Tabachnikova, Peter Wagstaff. Leiden: Brill, 2012. P. 4. Космополитизмом можно назвать «безгражданственность» старой эмиграции, явленную в нансеновском паспорте — удостоверении личности, полученном большей частью членов диаспоры (они начали их брать в 1921 году); само собой, поехать с ним в Россию они не могли (см.: Lettval R. Cosmopolitanism in Practice: Perspectives on the Nansen Passports // East European Diasporas: Migration and Cosmopolitanism / Ed. by Ul- rike Ziemer, Sear R. Roberts. Routledge, 2012. P. 13—15).
[11] Foucault М. Of Other Spaces // Diacrtics. 1986. № 16. Vol. 1. P. 22.
[12] См.: Soja Е. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. New York: Verso, 1989.
[13] См.: Georgiou М. Identity, Space and the Media: Thinking through Diaspora // Revue Europeenes des Migrations Internationales. 2010. Vol. 26. № 1. P. 20.
[14] Струве Г. Русская литература в изгнании. Paris: YMCA Press, 1984. С. 7. Сопоставляя друг с другом советскую и зарубежную литературы с точки зрения их значимости, Струве обнаружил свои староэмигрантские предпочтения, заявив, что, когда они сойдутся в единый поток, вторая будет играть более важную роль в процессе взаимного обогащения.
[15] Терц А. Литературный процесс в России // Синявский А. / Терц А. Литературный процесс в России. М.: РГГУ, 2003. С. 178. Статья была впервые опубликована в первом номере «Континента» (1974).
[16] Там же. С. 180.
[17] В письме к своему другу Жану де Гэньерону Пруст пишет о своем замысле «строить» «В поисках утраченного времени» как собор (см.: Leonard D.R. Ruskin and the Cathedral of Lost Souls // The Cambridge Companion to Proust / Ed. by Richard Bates. Cambridge: Cambridge University Press: 2001. P. 52—53).
[18] Терц А. Спокойной ночи. С. 40.
[19] Синявский А. Пространство прозы // Синтаксис. 1988. №21. С. 27.
[20] Georgiou М. Identity, Space and the Media: Thinking through Diaspora. Р. 21.
[21] В 1975 году Аксенов послал мне рукопись «Ожога» австрийской дипломатической почтой; у нас был пароль для передачи рукописи издателю. Он, что неудивительно, был игровой и взялся из американской популярной культуры: сигналом к публикации служило знаменитое прозвище Франка Синатры «Ol' Blue Eyes».
[22] См. подборку статей: Анн-Арбор в русской литературе // Новое литературное обозрение. 2014. № 125 (1). С. 120— 204, в особенности: Липовецкий М. «Ардис» и современная русская литература: тридцать лет спустя.
[23] См.: Matich О. Vasilii Aksenov and the Literature of Convergence: Ostrov Krym as Self-Criticism // Slavic Review. 1986. Vol. 47. № 4.
[24] См.: Sorokin Р. Russia and the United States. N. Y.: E.P. Dut- ton and Company, 1944. В 1960 году он написал статью «Взаимная конвергенция Соединенных Штатов и СССР в смешаный социокультурный тип», вызвавшую на Западе некоторую полемику.
[25] Аннексия Крыма Россией состоялась, когда я писала эту статью. Одна из поразительных параллелей между этим событием и романом Аксенова — слова «куратора Крыма» Марлена Кузенкова: «Что касается Запада, то в стратегических планах НАТО Крыму сейчас уже не отводится серьезного места, но тем не менее действия натовских разведок говорят o пристальном внимании к Острову как к возможному очагу дестабилизации. Словом, по моему мнению, если бы в данный момент провести соответствующий референдум, то не менее 70 процентов населения высказалось бы за вхождение в СССР» (Аксенов В. Остров Крым. Ann Arbor: Ardis, 1981. C. 232). Сам Крым действительно Запад не интересует, но о теперешнем «крымском вопросе» этого сказать нельзя. Удивительным образом, в «Острове Крым» предсказывается «воссоединение» — к тому же председателем Совета министров Республики Крым стал Сергей Аксенов, однофамилец автора романа.
[26] Своим консервативным русским языком первая диаспора также обязана писателям старшего поколения, которые, если обобщать, были реалистами и поэтами-«нефутури- стами»: представители литературного авангарда в основном остались в России.
[27] Терц А. Литературный процесс в России. С. 200.
[28] Гуль Р. Прогулки хама с Пушкиным // Новый журнал. 1976. № 124. C. 117—122. По иронии случая, в 1966 году Гуль дал положительный отзыв на «Мысли врасплох», в которых он — возможно, первым — увидел влияние Розанова.
[29] Солженицын А. Колеблет твой треножник // Вестник РХД. 1984. № 142. С. 152.
[30] Терц А. Что такое социалистический реализм // Синявский А. / Терц А. Литературный процесс в России. С. 164.
[31] Hutcheon L. Irony, Nostalgia, and the Postmodern // Methods for the Study of Literature as Cultural Memory / Ed. by Raymond Vervliet, Annemarie Estor. Amsterdam; Atlanta, Georgia: Rodopi, 2000. P. 199.
[32] Терц А. Прогулки с Пушкиным / Терц А. Собр. соч.: В 2 т. М.: Старт, 1992. Т. 1. С. 436.
[33] Эпштейн М. Синявский как мыслитель // Синтаксис. 1998. № 36. С. 87—91.
[34] Гройс Б. Стиль Сталин. Утопия и обмен. М.: Знак, 1993. С. 32.
[35] В предисловии к изданию 2003 года Гройс обратился к своим критикам, написав, что «темой этой книги является не столько история советской реальности, сколько история советского воображения» и что его представление о Сталине как о художнике и об авангарде как о предшественнике социалистического реализма имеет отношение не к ужасам сталинизма, а к эпистемологии эстетических программ, предполагавших создание нового мира посредством нового языка.
[36] Гройс Б. Стиль Сталин. С. 95.
[37] Синявский А. Сталин — герой и художник сталинской эпохи // Синтаксис. 1987. № 19. С. 123.
[38] Бродский И. Состояние, которое мы называем изгнанием. С. 30.
[39] Эта связь укреплялась участием в номере православного богослова и священника Александра Шмемана и архиепископа Сан-Францисского Иоанна (Шаховского; он также писал стихи под псевдонимом Странник).
[40] Я не хочу сказать, что Солженицын с Максимовым вовсе не расходились во взглядах, но против Синявского с его когортой они выступали единым фронтом.
[41] Максимов В. Сага о носорогах // Континент. 1979. № 19. С. 39.
[42] Эткинд был дружен с Солженицыным; в Советском Союзе он прятал некоторые его рукописи и помогал ему собирать материал для «Архипелага ГУЛАГ».
[43] Эткинд Е. Наука ненависти // Синтаксис. 1979. № 5. С. 47—48.
[44] Копелев Л. Советский литератор на Диком Западе // Синтаксис. 1979. № 5. С. 160.
[45] Солженицын А.И. Наши плюралисты // Вестник РХД. 1983. № 139. С. 158.
[46] О взаимоотношениях «Континента» и «Синтаксиса» см.: Скарлыгина Е.Ю. «Континент» и «Синтаксис»: К истории конфликта // От Кибирова до Пушкина: Сборник в честь 60-летия Н.А. Богомолова. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 550—568.
[47] Другой пример — Е.Г. Эткинд, которому Максимов инкриминировал сотрудничество с органами.
[48] Милош был членом редколлегии «Континента». Александр Зиновьев, ответивший уклончиво, в итоге тоже не приехал, но на его решение Максимов не влиял. Многие неприглашенные писатели и журналисты, наоборот, просили приглашения — прямо или через посредников, в том числе своих жен.
[49] Еще Аксенову с той же целью звонил Эрнст Неизвестный, заодно сообщивший ему (со слов того же Максимова), что я, вероятно, сотрудник то ли КГБ, то ли ЦРУ — не помню.
[50] Письма Максимова Аксенову. Из архива Василия Аксенова // Вокруг калифорнийской конференции по русской литературе // Вопросы литературы. 2013. № 3 (http:// ebiblioteka.ru/browse/doc/35262802). Также Максимов пишет: «Разумеется, Ваш покорный слуга был приглашен на эти сомнительные литигры только в качестве редактора одного из эмигрантских журналов вкупе с Николаем Боковым и Марией Розановой. Это уж, дорогой Вася, слишком!.. <...> Поэтому я вправе считать приглашение, посланное мне, если не подлой провокацией, то, во всяком случае, оскорбительным вызовом...» (Там же).
[51] Еженедельник «Новый американец» возник в противовес «Новому русскому слову», главным редактором которого бы Андрей Седых; он видел в новой газете конкурента и поэтому с ней боролся. 28 апреля 1981 года Седых опубликовал в своей газете отповедь конференции под названием «Кому это нужно?». Статья объемом в полполосы стала ответом на мое приглашение участвовать в конференции от 15 апреля (письмо он цитирует); кроме обиды на то, что его не пригласили раньше, и удивления тому, что вместо «НРС» и «Русской мысли» на конференции будет представлен еженедельник (имелся в виду, но не назывался «Новый американец»), Седых высказывал мысль о единстве всех волн эмиграции.
[52] Синявский А. Две литературы или одна? // The Third Wave: Russian Literature in Emigration / Ed. by Olga Matich and Michael Heim. Ann Arbor: Ardis, 1984. P. 23—30.
[53] Когда этот доклад обсуждался, Некрасов заявил, что «нельзя придумать позорнее названия, чем "промежуточная литература"». Роль представителя «Континента» (заместителя Максимова и проводника его политики) он выполнял скорее как плюралист, не раз позволив себе критиковать редакторскую практику журнала. В этом отношении Максимову не повезло.
[54] Цветков А. По ту сторону Солженицына (Современная русская литература и западное литературоведение) // The Third Wave. P. 257.
[55] Лимонов Э. О себе // The Third Wave. Р. 219—220.
[56] Соколова всегда на ней допрашивали. Он родился в Канаде, но спустя три года его отец был разоблачен как советский шпион и был вынужден срочно вернуться с семьей в Москву. Полковник (впоследствии — генерал) Всеволод Соколов был одним из главных советских разведчиков, участвовавших в нашумевшем «Деле Гузенко» (1945), связанным с кражей американских ядерных секретов.
[57] Соколов С. О себе // The Third Wave. Р. 203—205.
[58] См.: Matich О. Eduard Limonovs Poetik der Verargerung // Zuruck aus der Zukunft: Osteuropaische Kulturen in Zeitalter des Postkommunismus / Hrsg. Boris Groys et al. Frankfurt: Suhrkamp, 2005.
[59] Matich O. The Moral Immoralist: Edward Limonov's Eto ja — Edicka (Forum: The Third Wave. Part 2) // Slavic and East European Journal. 1986. Vol. 30. № 4. P. 528. «Невидимка» (1952) — роман о чернокожем, чья «невидимость» определяется его происхождением, а самоидентификация (о которой повествуется от первого лица) сложилась под влиянием человека из подполья Достоевского. Это первый написанный чернокожим американцем роман, удостоенный Национальной книжной премии. «Записки из подполья» — один из интертекстов романа «Это я — Эдичка».
[60] Лимонов Э. Это я — Эдичка. М.: Глагол. 1990. С. 318.
[61] В эссе «Полторы комнаты» Бродский пишет, что, хотя и «не следует отождествлять государство с языком», английский как язык политической свободы больше подходит для запечатления памяти о его родителях, которым неоднократно отказывали в визе, нужной им для того, чтобы навестить сына; что хочет, чтобы «глаголы движения английского языка повторили их жесты. Это не воскресит их, но по крайней мере английская грамматика в состоянии послужить лучшим запасным выходом из печных труб государственного крематория, нежели русская. Писать о них по-русски значило бы только содействовать их неволе, их уничижению...» (Бродский И. Полторы комнаты // Бродский И. Указ. соч. Т. 5. С. 324).
[62] Об интертекстуальности в «Палисандрии» см.: Matich О. Sasha Sokolov's Palisandriia: History and Myth // Russian Review. 1986. Vol. 45. № 4; Zholkovsky А. The Stylistic Roots of Palisandriia // Canadian-American Slavic Studies. 1987. Vol. 21. № 3—4.
[63] Изгнанный кремлевский сирота Палисандр Дальберг триумфально возвращается в Россию, чтобы искупить грехи своего сообщества, вернув на родину прах знаменитых русских, похороненных за границей (пародия на староэмигрантский анахронический миф о возвращении).
[64] Соколов С. Палисандрия. Ann Arbor: Ardis, 1985. С. 263—264.
[65] См.: ButlerJ. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. N.Y.; L.: Routledge, 1990.
[66] См.: Trousdale R. Nabokov, Rushdie, and the Transnation Imagination: Novels of Exile and Alternative Worlds. N. Y.: Palgrave Macmillan, 2010. Р. 166.
[67] Jung С. The Archetypes of the Collective Unconscious. Princeton: Princeton University Press, 1969. Р. 174.
[68] Соколов С. Палисандрия. С. 269.
[69] Kennan G. Between Earth and Hell // New York Review of Books. 1974. March 21. P. 10.
[70] Синявский А. Основы советской цивилизации. М.: Аграф, 2001. С. 6.
[71] Sinyavsky А. Soviet Civilization: A Cultural History / Trans. by Joanne Turnbull with Nikolai Formozov. N. Y.: Arcade Publishing, 1990. Р. 273.
[72] Эпштейн М. Амероссия: Двукультурие и свобода. Речь при получении премии «Liberty» (2000) // Эпштейн М. Знак_пробела: О будущем гуманитарных наук. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 816—817.
[73] Etkind А. Warped Mourning: Stories of the Undead in the Land of the Unburied. Stanford: Stanford University Press, 2013. Р. 124—127.
[74] Синявский А. «Я» и «Они» (О крайних формах общения в условиях одиночества) // Синявский А. / Терц А. Литературный процесс в России. С. 246.
[75] Синявский А. «Я» и «Они»... С. 255.
[76] Терц А. Что такое социалистический реализм. С. 175.
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Поездка была организована в рамках Перекрестного года культуры Великобритании и России. Путешествие продолжило сложившуюся традицию знакомства зарубежных литераторов с сегодняшней Россией, с ее культурой и литературой.
Подобные путешествия уже совершили писатели Франции (путешествие по Транссибирской магистрали и Енисею), Италии (часть Транссиба и Центральная Россия), Китая (Москва и Санкт-Петербург). Результатом стал солидный урожай книг о России (стоитхотя бы назвать великолепный альбом «Сибирь», выпущенный Домиником Фернандезом в содружестве с фотографом Ферранте Ферранти) и многочисленные статьи в зарубежной прессе. Теперь ряды путешествующих по России литераторов пополнили посланцы туманного Альбиона.
Писатели, гости ММКВЯ, прибыли в Москву вечером 5 сентября, и уже 6-ого утром состоялась экскурсия по Московскому Кремлю, с посещением Большого Кремлевского дворца. Таково было единодушное пожелание всех участников поездки – знакомство с Россией следует непременно начать с Кремля и Красной площади. А дальше было участие в мероприятиях ММКВЯ, в литературном фестивале «Букмаркет», встречи в Мультимедиа Арт Музее, где сейчас проходит выставка «Война, покончившая с миром», посвященная Первой мировой войне, посещение торжественной церемонии награждения лауреатов премии ЧИТАЙ РОССИЮ/READRUSSIA за лучший перевод с русского языка.
На следующий день началось своеобразное литературное паломничество. Писатели проехали по местам, знаковым для великой русской литературы, получившей признание во всем мире. Мураново Тютчева и Баратынского, чеховское Мелихово, тургеневское Спасское-Лутовиново, Ясная Поляна,Поленово и Таруса, связанная с именами Марины Цветаевой и Константина Паустовского… Обилие впечатлений, которые еще предстоит осмыслить и описать. В Мураново гостей угостили историческим обедом, состоявшим из блюд, приготовленных по старым русским рецептам. В Ясной Поляне гости оказались в день рождения Льва Николаевича Толстого и приняли участие в торжествах, возложили цветы на могилу писателя. А в Поленово многие не отказали себе в удовольствии искупаться в прохладной воде живописной Оки.Профессиональные экскурсоводы старались сообщить писателям как можно больше полезной и ценной информации. Но главное, конечно, для писателя – это не услышанные имена и даты, но живое прикосновение к миру русской литературы, ощущение своей сопричастности творчеству тех, кто в давно ушедшие времена открывал миру Россию. Свято-Троицкая Сергиева Лавра с толпами паломников, преклоняющих колена пред мощами Преподобного Сергия, и Третьяковская галерея с ее шедеврами по-своему дополнили представление о загадочной «русской душе». А золотая осень средней полосы, фантастические, «левитановские» виды русской природы довершили впечатление. Но главным была, конечно, возможность общения с реальными людьми в столице и провинции, яркие, непосредственные впечатления, создающие живое представление о России, явно отличное от нынешних заголовков британских газет.
В поездке приняли участие как писатели, известные в России по изданным переводам, так и те, кому еще только предстоит встретиться с российским читателем. Писатель и историк Норман Стоун (на русском языке издана его «Краткая история Первой мировой войны»), Бен Макинтайр, писатель, историк, ведущий рубрики в «Таймс», предпочитающий писать о загадочных поворотах мировой истории (на русский язык переведен основанный на документальном материале роман «Фарш» о Второй мировой войне), Флора Фрейзер, пишущая о женщинах, оставивших яркий след в мировой истории, Рэйчел Холмс, писатель и публицист, много сил отдающая благотворительной помощи больным СПИДом, Чарльз Камминг, автор политических триллеров, Александра фон Тунзельман, писатель и историк, ведущая рубрику о кино в газете «Гардиан», Джулиан Гоу, лауреат ряда литературный премий, один из самых читаемых сегодня авторов в Англии и, наконец, Николас Шекспир, автор беллетризованных биографий и дальний потомок великого драматурга – всех их объединило желание ближе узнать Россию в исторической литературной перспективе и Россию сегодняшнюю. А собрали всех вместе в этой уникальной поездке сотрудники издательства «Юнайтед агентс» Дэвид Кемпбелл, известный издатель популярной серии EverymanClassicsи русской поэзии, и Наташа Бистон, литературный агент, способствующая продвижению русской литературы в Британии.
Организовало поездку Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям при поддержке Британского Совета. На прощальном ужине в ЦДЛ гости обменивались впечатлениями, высказывали искренние слова благодарности в адрес организаторов этой удивительной поездки и намерение непременно вернуться еще раз. Одним из ярких впечатлений стало посещение библиотеки в усадьбе «Мураново», где гости наткнулись на старинные книги о Крыме XVIIIвека. «Мы поняли, что для русских история Крыма всегда была частью их собственной истории, и они всегда воспринимали и будут воспринимать Крым как неотъемлемую часть России», - сказал историк Норман Стоун. Тост «За Россию!», предложенный одним из его коллег, единодушно поддержали все участники путешествия.
В Германии были найдены контрафактные ампулы с противоопухолевым препаратом Мабтера (ритуксимаб) разработки компании Roche, пишет Reuters. Как сообщили в компании, вызвавшие подозрения партии ритуксимаба изначально были проданы оптовым организациям для реализации в Румынии.
Мабтера является препаратом на основе моноклональных антител, разработанным для лечения неходжинской лимфомы и ревматоидного артрита. В прошлом году продажи лекарственного средства достигли 7,45 млрд долларов.
Ранее в этом году Roche объявила о пропаже из ряда медицинских учреждений Италии флаконов противоракового препарата Герцептина (трастузумаб). Позже украденные флаконы были обнаружены в Великобритании, Финляндии, Германии, Австрии и Швеции. Как показал химический анализ, под видом Герцептина в пропавших емкостях продавалась жидкость, не содержащая действующего вещества препарата.
По словам представителей швейцарской фармкомпании, связь между выявленным в Германии контрафактом и украденными в Италии флаконами пока не обнаружена. В компании заявили, что в настоящее время ведется работа с местными органами здравоохранения и правопорядка по предотвращению распространения поддельного ЛС и снижению риска для пациентов.
Производство соков продолжает развиваться в Рязанской области
Так компания «Рудо-Аква», ведущая работу еще с 1991 года, в текущем году запустила в эксплуатацию два новых производственных цеха. Специализация первого – выработка различных напитков, нектаров и соков с мощностью в 12 тысяч бутылок за один час работы. Причем возможности оборудования предусматривают и производство продукции с кусочками фруктов, а также различных киселей и смузи.
В рамках второй линии, оборудованной машинами итальянского происхождения, уже налажено производство фруктовых десертов в вакуумной упаковке.
- Сегодня мы активно развиваем садоводство. И то, что мы выращиваем, должно попадать в переработку. Мы видим, что шаг на этом пути сделан и есть куда дальше развиваться. Ещё хочется отметить, что как раз производство чистой продукции без консервантов, очень важно. Я поздравляю вас с открытием линии. Желаю успехов предприятию, процветания вашему бизнесу, а также благополучия и высоких зарплат работникам,- сообщил Олег Ковалев, губернатор Рязанской области, побывавший на предприятии с визитом.
Также уже известно, что большая часть продукции «Рудо-Аква» в настоящее время законтрактована одним из крупных российских ритейлеров.
С начала года в киевском офисе исламской организации Альраид, сертифицирующей продукты из Украины для мусульманских стран, заметно добавилось работы. «Раньше к нам ежемесячно обращалось не более десяти компаний, но с весны этого года их количество выросло вдвое»,- говорит Олег Гузик, руководитель пресс-службы организации.
Наплыв желающих поставлять товары в страны Ближнего Востока и Азии объясняется чередой запретов на поставки украинских продуктов в Россию. С начала года россияне отказались от украинских кондитерских изделий, молока, мяса, рыбных и овощных консервов, картофеля и даже лука. И если в прошлом году в РФ отечественные продовольственные компании поставили продуктов на $1 млрд, то лишь за полугодие экспорт северному соседу сократился на $300 млн.
Вот и приходится украинцам цепляться даже за самые удаленные и экзотические рынки: остров Маврикий и Мьянма сегодня заменяют Москву и Кострому.
Директор Белоцерковской агропромышленной группы Сергей Онокий рассказывает, что его компания продает сухое молоко в любую точку мира, где только может найти покупателя. В Россию группа поставляла продукцию не часто, но сейчас, после ухудшения торговых отношений, даже не рассчитывает на этот близкий, но сложный рынок.
Новые Горизонты: Украинские производители выводят свою продукцию на рынки Ближнего Востока и Азии
Восточные рассказы
Поставлять в исламские страны можно только халяльную продукцию, то есть такую, которая произведена в точном соответствии с законами шариата. В компании Мироновский хлебопродукт (МХП), крупнейшем в Украине производителе мяса курицы (ТМ Наша Ряба), рассказывают, что для этого они подстроили под исламские требования даже процедуру убоя. «Если вкратце, то птица не должна убиваться током, а только оглушаться»,- рассказывает куратор экспортных поставок компании Сергей Горбенко. К МХП прикомандированы два представителя Альраид, которые следят за производством и читают молитвы во время умерщвления птицы.
Все эти ритуалы в МХП практикуются неслучайно — в этом году благодаря этим нововведениям компания вышла на рынки большинства стран Персидского залива, в частности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Омана, Йемена, Катара, Кувейта и Бахрейна. А рост объема продаж в эти страны сопоставим с тем падением, которое было у компании из-за российских запретов.
Да и в целом украинская птица взяла курс на Азию. Наибольшим импортером мяса курицы в этом году стал Ирак, вытеснив традиционного лидера — Россию. За семь месяцев эта исламская страна увеличила закупки в Украине втрое — до 22 тыс. т, что составляет 28% от всего экспорта курицы, рассказали в Украинском клубе аграрного бизнеса.
Ситуация с мясом птицы — хороший пример отказа от российского рынка без значительных потерь для отрасли за счет диверсификации. Но он далеко не единственный. Всего спустя месяц после того, как Россия закрыла свой рынок для украинских плодоовощных консервов, Нежинский консервный завод, входящий в структуру Fozzy Group, нашел покупателей своей продукции в Таиланде и ОАЭ. Заменить российский рынок, куда компания поставляла порядка 5 тыс. т, эти потребители пока не могут. Но на заводе не теряют оптимизма. Интерес дистрибутора из ОАЭ был настолько высоким, что в первый же заказ он включил половину ассортимента предприятия, рассказала бренд-менеджер компании Ольга Матюшко. Кроме того, завод поставляет свою продукцию еще в десяток стран — наиболее успешно она продается в США и Прибалтике.
Молочные реки
Чтобы сгладить последствия российской блокады, молочным предприятиям, в отличие от компаний из других отраслей, пришлось не только искать новые рынки, но и пересмотреть ассортимент выпускаемой продукции.
В 2013 году украинские молочники экспортировали продукции на $720 млн, из которых $450 млн приносили продажи в России, рассказывает Вадим Чагаровский, член наблюдательного совета компании Терра Фуд и председатель Союза молочных предприятий Украины. Львиную долю экспорта в РФ составляли сыры. Аннексия Крыма и напряжение на востоке Украины минувшей весной насторожило украинских производителей. И они спешно начали уменьшать объемы выпуска сыра. «Компании диверсифицировали риски, нарастив выпуск сливочного масла и сухого обезжиренного молока, востребованных на других рынках»,- говорит Чагаровский.
Сухое молоко и масло заводы выпускали и раньше, в период сезонного увеличения надоев, то есть начиная с мая. Но сейчас они начали эту работу на два месяца раньше. И не прогадали, когда к середине лета россияне практически полностью запретили ввоз молочной продукции. По словам Чагаровского, сухое молоко и масло помогли отечественным компаниям удержать уровень доходов от экспорта на прошлогоднем уровне. Место российского покупателя заняли потребители из Азии, Африки и Ближнего Востока.
Одним из наиболее перспективных рынков Чагаровский называет Алжир. Тонна сухого молока из Украины там стоит на $300 дешевле европейского. Это преимущество появилось не так давно благодаря девальвации гривны.
Помогает молочникам и то, что страны Таможенного союза не имеют консолидированной позиции по отношению к Украине,- Казахстан и Беларусь не спешат следовать примеру «старшего брата» и запрещать ввоз украинского продукта. «Мы увеличили поставки сухих молочных продуктов в Казахстан, ищем покупателей в Центральной Азии»,- сообщил Сергей Трифонов, директор по связям с инвесторами группы компаний Милкиленд. Эта компания экспортирует около трети всего украинского сыра. Свыше 60% внешних продаж компании приходилось на Россию.
Окно приоткрылось
Российская блокада стимулирует украинские компании использовать возможности зоны свободной торговли с ЕС, уверен эксперт УКАБ Игорь Остапчук. Хороший пример: поставки мяса курицы в Голландию, которая сегодня занимает второе место после Ирака по импорту этого продукта из Украины,- более 10% общего объема. А ведь еще год назад туда поставлялись лишь небольшие пробные партии.
Но все равно пока европейский рынок, из-за которого и началось противостояние России и Украины, не слишком гостеприимен для украинских компаний. Сложность сертификации, а также повышенная конкуренция не позволяют им чувствовать себя в ЕС хорошо.
По словам Горбенко из МХП, компания проходила процедуру аккредитации для выхода на рынок ЕС несколько лет и только с 2013-го начала совершать туда поставки.
По словам Трифонова из Милкиленда, предприятие получило много замечаний от европейцев, связанных с производством и продукцией. И несмотря на то что все они уже учтены, украинцы ожидают получения доступа на рынок ЕС лишь через год-полтора.
Впрочем, попытки завоевать Европу отечественные производители все равно предпринимают. Тот же Милкиленд планирует частично компенсировать потери российского рынка за счет своего польского завода Милкиленд Островия. Тот должен расширить поставки сыров, сухой сыворотки и белкового концентрата в ЕС.
Идут в Европу не только молочники. До введения российского запрета около 85% внешних продаж компании Биотрейд (безалкогольные напитки ТМ Биола) приходилось на РФ, остальное — на Беларусь, Молдову, Таджикистан, Грузию, Израиль. Чтобы уменьшить потери, производитель возобновил поставки в Латвию и другие страны Евросоюза.
В Витмарк-Украина (ТМ Jaffa, Наш сок), одной из крупнейших компаний по производству соков и детского питания, также уверяют, что завязали торговые отношения не только в странах Азии, но и в ЕС.
Некоторым компаниям завоевывать этот рынок проще. У кондитерской корпорации Roshen, например, есть свои заводы в Венгрии и Литве, благодаря которым компания расширяет сбыт в Юго-Восточной и Центральной Европе, а также Испании, Италии и Великобритании.
Старые песни
Впрочем, не все предприниматели рассчитывают на новые рынки. Для многих идеальным вариантом было бы возобновление нормальных торговых отношений с Россией.
Владимир Чернышенко, совладелец комбината Тепличный, который специализируется на выращивании овощей, понимает, что свою продукцию он не сможет продать в Европу никогда. Российские запреты пока не затронули его бизнес. «Но если нашу продукцию заблокируют — будет катастрофа, альтернативного рынка не найти»,- говорит предприниматель. Европа закупает более дешевые томаты в Испании, Португалии и Северной Африке.
Подобные пророссийские настроения среди украинских предпринимателей встречаются нередко. Чагаровский, например, не ждет манны небесной от рынка ЕС для своей отрасли: европейский рынок сыра тесный, имеет давнюю историю и предпочтения, а остальная молочка зависит от квот. Годовой объем беспошлинного ввоза этой продукции в ЕС ограничен 8 тыс. т. Для Украины, выпускающей свыше 1 млн т, это мизерный объем. Возврат же к поставкам в РФ позволил бы отрасли чувствовать себя хорошо.
Как и многие другие, Чагаровский надеется, что рано или поздно все вернется на круги своя. Ведь доля украинских сыров на рынке северного соседа внушительная — порядка 14%. Отказ от украинской продукции неизбежно приведет к подорожанию сыров, тем более что дешевый продукт уже и так стоит дороже. Мол, долго на антиукраинской диете Россия не продержится.
Отмены молочного запрета эксперт ожидает уже этой осенью. И тогда о поиске альтернативных рынков можно будет позабыть — до следующего кризиса как минимум.
Более чем 20 государств требуют освобождения арестованного сотрудника эстонской полиции безопасности (КАПО) Эстона Кохвера, подозреваемого в России в шпионаже, сообщила в понедельник пресс-служба МИД Эстонии.
"В этом вопросе поддержку Эстонии выразили многие государства", — сказал министр иностранных дел Урмас Паэт.
По его словам, освобождение Кохвера и возвращение его из России в Эстонию требуют США, Германия, Дания, Португалия, Великобритания, Ирландия, Финляндия, Австрия, Испания, Турция, Канада, Латвия, Литва, Италия, Грузия, Чехия, Польша, Бельгия, Голландия, Франция и Швеция.
Паэт также напомнил, что в прошлую пятницу министры иностранных дел стран Северной Европы и Балтии, проводившие заседание в Таллине, выступили с совместным заявлением, потребовав освобождения Кохвера. Заявление подписали главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии и Дании.
Центр общественных связей ФСБ России 5 сентября сообщил, что Кохвер был задержан на территории Псковской области со спецтехникой для скрытой записи, пистолетом "Таурус" с патронами и денежными средствами в сумме 5 тысяч евро. По оценке российской спецслужбы, "пресечена агентурная операция департамента полиции безопасности МВД Эстонии". Лефортовский суд Москвы 6 сентября санкционировал арест Кохвера на два месяца.
По версии эстонской стороны, Кохвер был похищен неизвестными лицами в пятницу утром на территории Эстонии недалеко от пограничного пункта Лухамаа на границе с Псковской областью и под угрозой применения оружия доставлен в Россию. КАПО утверждает, что ее сотрудник "выполнял служебные обязанности по предотвращению трансграничного преступления", связанного с контрабандой. Николай Адашкевич.
Иран отклонил запрос США о сотрудничестве в борьбе с боевиками группировки "Исламское государство", передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.
Ранее США заявили о создании коалиции по борьбе с "Исламским государством". По словам главы Пентагона Чака Хейгела, в нее входят 10 стран: США, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Австралия, Турция, Италия, Польша и Дания. Власти Ирана сообщали, что не видят готовности США сотрудничать в борьбе против боевиков из группировки.
"С самого начала США через своего посла в Ираке просили нас о сотрудничестве в борьбе с ИГ. Я отказался, потому что их руки запятнаны. Госсекретарь (США Джон Керри) также обращался к (главе МИД Ирана) Мохаммаду Джаваду Зарифу, и он отказался", — заявил Хаменеи.
Террористическая религиозная группировка "Исламское государство", имеющая связи с "Аль-Каидой", набрала наибольшую силу во время действий на территории Сирии, где ИГ воевала против правительственных сил и приобрела "славу" одной из самых жестоких. Несколько месяцев назад группировка резко активизировала свою деятельность в Ираке. Воспользовавшись недовольством иракских суннитов политикой Багдада, ИГ развернула массированное наступление на северные и северо-западные провинции Ирака и захватила обширные территории, где объявила о создании так называемого "исламского халифата".
Министр обороны Украины Валерий Гелетей сообщил, что уже идет процесс передачи странами-членами НАТО оружия Киеву.
Он напомнил, что в начале сентября вместе с президентом был на саммите НАТО и просил альянс о помощи Украине.
"Я также общался (на саммите — ред.) в закрытом формате с министрами обороны ведущих стран мира, те, которые могут нам помочь, и они услышали, у нас идет процесс передачи оружия", — сказал Гелетей в интервью украинскому "Пятому каналу" в субботу вечером.
Он добавил, что в этом направлении "процесс пошел". "Этот процесс пошел, и я чувствую, что это именно тот путь, которым нужно идти", — отметил министр обороны.
Ранее президент Украины Порошенко заявил, что ему удалось договориться с рядом стран НАТО о прямых поставках на Украину современного оружия. По данным советника президента Украины Юрия Луценко, на саммите НАТО в Уэльсе была достигнута договоренность о поставках оружия из США, Франции, Польши, Норвегии и Италии. Все эти страны впоследствии опровергли данное заявление, но президент Украины настаивал, что с рядом стран НАТО договориться о прямых поставках современного оружия все же удалось.
НАТО неоднократно заявляла, что организация сама по себе не может поставить Украине оружие и другое военное оборудование, поскольку не располагает им. При этом генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявлял журналистам, что НАТО "не будет вмешиваться" в решения отдельных стран-членов поставлять оружие Украине.
Президенты Украины Петр Порошенко и США Барак Обама, а также председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен признаны виновными в совершении военных преступлений в Донбассе на состоявшемся в субботу в Венеции неформальном "трибунале Рассела".
Ранее сообщалось, что на этом неформальном суде среди обвиняемых был глава Евросовета Херман ван Ромпей, однако в приговоре его имя не фигурирует.
Как сообщил РИА Новости один из наблюдателей, присутствовавших на показательном процессе, коллегия из четырех народных судей во главе с председателем оргкомитета "трибунала Рассела" в Венеции, одним из лидеров движения за возрождение независимой Венецианской республики Альбертом Гардином, осудила Порошенко, Обаму, Баррозу и Расмуссена как "военных преступников", посчитав их ответственными за военные преступления против народа Донбасса.
По словам собеседника агентства, на заседании трибунала присутствовали всего около 10 человек, в том числе известный итальянский журналист Джульетто Кьеза и уроженка Луганска, проживающая в настоящий момент в Италии. Женщина, ссылаясь на свидетельствования своих родственников, рассказала судьям ужасные подробности того, что происходит на юго-востоке Украины.
Заслушав всех желающих, судьи вынесли обвинительный приговор, который теперь должен быть направлен в разные международные организации, в частности, в ООН, ОБСЕ и Международный уголовный суд.
"Трибунал Рассела" впервые был проведен в 1967 году по инициативе философов Бертрана Рассела и Жана-Поля Сартра, чтобы осудить военные преступления Вьетнамской войны. Позже аналогичные "трибуналы" прошли по Чили, Ираку, Палестине. Никаких юридических последствий они не имеют. Наталия Шмакова.
Суммарные потери от санкций западных стран в отношении России и ее ответных мер оцениваются в 40 миллиардов евро, заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов.
После присоединения Крыма к России США и Евросоюз ввели целый ряд ограничений в отношении компаний, банков и целых секторов российской экономики. Россия со своей стороны в качестве ответных мер запретила в течение года ввозить на ее территорию отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против РФ.
"По европейским же оценкам суммарные общие со всеми эффектами потери от санкций и антисанкций составили порядка 40 миллиардов евро. В наибольшей степени пострадали те страны, которые связаны с Россией тесными связями. Это Германия, Нидерланды, Литва, Польша, Эстония", — сказал Белоусов в эфире программы "Вести в субботу".
Отвечая на вопрос о том, не было ли со стороны отдельных стран-членов ЕС просьб к России о том, чтобы исключить их из пакета антисанкций, Белоусов сказал, что подобных открытых обращений не было, однако "всевозможные сигналы" о том, чтобы остаться на рынке, были.
"Формально руководителям компаний за это грозит серьезное наказание, вплоть до уголовной ответственности. Но я вам должен сказать, что реакция (на антисанкции) западного бизнеса, а если говорить точнее, то бизнеса из восточно-европейских стран — Польши, Литвы, Эстонии, Финляндии, Германии, Франции, Италии, была очень резкой", — сказал Белоусов.
"Первая реакция на санкции <…> Я бы сказал, что наш бизнес встретил их со спокойным интересом, рассматривая как неведомую зверушку, но безопасную, а вот западный бизнес перепугался всерьез. Начались всевозможные сигналы, что "мы все понимаем, это политические игры, но поймите и нас, дайте нам возможность остаться на рынке" и так далее", — добавил он.
Евросоюз с 12 сентября в рамках новой волны санкций ограничил доступ к европейским рынкам капитала для российских компаний "Оборонпром", ОАК, "Уралвагонзавод", "Роснефть", "Транснефть" и "Газпромнефть". Запрещено предоставлять им, а также крупнейшим российским финансовым институтам (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Внешэкономбанк) новое финансирование на срок более 30 дней. США в этот же день тоже ввели ограничения на поставку или реэкспорт товаров, услуг (за исключением финансовых услуг), а также технологий для проектов по разведке и добыче на глубоководном шельфе, шельфе арктических морей и проектов по добыче сланцевой нефти пяти российским компаниям: "Роснефть", "Газпром", "Газпромнефть", "Лукойл" и "Сургутнефтегаз".
Новый раунд санкций ЕС и США нацелен против российских нефтегазовых проектов на арктическом шельфе, что может поставить под вопрос большое сотрудничество между Роснефтью и «ExxonMobil», ENI и «Statoil’ом».
Третий раунд европейских антироссийских санкций прицельно бьёт по Арктике. По информации Европейского совета, запрещается «предоставлять услуги, необходимые при глубоководной разведке и добыче нефти, работы в Арктике и на месторождениях сланцевой нефти, в том числе услуги по бурению и испытанию скважин, а также по их геофизическому исследованию».
Новые реакции ЕС на поведение России на востоке Украины следуют санкционной линии США.
Новые меры ЕС и США станут серьёзным ударом для нефтедобывающей промышленности во всех затронутых ими странах, и прежде всего для Роснефти, «ExxonMobil», ENI и «Statoil’а».
За последние два года Роснефть заклчючила объёмные соглашения о сотрудничестве с рядом ведущих зарубежных нефтегазовых компаний, в том числе с «ExxonMobil», ENI, «Statoil’ом», CNPC и «PetroVietnam». Этим летом «ExxonMobil» выкладывает около 700 млн. долл. на бурение скважины «Университетская-1» в Карском море, производящееся в рамках широкого соглашения о сотрудничестве с Роснефтью. У ENI и «Statoil’а» также заключены с Роснефтью масштабные соглашения по ряду регионов, в том числе по спорной в прошлом акватории между Норвегии и Россией.
«Газпром нефть» также пострадает от новых санкций. Компания проводит разведку богатых запасов Печорского моря, в том числе на Долгинском месторождении. В связи с санкциями румынская буровая платформа GSP Saturn, работавшая этим летом на этой структуре, в скором времени должна будет уйти из российских вод и вернуться в пределы ЕС.
Новые ограничения серьёзно ударят и по ряду других компаний, в том числе по норвежской «Seadrill», всего несколько недель назад продавшей Роснефти 30% своей дочерней компании «North Atlantic Drilling Ltd.».
Как пишет газета «Ведомости», ограничения не коснутся действующих проектов, где нефть уже добывается. Речь идет о новых месторождениях, планы освоения которых охватывают ближайшие 5-10 лет. Таким образом, на единственную российскую нефтяную платформу, добывающую нефть в Арктике, «Приразломную», нынешние санкции не повлияют.
С 15 сентября в течение четырех дней в Тегеранском выставочном центре будет проводиться 13-ая международная выставка кондитерских изделий. По данным Организации развития торговли Ирана, экспозиции выставки займут в общей сложности площадь в 13 тыс. 750 кв. м, и в ней примут участие 266 иранских и около 50 зарубежных компаний.
На 13-ой международной выставке кондитерских изделий представят свою продукции производители из 21-ой страны, в том числе из Испании, США, Австрии, Италии, Германии, Англии, Украины, Азербайджана, Турции, Китая, Дании, России, Японии, Швеции, Франции, Южной Кореи, Малайзии, Голландии и Индии.
Помимо кондитерских изделий на выставке будут представлены машинное оборудование, применяемое при производстве кондитерских и шоколадных изделий, и сырьевые материалы для этих изделий. В рамках выставки планируется провести три конференции и несколько специализированных «круглых столов».
Следует отметить, что если десять лет назад в Иране производилось менее 300 тыс. т кондитерских и шоколадных изделий в год, то на данный момент, несмотря на имеющиеся трудности, объем производства этой продукции достигает 2 млн. т в год. По неофициальным данным, в Иране насчитывается от 360 до 400 предприятий, занимающихся производством кондитерских и шоколадных изделий.
В пятницу, 12 сентября, ЕС ввел очередные ограничительные меры. Под удар попали компании "Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть", а также "Оборонпром", ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация) и "Уралвагонзавод". Ограничения коснулись и сотрудничества в сфере разработки нефтяных месторождений. Также ЕС ужесточил ограничения по доступу к кредитам ряда российских госбанков, предельный срок займов снижен до 30 дней. Кроме того, на 24 фамилии пополнился и черный список физических лиц.
"Что политика Европы преднамеренно идет против России, это очевидно. То, что они идут самостоятельно — вопрос неоднозначный. Например, в Польше и Прибалтике это преднамеренная политика. Но в остальной Европе государства не такие довольные. В Испании, во Франции, в Португалии настроения совершенно другие. Инициатива исходит именно из Польши, прибалтийских республик и Германии. Потому что они идут в направлении, которое им диктует Обама и США", — сказал в эфире "Голоса России" итальянский журналист, политик, экс-депутат Европарламента Джульетто Кьеза.
По его мнению, западные санкции — это очередной способ США пошатнуть роль России на политической арене.
"Очевидно, что в Америке приняли решение изменить курс мировой политики. Им не нравится, что Россия самостоятельная. Это время, когда надо показать миру, что они хозяева. Но мы знаем, что они уже не хозяева. Я считаю, что с нынешними руководителями США очень сложно спокойно вести дела. США хотят вытеснить Россию из международного рынка капитала, поставить новый "железный занавес", который строят искусственно и это не связано с Украиной", — сказал итальянский журналист.
При этом, как отметил Джульетто Кьеза, несмотря на старания западных СМИ, многие европейские граждане не разделяют антироссийских настроений своих политиков.
"Господствует среди политиков и журналистов "мейнстрим". Но я не уверен, что он господствует среди населения, например, в Италии это не так. Несмотря на русофобские настроения, которые каждый день распространяются в СМИ, реакция людей не такая отрицательная в отношении России. Во-первых, есть большая группа людей, которые страдают от ответных мер РФ на санкции. Экспортируется большое количество продовольствия в Россию, российские ответные санкции — очень сильный удар по нашим экономикам. И на следующей неделе на север Италии поедет группа предпринимателей, которые хотели бы организовать политическую акцию против решения правительства", — рассказал Джульетто Кьеза.
В апреле-июне 2014 г. общее число заказов на поставки итальянского деревообрабатывающего оборудования выросло в годовом исчислении на 28,7%, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении национальной Ассоциации производителей деревообрабатывающего оборудования (Acimall).
Эксперты Ассоциации подчеркивают, что положительные итоги квартала заслуживают большого внимания, особенно на фоне политического кризиса, отразившегося на состоянии мировых рынков. В Acimall особенно отмечают рост заказов на внутреннем рынке (на 32,9%), однако заказы зарубежных компаний также заметно увеличились — на 25,8%. Цены с начала года выросли на 0,8%, средний срок исполнения имеющихся заказов рассчитан на 2,9 месяца.
Исходя из результатов традиционного опроса, проведенного в Ассоциации, выяснилось, что 42% итальянских компаний увеличили производство оборудования, у 47% объемы остались на прежнем уровне, и лишь у 11% сократились. Штат сотрудников в 84% компаний не изменился, в 16% — вырос.
Что же касается краткосрочной перспективы, то 16% итальянских производителей ожидает снижения спроса на внутреннем рынке, 79% уверены в стабильности и лишь 5% рассчитывают на увеличение заказов и продаж. Более позитивные ожидания связаны с внешними рынками — представители 26% компаний уверены в росте спроса, 63% считают, что существенных изменений не произойдет, 11% полагают, что заказы из-за рубежа будут снижаться.
Управляющая компания «Динамо» намерена приобрести металлоконструкции для крыши реконструируемого стадиона у российских производителей, сообщил первый заместитель руководителя проекта «ВТБ Арена Парк» Сергей Тарханов.
По его словам, в настоящее время компания ведет переговоры с отечественными компаниями. «Мы попытались полностью уйти от использования металлоконструкций иностранных производителей. У нас есть партнеры и заводы в России, готовые выполнить необходимые объемы. Надеемся, что у нас сохранится этот подход, и все металлоконструкции для будущего стадиона «Динамо» и арены будут поставляться с российских заводов», - сказал С. Тарханов. При этом он отметил, что осуществлять контроль монтажа металлоконструкций будет партнер генерального подрядчика - итальянская компания CIMOLAI. «Компания Codest со своим итальянским партнером - итальянской компанией CIMOLAI - изучают проектную документацию и проектные решения, связанные с наиболее сложной и ответственной работой - крышей стадиона», - пояснил первый заместитель руководителя проекта «ВТБ Арена Парк». Он добавил, что инжиниринговая компания CIMOLAI специализируется на сложных конструкциях, на крышах спортивных сооружений. Она участвовала в строительстве нескольких стадионов к чемпионату Европы по футболу 2012 года в Польше и к чемпионату мира в Южно-Африканской Республике (ЮАР). «Следующий этап - разработка проектной документации и размещение заказа на производстве. Прекрасно, что качество поставляемых для строительства кровли металлоконструкций будет контролироваться специалистами с таким серьезным опытом реализации подобных проектов», - сказал С. Тарханов. Со строительством и реконструкцией спортивных объектов в столице можно ознакомиться здесь.
Европейская стагнация
Повышение цен, анонсированное европейскими металлургами, пока не принято рынком
/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ Традиционный осенний подъем деловой активности в странах Евросоюза в этом году заметно запаздывает. Уже завершилась первая декада сентября, а спрос на стальную продукцию в ЕС остается весьма ограниченным. Поэтому металлургам, еще в конце августа анонсировавшим повышение котировок, пока не удается в полной мере воплотить его в жизнь.
Основная проблема заключается в том, что в ЕС продолжается рецессия, которая затрагивает, в частности, Германию, Францию и Италию. Региональный бизнес заявляет о потерях вследствие санкций, введенных Брюсселем против России, и сокращении объема экспортных заказов. Банки по-прежнему очень неохотно кредитуют реальный сектор, а потребители стараются поддерживать запасы стальной продукции на минимальном уровне.
По мнению аналитиков британской консалтинговой компании MEPS, неблагоприятные процессы на европейском рынке стали будут продолжаться, как минимум, до конца текущего года. Металлурги, безусловно, смогут избежать нового понижения котировок на прокат, но существенное подорожание стальной продукции в обозримом будущем также выглядит маловероятным.
Пока что самые высокие цены на горячекатаные рулоны продвигают восточноевропейские подразделения Arcelor Mittal – вплоть до 450 евро за т EXW. Крупные германские компании ThyssenKrupp и Salzgitter приводят базовые котировки на уровне 430-440 евро за т. Итальянские и центральноевропейские компании, в последние месяцы определявшие нижнюю границу ценового интервала на региональном рынке горячего проката, довели стоимость своей продукции до 400-415 евро за т EXW по сравнению с 390-410 евро за т в первой половине августа.
Тем не менее, по данным трейдеров, пока что при заключении реальных сделок котировки не превышают 430-435 евро за т EXW. Дистрибуторские компании из-за низкого спроса не израсходовали за лето накопленных запасов и поэтому не спешат с новыми закупками.
Аналогичная картина наблюдается и на рынке толстолистовой стали. Объективно объем предложения этой продукции уменьшился вследствие прекращения поставок дешевых слябов из Украины в Польшу, Чехию и Италию. Вследствие этого производители еще в середине августа инициировали повышение цен на 20-25 евро за т. Однако в действительности рост пока не превышает 10 евро за т по сравнению с августовскими показателями. Скорее всего, в такой же степени подорожают и горячекатаные рулоны. Что же касается холодного проката и оцинкованной стали, то в этих сегментах в последние несколько недель не произошло существенных изменений вследствие слабого спроса.
Подорожание металлолома в августе и сезонное расширение спроса дали европейским производителям длинномерного проката заявить о подъеме котировок на 20-25 евро за т по сравнению с началом прошлого месяца. Так, в Германии стоимость арматуры вышла на уровень 475-490 евро за т CPT, и даже итальянские компании предлагают теперь данную продукцию по 450 евро за т EXW и выше. Однако, как отмечают трейдеры, новые цены являются, по большей части, номинальными и слабо отражают уровень реальных сделок. По их данным, спрос на конструкционную сталь в регионе возрос не в такой степени, чтобы оправдать подорожание.
Кроме того, европейским компаниям не удается организовать поставки длинномерного проката в Алжир. Местные дистрибуторы пока располагают достаточными запасами и отказываются принять повышение цен даже на 5 евро за т по сравнению с августом – до 430-435 евро за т FOB для арматуры. Алжирская строительная отрасль в последнее время стагнирует, новые проекты не запускаются, так что спрос на металл в стране очень ограниченный.
Единственное, что выручает европейских металлургов в данной ситуации, это самый низкий за последние без малого два года курс евро по отношению к доллару. Благодаря этому фактору импорт стальной продукции в страны региона сократился до минимума. Возможно, «дешевый» евро во второй половине сентября поможет европейским производителям стали добиться некоторого увеличения котировок на прокат, но в долларах это повышение, очевидно, будет минимальным.
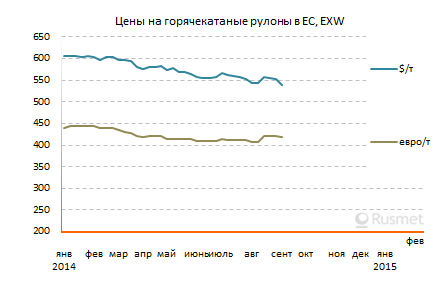
Российские паломники у святынь Греции
Хождение за пять морей. Окончание
* Окончание. Начало см.: Нева. 2014. № 7, 8.
Архимандрит Августин (в миру — Никитин Дмитрий Евгениевич) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.
Итака
Этот маленький островок известен благодаря Гомеру и его бессмертным поэмам. И когда наши старинные ладьи под парусами вошли в главную гавань Итаки, словно ожила картина, описанная в гомеровской «Одиссее»:
В славную пристань вошли мы: ее образуют утесы,
Круто с обеих сторон подымаясь и сдвинувшись подле
Устья великими, друг против друга…1
Перед входом в гавань столицы острова — город Вати, мореплавателей встречает плакат с надписью: «Каждый путешественник — гражданин Итаки». На Итаке к мореходам относятся радушно. Но особое гостеприимство было оказано здесь участникам паломнической миссии «Золотой век»: ведь в течение тринадцати лет — с 1978 года, когда у членов петрозаводского клуба путешественников появился корабль «Полярный Одиссей», они мечтали побывать на родине того морехода, чье имя они дали своему клубу. Здесь паломников из России пригласил на прием мэр города Вати — Спирос Арсенис, и мы «пустилися визитировать, сперва к начальникам города»2. На следующий день отцы города организовали для нас автобусную экскурсию по острову.
Остров Итака вытянут с юга на север, и в центре острова перешеек настолько узок, что из автобуса можно видеть одновременно оба берега моря. В семнадцати километрах к северу от города Вати, на высоте сто десять метров, находится деревня Ставрос, где в местном парке несколько десятилетий тому назад был установлен бюст Одиссея. Вполне понятно, что члены клуба «Полярный Одиссей» уделили этому памятнику большое внимание, и каждый счел своим долгом сфотографироваться на его фоне.
Вернувшись в Вати, паломники имели возможность посетить развалины византийского селения Палиохору, которое существовало еще в 1500-е годы по Рождестве Христовом — в начале венецианского правления Ионическими ocтpoвaми. Ceгoдня здесь среди руин жилых домов возвышаются остатки колокольни, а рядом, под открытым небом, виднеется каменная основа иконостаса с чудом сохранившимися византийскими фресками, которые могли бы украсить любой музей мира. Недалеко от этих остатков былого величия, открытых всем стихиям, расположен еще один храм, который уцелел от разрушения. Здесь также можно видеть старинные фрески и иконы: церковь все еще используется для богослужений. Связь времен здесь, похоже, никогда не прерывалась: «пропадут старые фрески — напишем новые». Близ древней Палиохоры расположено деревенское кладбище, а за ним — деревня Перахора, жители которой ведут примерно тот же образ жизни, что и их предки: здесь живут пастухи, виноградари. На веранде одного из домиков местный священник мирно пьет чай с матушкой. Идиллическую картину нарушает грузовик с цистерной: на острове почти нет воды, и ее приходится завозить с «матерой земли» (материка).
Во время пребывания на Итаке у нас было ощущение первооткрывателей: действительно, вряд ли кто из соцлагеря бывал здесь ранее. Но наши предположения начали рассеиваться уже на самом острове. Здесь мы познакомились с группой немецких туристов из бывшей ГДР: как только рухнула берлинская стена и «заслонка» была убрана, молодые люди устремились из хонеккеровской мышеловки за пределы «отдельно взятой страны», чтобы посмотреть мир. И вот они очутились на маленьком, «отдельно взятом острове», о котором русский офицер П. И. Панафидин, участник морской кампании 1806–1809 годов, писал: «Прошли незначительный остров Итаку, владение хитрого царя Улисса; он 10 лет не мог попасть в свое царство — и не мудрено. После осады Трои, где он был из главных полководцев, Итака казалась ему ничтожной»3.
Но русский мореход мог и не знать, что Итака чуть было не стала русским владением за несколько десятилетий до того, как русская эскадра прошла мимо этого «незначительного» острова. Другой участник кампании 1806–1809 годов — офицер Владимир Броневский приводит на этот счет интересные сведения. «Екатерина II, во время счастливой войны с турками 1770 года, желала от Венецианской, тогда к падению клонившейся республики, приобрести остров Итаку, — пишет он. — Но смерть Иосифа4, мир, заключенный Леопольдом5 с турками и недоброжелательство Англии, Пруссии и других посредствовавших в мире держав, воспрепятствовали и сие привести в исполнение»6.
Но все же влияние русского флота на судьбы Итаки было значительным, и в 1799 году, когда Ионические острова перешли в сферу влияния России, адмирал Ф. Ф. Ушаков предписал бывшему контр-адмиралу венецианской службы Орио об установлении на острове Итака более демократического, чем ранее, правления — аналогичного правлению на острове Закинфе. Пусть все будет так же, говорилось в предписании, но «в рассуждении в оном острове малого количества людей, судей должно быть гораздо меньшее число, нежели на острове Занте». При этом упоминалось, что избранные «должны напервее учинить присягу по всей форме, целовать Крест и Евангелие»7. А в конце присяги, которую давали выборщики, также говорилось: «избирать будем судей достойных, честных и справедливых людей, чем перед Богом и Судом Его Страшным мы ответ дать должны, и в заключение сей нашей клятвы целуем слова (Евангелие. — Авт.) и Крест Спасителя нашего. Аминь»8.
Для исполнения этого предписания Ф. Ф. Ушаков послал на остров Закинф и Итаку капитан-лейтенанта Н. А. Тизенгаузена, с надлежащими полномочиями. «Повсюду народ с восторгом принимал объявление независимости, встречал Тизенгаузена с иконами и хоругвями, и провозглашал имя русского императора»9, — писал один из русских историков в XIX веке.
Жители Итаки преподнесли Ф. Ф. Ушакову золотую медаль — «от острова Итаки, родины греческого героя Одиссея — с изображением Ушакова в виде знаменитого соотечественника»10. На этой медали читалась греческая надпись: «Федор Ушаков, российских морских сил главный начальник, мужественный освободитель Итаки»11. И все это — несмотря на то, что незадолго до освобождения Ионических островов от французов Бонапарт запретил под угрозой смертной казни жителям Итаки, Корфу и островов Эгейского моря иметь какие-либо отношения с Россией и их судам носить русский флаг12.
Жители Ионических островов питали симпатии к России, и когда в 1804 году было открыто русское консульство в Превезе, то во главе этого учреждения встал уроженец Итаки — надворный советник И. Влассопуло, патриот и будущий член «Филики Этерии» (создана в Одессе, 1814 год)13. Но несмотря на то, что на Итаке бывали посланцы из России, она все еще оставалась для русских путешественников не изученной, и сведения о ней почерпались главным обpaзом из иностранных описаний, отличавшихся поверхностным характером. Вот, например, что говорилось об этом острове в записках Павла Свиньина, относящихся к 1818 году: «Тэаки или малая Цефалония, лежит против большой Цефалонии. Жителей на острове не более 3000; в одной деревне, называемой Вальти, есть большая и удобная пристань для всяких кораблей. Небольшой остров сей славится пред всеми красотою и стройностью женщин; мужчины все природные матросы»14.
В 1835 году русский путешественник Владимир Давыдов посетил Итаку вместе со своими коллегами, в числе которых был и знаменитый художник Kapл Брюллов. Он выехал из Рима через Анкону, далее — морем до острова Корфу и по другим Ионическим островам. Итак, Итака: «Утесистая родина Улисса скоро открылась перед нами, и мы приблизились к ней до заката солнца, — пишет В. Давыдов. — К ночи поднялся ветер, и мы, не без труда, вошли в темноте в узкий и, как говорят, опасный для судов залив Вати. Барку мою остановили было у таможни, но матросы закричали, что едут русские милорды, и нас пропустили»15.
Как и ладьи клуба «Полярный Одиссей», барка с «русскими милордами» направилась к городку Вати. «Местоположение города Вати, нынешней столицы острова, очень мило, — продолжает В. Давыдов. — Вати стоит частью на южном краю, частью на западном берегу большой овальной бухты, окружений с обеих сторон горами. Он круче на западной стороне и веселее и плодороднее на восточной»16.
В отличие от нашей паломнической группы, путешествовавшей по острову на автобусе «за нехваткой времени», у наших предшественников была возможность неторопливо осматривать достопамятности Итаки. Кроме того, художники Брюллов и Ефимов, сопровождавшие В. Давыдова, по его словам, «обязывались снять виды с мест и строений, которые мы будем осматривать»17. И там, где наши пилигримы торопливо щелкали затворами фотоаппаратов, стараясь хоть что-то зафиксировать из окон автобуса, русские художники могли расположиться на долгое время. «Рисунок, начатый Брюлловым, дает понятие о прелестном виде моря, врезывающемся многими заливами с обеих сторон острова»18, — сообщает Владимир Давыдов в своих записках.
Но иногда случалось так, что старинные развалины оказывалась недоступными для русских художников, поскольку они путешествовали вокр уг острова на лодке с нанятыми ими «четырьмя дюжими гребцами». «Залив замыкается к западу высокой горой, на которой видны развалины так называемого города Одиссеи — местоположение, истинно достойное владычествовать над всем островом. Вид с этой вершины должен обнимать, с одной стороны, Кефалонию, с другой — берег Акарнии; с самого моря приметны развалины и между ними можно заметить стену, составленную, как мне рассказывали, из огромнейших камней (вероятно, циклопских) и, без сомнения, принадлежавших к временам хитрого Улисса»19 — так описывает Давыдов один из дальних уголков Итаки.
Нам, путешествовавшим по дорогам Итаки на автобусе, до вершины горы, с ее живописными руинами, было гораздо ближе, но и мы не смогли добраться до них, ибо время близилось к закату солнца. Вечером, вернувшись в городок Вати, мы стали готовиться к отходу. Нас провожали наши новые друзья, а также многие зеваки, фланировавшие по набережной. А вот как расставались с Итакой русские живописцы более 150 лет тому назад: «Около полусотни или более зрителей собралось на берегу (в Вати. — Авт.): так велико было удивление, произведенное на их острове приездом русского путешественника, — вспоминал В. Давыдов. — Говорят, что в прошедшую Пасху военное судно, под русским флагом, бросило якорь близ одного из здешних островов и что вид флага с андреевским крестом так понравился жителям, что они плавали до корабля, касались его и кричали матросам „Христос воскресе!“»20.
Итака — это не только остров, воспетый Гомером, но и символ верности родине, — ведь Одиссей всегда хранил в сердце Итаку на своем долгом пути к родным берегам. Греческий поэт Константин Кавафис, родившийся в 186З году за пределами Эллады, никогда не бывал на Итаке, но он сумел хорошо выразить те чувства, которые обуревали и наших мореходов при pacставании с этим островом:
Но только об Итаке всегда думай.
Возвращенье на Итаку — твое предназначенье,
Хотя и спешить в дороге не надо,
Пусть путешествие длится годы.
Чтобы причалил ты к острову мудрым старцем.
Обогатив странствиями душу,
Не ожидая, что Итака даст богатства.
Итака и без того дала тебе немного:
Не будь ее, ты б не отправился в дорогу,
Но больше ей тебя одарить нечем.
И пусть бедна будет Итака, но она не обманула,
Став мудрым, накопив опыт,
Сам ты поймешь, что Итаки значат21.
Превеза (Никополь)
На рассвете 13 августа паломники, отчалившие накануне вечером от гостеприимной Итаки, увидели почти родные пейзажи: остров Лефкас, почти «вплотную» примыкающий к материковой части Греции, образовал в узком месте что-то вроде реки, русло которой постоянно углубляет землечерпалка. Характерный скрежет ковшей, небритые лица рабочих, пойменные луга — все это напомнило многим паломникам пейзаж средней полосы России.
Пройдя под подъемным мостом, ладьи на некоторое время вышли в открытое море, но вскоре пришвартовались у набережной города Превеза, расположенного на берегу «матерой» Эллады. Здесь нам предстояло посетить развалины древнего Никополя, но судьба распорядилась по-иному. Остатки строений византийского города находятся в шести километрах от Превезы, близ шоссе, идущего в глубь страны. Паломники, отправившиеся пешком к этим руинам, увлеченно смотрели на открывавшуюся перед ними панораму. Один из них, Сергей Кочнев (петрозаводчанин), настолько увлекся, что не заметил, как оказался на проезжей части, где и был сбит машиной, следовавшей со скоростью 120 километров в час.
К чести водителя, а им оказался молодой военнослужащий, спешивший из увольнения в свою часть, машина сразу же затормозила, и Сергей быстро был доставлен в ближайший госпиталь. Сопровождавшие его паломники последовали за ним; к счастью, ушибы оказались не столь тяжелыми, как мы опасались: переломов не было. На той же машине пострадавший прибыл на борт «Веры» и был помещен на лежанку из весел таким образом, что его нога оказалась высоко в воздухе в подвешенном состоянии. Теперь он мог не спеша, философски взирать на ту праздничную суету, которая царила на набережной. О вторичной попытке посетить Никополь пришлось забыть, хотя грек-солдат, торопившийся в казарму, тут же поехал в прежнем направлении с прежней скоростью. Уже потом, при знакомстве с описаниями Греции, составленными нашими предшественниками, в глаза бросилась фраза, которая просится в строку: «Мне никогда не приходилось видеть более распушенных солдат, чем греческих, — писал в 1880-х годах Михаил Верн. — Они напоминают собой скорее каких-то замаскированных бандитов, чем солдат регулярной армии; и, что всего страннее — это свобода, которая им предоставлена: никаких сборов у греков не существует, и каждый возвращается в казармы по своему усмотрению»22. Можно надеяться, что, как и в ХIХ веке, эти строки не явятся причиной дипломатических осложнений...
Остров Корфу
В ночь с 13 на 14 августа паломническая флотилия без существенных потерь, если не считать одного пилигрима, временно выбывшего из строя, снялась на Корфу (Керкиру) — последний из крупных островов, входящих в гряду Ионического архипелага. Мы следовали путем, «нахоженным» русскими паломниками, и находились примерно в тех же условиях: «От Идры до Корфу путь продолжался без малого 4 недели с крайней нуждою и с величайшим беспокойством, по причине плохого и тесного судна»23, — писал Кир Бронников в 1820 году.
А без малого за сто лет до Кира Бронникова на Корфу побывал Василий Григорович Барский, который подробно описал морскую часть пути до этого острова: «Апреля осмаго числа (1725 год. — А. А.), возвеявшу зело малу ветру благополучну, извлекохом котвицу (ладью. — А. А.) от воды и начахом плисти. Но по малем времени паки воста ветр противен, обаче не тако силен, яко вчера, корабль же не преставаше от плавания, но якоже можаше сопротивляшеся. Таже сотворися тишина велия и не можаше плисти корабль: мы же печаловахом, яко гладны бихом и не имехом отнюдь ничесо ясти. Молихом Владыку и Бога, да поне во вечер ко граду прибити возможем, но никакоже, носими бо бехом сюду и сюду пред оним въездом, помежу горами сопротивляющеся ветру, но не могохом»24.
К берегам Корфу наши ладьи начали приближаться утром 14 августа. Когда-то здесь была столица Ионических островов, находившихся под управлением Российской империи, и русские флотоводцы располагали на этом острове свои парусные эскадры; а с 1814-го по 1864 год остров находился под британским протекторатом.
Незадолго до передачи острова Греции здесь побывал известный русский деятель, участник Бородинского сражения Авраам Сергеевич Норов (1795–1869), одно время занимавший пост министра народного просвещения (1854–1857). Вот какая панорама предстала перед ним при подходе к острову: «Только что мы обогнули южную оконечность Корфу, как он развернулся перед нами во всей своей роскоши, одетый тенистыми рощами, с светлыми заливами, с пирамидальными высотами, из которых вдруг одна выступила из его средины с живописным укреплением, царственно обороняющим две прекрасные гавани с той и другой стороны. Флаг Англии развевался на крепости, но это была Греция и я узнал ее!»25
Вот еще одно описание панорамы Корфу времен английского правления; оно относится к 1859 году и принадлежит перу безымянного русского паломника: «Остров кажется с моря огромным, и его покатости усеяны оливковыми садами, между которыми возвышаются кипарисы... Древняя цитадель генуэзской постройки возвышается над городом, но окружена укреплениями новейшей постройки; они хорошо вооружены и составляют действительную оборону острова и силу англичан, завладевших Ионическими островами под предлогом покровительства»26.
Проследовав мимо старинных крепостных сооружений, мы миновали затем пассажирский порт с его терминалами, у которых были пришвартованы белоснежные морские паромы. Остров Корфу стоит на перекрестке морских путей: отсюда регулярно уходят лайнеры в материковые города Греции; экспрессная линия обслуживает порты Ионических островов; путь с Корфу пролегает и в портовые города Италии: Бриндизи, Бари и др.
Паломнические ладьи пришвартовались у пристани, где стояло уже множество яхт и рыбацких судов. Быть может, именно здесь в 1820 году ступил на берег Кир Бронников. Тогда ситуация для паломников была неподходящая: именно в то время начиналась борьба греков против турецкого господства, и многие эллины бежали от турок под защиту английского флота. «Прибывши в Корфу, — пишет Кир Бронников, — остановились мы под городом неподалеку от пристани, где в то время стояло довольное число малых судов с бежавшими от страха греками, их женами и малыми детьми, а на стороне матерой земли в всю ту ночь во всех местах пылали греческие деревни, от злости зажигаемые и опустошаемые турками»27.
Во время нашего пребывания на острове у местных властей была другая проблема: все еще продолжалось массовое бегство албанцев в Грецию и Италию; молодые люди, уставшие от безысходной жизни в своей стране «социалистического выбора», отправлялись в море на утлых суденышках и, невзирая на опасность плавания по бурным водам, устремлялись на поиски счастья к чужим берегам. Поэтому и полицейский контроль на Корфу был в те дни особенно строгим, что2 нaм пришлось испытать на собственном опыте. Узнав, что мы из России, береговые власти успокоились, но на всякий случай осмотрели наши ладьи: не прячутся ли на них албанские беженцы.
Нашим предшественникам не приходилось сталкиваться с проблемами, порожденными тоталитаризмом — «чумой ХХ века», но они имели дело с реальной чумой и другими эпидемиями. Паспортный контроль на Корфу в начале XIX века был своеобразным: »Паспорты наши от нас приняли клещами, и, окурив их, записали и приложили магистратскую печать, и господин консул приложил свою печать и рукописание, — сообщал в 1820 году Кир Бронников. — Английское правительство взяло с каждого из нас по полуталеру, и паспорты наши возвратило 28-го дня уже закопченые»28.
Все же современная цивилизация имеет свои преимущества: нам не пришлось ни находиться в карантине, ни наблюдать горящих домов, «зажженных от турок». Вечером столица острова — город Керкира — был украшен праздничными огнями, а над ближайшей крепостью в темноте был виден силуэт высокой колокольни, очерченный гирляндой из множества электрических лампочек.
У мощей св. Спиридона Тримифунтского
Русские паломники, прибывавшие на Корфу, стремились, как и на других греческих островах, посетить местные православные святыни. Вот что писал В. Г. Барский о своем посещении этого острова в 1725 году: »Зело рано, возвеявшу ветру малу, точию помощну, извлекохом котвицу от воды и пустихомся к граду, и Божиим изволением приплыхом о полудны, идеже вергше котвицу под градом, отставихом корабль и вещи своя на нем, сами же идохом внутрь града к церкви первоначальной святаго великаго угодника Божия и чудотворца Спиридона, в ней же и мощи его святии опочивают, желающе ему должное от нас воздати поклонение»29.
Но не каждый из русских паломников, добиравшихся до Корфу, мог посетить храм, где находились мощи св. Спиридона, епископа Тримифунтского (сконч. в 348 году). «Город Корфу знатной, с двумя крепостями, старою и новою, со многими по холмам вокруг города батареями. Церквей много; в одной из них почивают мощи святителя Спиридона Тримифунтского, — писал Кир Бронников в 1820 году. — Желательно мне было поклониться угоднику Божию, но должно было выдержать 26-дневный карантин, а потомy сделать того я не удостоился»30.
То, что не удалось совершить Киру Бронникову в годы английского правления на Корфу, смог сделать его предшественник — В. Г. Барский в 1725 году. В те годы остров входил в «сферу интересов» Венеции (1386–1797), и условия посещения его берегов были гораздо проще, чем при англичанах. Но и киевскому пешеходцу пришлось ожидать долгое время у дверей храма, названного в честь св. Спиридона: «Егда же достигохом тамо, обретохом церковь затворенну, бысть бо тогда полудне, и ожидахом во притворе, донележе отверзут врата на вечерню»31.
Что же побуждало наших паломников стремиться к мощам св. Спиридона, прославленного Элладской церковью? По сказанию в греческом Часослове, мощи св. Спиридона были перенесены из Тримифунта (Кипр) в Константинополь около середины VII века, из-за нашествия на Кипр арабских войск. Спасаясь от «агарян», тримифунтцы бежали с мощами св. Спиридона в Константинополь. Здесь эти мощи сохранялись в храме Св. Апостолов до падения Константинополя в 1453 году, а затем были увезены иереем Георгием Калохеретом сначала в Сербию, а потом на остров Корфу в 1460 году.
В константинопольском храме Св. Апостолов эту святыню видели русские паломники Стефан Новгородец и Зосима, посетившие Константинополь до завоевания его турками32. А в 1725 году, едва ли не в числе первых отечественных паломников, В. Г. Барский смог поклониться святым мощам уже на остров Корфу. В начале ХVIII века доступ к мощам св. Спиридона был ограничен, и киевский пилигрим сообщает об этом в своем путевом дневнике. «Мы же пребывахом в келии, церкви святого Спиридона пристоящей, точию о едином печаловахом до зела, яко не ускорихом прийти на оное время, когда св. чудотворца Спиридона открывают, и не видехом. Молихом же многих великородных панов, ктиторей церкви и самого протопопа, да соберут ключи и покажут нам: понеже суть ключей 4 и всяк во разних держится руках. Аще же сие дело и трудно есть, понеже никому же не показуют, кроме уреченаго времени»33.
Но все же благодаря долготерпению В. Г. Барский со своим спутником был удостоен посещения мощей; в данном случае греки сделали исключение для православных гостей, «понеже любими бихом ими, яко от стран российских есми, того ради обещаху вси»34. Посещение мощей св. Спиридона состоялось лишь через несколько дней, и поскольку оно было сопряжено с «препятием велиим», В. Г. Барский подробно описывает свои впечатления, как бы адресуя эти строки тем пилигримам, которые не смогут долго пробыть на острове и поклониться святыне. И хотя сегодня доступ к мощам св. Спиридона облегчен, сообщение В. Г. Барского не утратило интереса, но со временем его историческая ценность только возросла.
«По неколицех днех, собравши протопоп вся ключи к себе и в некий день, по святой литургии, возвавши нас внутрь алтаря и затвори вся двери, — пишет В. Г. Барский, — таже поведе нас на правую страну святого алтаря, идеже опочивают мощи святого и отверзе все четири замки, имиже заключен бяше гроб его, в нем же другой еще, от камене изсечен, бяше внутрь того еще третья рака, от древа кипариса соделанна, покров же oт таблици чистой, христальной, ей же мала часть, в ногах святого, отверзается, лобызания ради. Тамо аз грешный сподобихся, купно со честным отцем Рувимом, спутником моим, приложитися ногам святого, и видехом сквозе оную таблицу всего его до найменшой вещи, со одеждею, на главе своей имеет подкапок и клобук, яже еще в житии своем ношаше, и одеян в сакос старинний, крестами истканний, ноги же оболченни в мягкие зело сандалия; во всем нетленен, телом и одеждою, опочивает, аки живый. Еще же протопоп сам подиймоваше ризи святого, и показоваше голени его; и лобызахом и видехом тело его бело и чисто, и мацахом, и мягко, аки живое. И поведа нам сам протопоп, яко все таковое тело, токмо тварь и рука лева черни суть, правой же несть и не ведают где, тако бо и в Корфус прийде»35.
Из дальнейшего повествования В. Г. Барского становится понятным, почему в те годы греки обставляли поклонение мощам св. Спиридона чрезмерными строгостями: причина была совсем не в том, что православные христиане жили на Корфу под управлением венецианцев-католиков или опасались внезапного турецкого нашествия. Послушаем, что сообщает В. Г. Барский по этому поводу: «Вопрошах аз, чесо ради тварь и рука черна суть? Ответствова ми, яко преждними временами не бяше тако затворен, яко ныне, но стояше на ногах в раце своей, поставлен между наместными образами в церкви, и приношаху людие ладан, смирну и ливан и вжигаху, аки пред образом, свещи и лампади, и тако от непрестанного, деннаго и нощнаго курения и палении лампад горения учернися тварь и рука. Видящи убо началницы непочесть такову, от того часа затвориша и не откривают более, токмо дважди или трижди в год»36.
Таким образом, повреждение мощей произошло из-за простого небрежения а не «от латинян» или «агарян». Более того, в последний период венецианского правления на Корфу бытовала веротерпимость, поскольку в течение столетий православные и католики должны были жить бок о бок на относительно небольшом острове. Это не преминул отметить и киевский пешеходец, поскольку на Украине имелись сходные проблемы. По словам Барского, на острове Корфу «суть и итальянских костелов много, обаче тамо италеане не суть тако противние, яко в инных странах, ибо понеже болшое многолюдствие и болшая власть греческая есть, того ради, слишах, яко и от папы римского, лучшей ради зъгоди, имеют позволение вкупе свята великие праздновати, якоже и празднуют»37.
Особый период в истории храма, где почивали мощи св. Спиридона, связан с борьбой ряда европейских держав за влияние на Средиземноморье. В 1798 году остров Корфу, как и другие Ионические острова, был занят французскими войсками, которые изгнали отсюда венецианцев. Но их правление продолжалось недолго, и население Ионических островов жаждало ухода французов. В октябре 1798 года священник А. Дармарос тайно доставил на остров Корфу пocлание патриарха Константинопольского Григория V (1797–1798, 1806–1808, 1818–1821), и вскоре народ поднялся против французских властей на помощь русским войскам.
В 1799 году, когда А. В. Суворов освободил от французских войск Италию, вице-адмирал Ф. Ф. Ушаков, командуя соединенным российским и турецким флотом, покорил остров Корфу. 22 февраля 1799 года французский гарнизон Корфу капитулировал. За эту блестящую победу Ф. Ф. Ушаков получил чин адмирала. Когда Суворов получил известие о взятии Корфу, он сказал: «Сожалею, что не был при этом хотя бы мичманом»38. «Французские флаги на крепостях и судах были спущены, а неприступная Корфу узрела в первый раз на стенах своих победоносный флаг российской империи»39, — писал один из русских историков в XIX веке.
Вечером главнокомандующий, в сопровождении командиров российских кораблей, отправился на берег, в церковь св. чудотворца Спиридона для совершения благодарственного молебна за дарованную победу. «Победители, окруженные народом, с шествующими впереди крестами при колокольном звоне и беспрерывной ружейной пальбе жителей, дошли до соборной церкви Св. Спиридония, где и происходило богослужение, — вспоминал один из участников этого торжества. — Молебствие совершил протоиерей здешний. Нельзя было взирать без умиления на два народа, столь друг от друга отдаленные и соединившиеся по чрезвычайным политическим переворотам в одной церкви, для прославления одним и тем же крестом Всевышнего, даровавшего одному победу, а другому освобождение от чужестранного несносного ига»40.
Прием, оказанный Ф. Ф. Ушакову простыми верующими, был самый радушный. Русские матросы, «не зная греческого языка, довольствовались кланяться на все стороны и повторяли: „Здравствуете, православные!“ — на что греки отвечали громким „ура!“, — пишет тот же автор. — Тут всякий мог удостовериться, что ничто так не сближает два народа, как вера, и что ни отдаленность, ни время, ни обстоятельства не расторгнут никогда братских уз, существующих между русскими и единоверцами их»41.
Радость жителей острова Корфу была вполне понятной — ведь Россия издавна покровительствовала православным христианам, жившим под иноверной и инославной властью. И хотя, посылая французские войска на Ионические острова, Наполеон Бонапарт приказал генералу Жантили относиться к православному духовенству с уважением, и тот старался выполнить приказ, но фактически на каждом шагу французские власти задевали религиозные чувства ионических греков: в храмах расквартировывали солдат, колокольный звон запретили, со священниками обращались грубо, над иконами смеялись42. Это делали отнюдь не набожные католики-французы, но вольнодумцы, увлеченные идеями Вольтера и других «просветителей». Сказывалось также и влияние французской революции 1789 года, носившей антицерковный характер.
Освободив Корфу от французов, Ф. Ф. Ушаков проявил особое уважение к религиозным чувствам православных жителей острова, в частности, к памяти св. Спиридона. Как уже было сказано, св. Спиридон считается покровителем Ионических островов, в особенности после отражения атаки турецких войск в 1716 году. Поэтому ежегодно 12 декабря, в честь св. Спиридона, в городе Корфу проводились празднества. Открытые мощи, поставленные на ноги, в золотом кивоте, при пальбе с крепостных пушек и с судов, обносились вокруг города. Церковь Св. Спиридона считалась богатейшей на Востоке, и не только греки, но и католики присылали в нее пожертвования; там были огромные золотые и серебряные паникадила, принесенные в дар Венецианской республикой, было много драгоценных вкладов императрицы Екатерины II и императора Павла I43.
И вот 27 марта 1799 года, в первый день Пасхи, адмирал Ушаков назначил большое торжество, пригласив духовенство совершить крестный ход с выносом мощей св. Спиридона. О том, как проходило это празднество, сообщает биограф Ушакова — Р. Скаловский: «В избранный адмиралом день, 7 мapта, народ собрался со всех деревень и ближайших островов; русские войска были расставлены по обеим сторонам пути, по которому должна была идти процессия, и часть их расположилась на главной площади; гробницу и балдахин поддерживали наши генералы, штаб- и обер-офицеры и первые лица города; ее обнесли вокруг крепостных строений, и в это время из всех крепостей производилась пальба; войско стреляло беглым огнем из ружей. Ввечеру весь город был иллюминован, и народ беспрерывно восклицал: «Виват! Государь наш избавитель Павел Петрович!»44
Предоставив жителям Ионических островов права широкого самоуправления, Россия содействовала образованию нового государства. 12 (24) января 1801 года на Корфу с почестями был снят флаг России, а 13 (25) января состоялась торжественная церемония поднятия Ионического флага. Стоявшие на рейде Корфу русская и турецкая эскадры отдали салют в честь флага республики. Но тем не менее в том же 1801 году кафедральный собор и мощи св. Спиридона были приняты под особое покровительство России, в знак чего над западными вратами был поставлен императорский герб; такой же герб находился над местом, где, как победитель, восседал адмирал Ушаков; перед гербами беспрестанно теплились лампады45.
И по-прежнему русские моряки отдавали дань памяти св. Спиридона, особенно в праздничные дни. Так, 25 марта 1805 года в городе Корфу можно было наблюдать живописное зрелище, о котором повествует его очевидец — морской офицер Г. М. Мельников, участвовавший в плавании на корабле «Уриил». «В 12 часов сего же утра по выносе мощей Св. Спиридония из городской церкви, во имя его построенного, все сухопутные, находящиеся в Корфу войска стояли в параде, а из пушек полевой артиллерии сделан был 31 выстрел, — пишет русский мореход. — Во время же прохождения сей процессии (в которой участвовало все здешнее духовенство) около городовой стены вдоль по морскому берегу идущей, со всех кораблей и прочих российских военных судов, на рейде находившихся, выпалено было последовательно, соображаясь со старшинством их командиров, по 21 из каждой пушки, и на всех оных судах в сие время стояли по реям люди; это торжество в половине 1-го часа пополудни заключено было салютом, из 11-й пушки с Корфуской крепости сделанным. Итак, по обнесении мощей сего угодника Божия с такой церемонией кругом города, внесены они были вцерковь Св. Спиридония»46.
В течение всего «русского периода» истории на Ионических островах наши мореходы неоднократно бывали у мощей св. Спиридона. В 1806–1807 годах во время очередной кампании на Средиземном море остров Корфу посетила эскадра под командованием Дмитрия Николаевича Сенявина (1763–1831). Некоторые из участников этого плавания вели дневники, где отмечали наиболее важные события. Вот что писал, например, о Корфу в 1806 году морской офицер Павел Иванович Панафидин (1784–1869): «Народонаселение Корфу состоит из итальянцев и греков, и здесь терпима католическая религия, но преимущество берет греческая. Здесь находятся мощи святого Спиридония Тримифунского: из отдаленных стран Греции являются на поклонение угоднику Божию, и редко греческий корабль пройдет остров, чтобы не побывать у мощей святого. Один раз в году — 12 декабря — носят открытые мощи по всему городу, и католики также участвуют в процессии; святого носят в стеклянном ящике, сидячего, а в остальное время он покоится в обыкновенном виде»47.
О почитании св. Спиридона на острове Корфу сообщает и другой русский офицер — Владимир Броневский, участвовавший в длительном переходе из Кронштадта на Корфу. «Церковь Св. Спиридония почитается богатейшею на Востоке, ибо не только греки, но и католики присылают в нее вклады; ни один мореходец, ни один земледелец, не пускается в море, не предпринимает никакого дела, не помолившись мощам и не принесши чего-либо в дар, — писал В. Броневский в 1806 году. — 12 декабря в честь Св. Спиридония, как покровителя Корфы, бывает великое торжество. Открытые мощи, поставленные на ногах, в золотом кивоте, при громе артиллерии с кораблей и крепостей, носятся вокруг города»48.
Новые, более подробные сведения о праздновании памяти св. Спиридона на Корфу, содержатся в записках Павла Свиньина, также участвовавшего в Средиземноморской кампании 1806–1807 годов. «Праздник Св. Спиридония, торжествуемый 12 декабря, есть самый великолепнейший христианский праздник на Востоке. Он отправляется 8 дней, и ко времени сему сходятся греки со всех островов. Мощи в сопровождении сената, воинства и бесчисленного народа обносятся вокруг города; крепости приветствуют их беспрестанной пальбой из пушек, военные и купеческие суда также салютуют и после убираются разноцветными флагами. Но что всего трогательнее, это теплая вера больных, которых несут в то время на носилках пред мощами; да и во всякое время в церкви Св. Спиридония можно найти страждущих недугами, испрашивающими у угодника себе исцеления»49, — повествует русский писатель, добавляя при этом, что «храм сей и мощи Св. Спиридония находятся под особенным покровительством России, в знак коего испрошен в 1801 году императорский герб»50.
В своих записках П. Свиньин отмечает также, что русским морякам на острове Корфу был оказан теплый прием; адмиралу Сенявину отцы города преподнесли золотую шпагу и бриллиантовый жезл — «в знак благодарности и высокопочитания всего народа.., да сделает честь жителям 7 островов препоясанием шпаги и ношением трости»51. Но ранее, сразу же по прибытии на Корфу, как повествует П. Свиньин, был отслужен благодарственный молебен Спасителю, «под благодатною десницею Коего мы совершили плавание сие с необыкновенным счастием; на целой эскадре не было ни одного умершего или ушибленного и весьма мало больных, не разорвало ни одного паруса, не порвалась ни одна веревочка, согласие и тишина ничем не нарушалась»52. Сойдя на берег, русские мореходы, как и в 1799 году, направились в храм, где почивают мощи св. Спиридона. «Сколько по чувствам веры, не менее и по особенному благоговению, которое питают здешние жители и все греки, даже латинцы и мусульмане к Св. Спиридонию, одним из первых дел моих было — идти поклониться мощам сего угодника, почивающим в церкви его имени»53, — пишет Павел Свиньин.
Посетил эту церковь и Владимир Броневский, после чего в его дневнике появились такие строки: «Церковь Св. Спиридония, в коей лежат мощи сего святого, заслуживает особенное внимание. Иконостас украшен старинными образами. Посреди церкви висит золотое, а по сторонам огромные серебряные паникадила; последние два принесены в дар от Венецианской республики. По обе стороны церкви сделаны род высоких кресел, в которых не сидишь, а весьма покойно прислониться можно. В Греции и у всех славянских поколений они предпочтительно уступаются старцам»54.
Но все же трудно было морскому офицеру Владимиру Броневскому соперничать на литературном поприще с Павлом Свиньиным. Ведь Свиньин стал профессиональным журналистом; в 1818–1823 годах издавал «Отечественные записки»; его перу принадлежит ряд книг о разных городах и странах. Итак, снова предоставим слово Павлу Петровичу, повествующему о храме Св. Спиридона.
«Храм сей есть один из великолепнейших на Востоке греческих церквей, — продолжает П. Свиньин. — Не только всякий грек, принимающий на себя какое-нибудь важное предприятие, но земледелец, готовящийся собирать плоды, купец, выписывающий товары, мореходец, отправляющийся в море, или пришедший благополучно в порт, мастеровой, принимающийся за новую работу или оканчивающий ее, словом все почитают обязанностью испрашивать благословение от Св. Спиридония и благодарить его посильным приношением. Во время государственных несчастий все прибегают с доверенностью к святым мощам и ожидают от них единственно своего спасения. Корфиоты веруют, что его предстательству обязаны они отступлением Солимана, осаждавшего Kopфy с величайшим усилием. Кажется и сам султан был сего мнения, ибо, по возвращении в Константинополь, он тотчас прислал драгоценное золотое паникадило, богатейшее между сокровищами сего храма, и сверх того — назначил достаточную сумму для того, чтобы беспрерывно оно горело пред угодником. С тех пор турка, в опасности, обещается идти в Мекку и послать подарки Св. Спиридонию. Рака лита из серебра: в нее полагается другой ящик из чистого золота, украшенный разными драгоценными каменьями, в коем почивают мощи... Кроме видимых сокровищ, к мощам Св. Спиридония принадлежат многие земли и сады, отказанные богобоязливыми христианами»55.
За те несколько лет, что русский флот стоял в гавани Корфу, многие греки успели подружиться с русскими единоверцами. «Корфа справедливо почиталась столицею наших приобретений на Средиземном море, — писал В. Броневский. — Она походила более на русскую колонию, нежели на греческий город: везде видишь и встречаешь русских. Жители привыкли к нашим oбычaям, многие даже научились говорить по-русски, а мальчишки даже пели русские песни»56.
Но мощь российского флота в Средиземноморье отнюдь не была решающей, поскольку царскомy правительству приходилось учитывать общую расстановку сил на европейском континенте. Наполеоновские войска угрожали европейским государствам, и в результате сложных дипломатических переговоров в 1807 году Наполеон и Александр I подписали Тильзитский договор, согласно одному из условий которого Ионические острова снова должны были перейти под власть Франции. Таким образом, была сделана попытка «замирить» Наполеона; российский флот должен был покинуть Корфу и другие острова Ионической гряды. Вторая секретная статья Тильзитского договора гласила: «7 островов поступят в полную собственность и обладание его величества императора Наполеона»57.
7 (19) августа на остров Корфу вступил французский главнокомандующий Бертье со своими войсками численностью пятнадцать тысяч человек. Жители встретили французских солдат без особого энтузиазма. «Генерал Бертье встречен был с колокольным звоном (весьма скоро кончившимся) и освещением, состоявшим из нескольких плошек»58, — писал Павел Свиньин, очевидец этого события. 14 августа французы заняли крепости и город, а 22 августа, как сообщал Владимир Броневский, «кончились все надежды жителей: на крепости поднят трехцветный флаг и республика объявлена принадлежащей Франции»59.
А вскоре церковь Св. Спиридона снова оказалась в центре событий. 15 августа, в день именин Наполеона, Бертье со свитой военачальников вошел в церковь Св. Спиридона, где русские офицеры присутствовали за богослужением. Владимир Броневский пишет, что Бертье прибыл в храм «с музыкантами и барабанщиками; однако же заметил удивление, написанное на наших лицах, догадался, приказал музыкантам выйти, а гренадерам снять шапки»60. И это не было случайным эпизодом; за то время, пока русские моряки готовились к эвакуации с Корфу, французский главнокомандующий уже сумел вызвать неприязнь у православных жителей острова. «Корфиотам весьма не нравится, что Бертье ходит молиться в церковь с часовыми, кои стоят там с ружьем и в шапках»61, — сообщал П. Свиньин.
К этому следует добавить, что прихожане избегали появляться в храме в такие часы и предпочитали не выходить из домов. А что касается отношения к православным русским морякам, то оно было совершенно иным. По словам В. Броневского, имевшего возможность сравнить празднование двух юбилеев — Наполеона и Александра I, «день тезоименитства нашего императора был днем самого блистательного торжества. С утра все церкви были наполнены народом, во весь день продолжался колокольный звон… беспрестанно на улицах раздавалось: да здравствует Александр, да здравствуют русские!»62
Но, как бы то ни было, русские моряки должны были покинуть остров Корфу, и вот этот день настал. 4 сентября 1807 года «адмирал (Сенявин. — Авт.) пошел поклониться в последний раз благодетельствовавшим нам мощам Св. Спиридония»63, — записал в этот день П. Свиньин. Более подробное описание этого события находим в записках В. Броневского, и опять оно связано с храмом, где почивали чудотворные мощи. «Когда войска остановились у церкви Св. Спиридония для принятия благословения в путь, духовенство от всех церквей в черном облачении вышло с крестами и святой водой, — повествует В. Броневский. — Протопоп, подав хлеб и соль генералу Назимову, начал речь, но зарыдал слезами и не мог продолжать. Ударили в барабаны, войска тронулись и пошли к пристани. Не только улицы, площадь, но и все окна, крыши домов покрыты были народом; с балконов сыпались на солдат цветы. Иногда печальное молчание прерывалось гласом признательности и благодарности. Я в первый раз увидел и поверил, что корфиоты имели причину любить русских; они подлинно без нас остались сиротами»64.
С этого времени покровительство России храму и мощам св. Спиридона стало лишь символическим, и русские моряки, еще остававшиеся в городе, могли участвовать в церковных празднествах, связанных с этим храмом, в качестве простых богомольцев. Нотки грусти чувствуются в рассказе Г. М. Мельникова, чей корабль «Уриил» все еще стоял в гавани Корфу. В своем дневнике под 2 ноября 1807 года он пишет: «В продолжение утра мощи Св. Спиридония, находящиеся в церкви, во имя его построенной, были выносимы из оной для обхода с ними кругом главной площади в здешнем городе находящейся, и также по улицам, означенную церковь окружающим; при каковой все находящиеся здесь французские сухопутные войска, выстроясь на упомянутой площади, были в полном параде, а фрегат их и шлюп для расцветения подняли все флаги и между тем, во время прохождения упомянутой процессии через площадь, салютовано было с крепости 21-м, а с командорского французского фрегата 11-ю выстрелами из пушек; также в это время на колокольне Св. Спиридония поднимаем был французский флаг»65.
Как известно, Франция владела Ионическими островами по 1814 год. Позднее Ионическими островами фактически владела Великобритания, державшая там своего Bepxовнoгo комиссара до 1864 года, когда острова были воссоединены с Грецией. Многие русские паломники побывали на Корфу в «английский» период истории Ионических островов. Вот что писал один из них в 1859 году по поводу британской администрации острова: «Наш проводник (на Корфу. — Авт.) долго не хотел с нами говорить об их управлении и только узнав, что мы русские и когда мы отпустили кучера, начал жаловаться на англичан и на губернаторов, притесняющих жителей и требующих увеличенных податей на содержание ненавистных солдат», — сообщает русский автор, добавляя при этом, что «насильственное покровительство англичан обходится ионитянам, с содержанием английского войска, до 60 тысяч фунтов стерлингов, тогда как покровительство России и Франции не требовало никаких особых налогов»66.
Но тем не менее посещение мощей св. Спиридона было традиционным, и когда в 1845 году на Корфу проездом из Рима в Святую землю побывал Николай Владимирович Адлерберг (будущий генерал-губернатор Финляндии (1866–1881), то он со своими спутниками направился прямо в храм Св. Спиридона. «Мы отслужили православный молебен в старинной греческой церкви, где на стенах видны еще изображения российского двуглавого орла — остатки благодетельного нашего покровительства Корфу до заключения Тильзитского мира, в 1807 году»67, — писал Адлерберг.
У мощей св. Спиридона молился и начальник русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Порфирий (Успенский), побывавший на Корфу в 1854 году. Вот что он сообщает об этом острове: «В главный город его, укрепленный фортами, я ездил с парохода, дабы видеть там нетленные мощи Св. Спиридона Тримифунтского чудотворца и приложиться к ним благоговейно»68.
С того времени, когда у гробницы святителя побывал В. Г. Барский, прошло более ста лет, и многое изменилось на острове за эти годы. Но время не коснулось мощей св. Спиридона; «они нетленно почивали в правом отделении алтаря церкви, называемой его именем. Все тело сего великого угодника Божия цело так, что даже глаза, к общему удивлению, не вытекли и сохранили тусклый блеск; нос немного приплюснут, кожа на лице смугла, но не черна; на ногах же, ниже колен, она отстает от костей, — пишет отец Порфирий. — Я приподнимал ее тут. Нетленный святитель лежит в простой раке, облаченный»69.
Примечательно, что незадолго до своей поездки по святым местам Востока архимандрит Порфирий, будучи в январе 1852 года в Киево-Никольском монастыре, перевел с греческого языка акафист, посвященный св. Спиридону. И вот, стоя у гробницы святого, русский архимандрит вспоминал строки, прославляющие молитвенные подвиги греческого угодника Божия: «Он есть святый чертог Святыя Троицы; он имеет в себе величие Божие это — новый Мельхиседек, священнодействующий вместе с ангелами. Это благоуханный цвет иереев и образец жития архиереев. Это утренняя звезда, предуказующая Солнце правды (Христа. — А. А.), и заря Православия. Это человек началоангельный, который послан посеять в земле свое богоприятное тело. Душа его, смирением своим привлекши обожение, восходит на небо и там служит предметом песнопения ангелов и псалмопения архангелов. А в богоприемном теле его совершается сочетание смерти и жизни — и проч. и прочее»70.
А еще через несколько лет у гробницы св. Спиридона молился другой русский паломник — А. С. Норов (1861). «Я поспешил в город поклониться мощам Св. Спиридона, которого здесь чествуют, как ангела хранителя моряков Адриатического прибрежья, и который святительствовал на острове Кипре в середине IV столетия, — писал бывший министр народного просвещения. — Церковь, где покоятся его мощи, великолепна. Мощи этого великого угодника Божия сохраняются во всей целости; черты блаженного лица его совершенно убереглись, и что всего удивительнее — члены его святого тела сохранили свою гибкость. Он покоится в богатой серебряной раке, под цельным стеклом, которое поднимается в известное время»71.
…Поспешили в храм Св. Спиридона и мы, недостойные. Эта церковь, без сомнения, самая величественная на острове. Она была построена в 1590 году на месте более древнего храма, посвященного памяти того же святителя. Соборная колокольня похожа на ту, что стоит при греческом храме Св. Георгия в Венеции. Интерьер храма расписан художником Панагиотисом Доксаросом в 1727 году. На фресках изображены чудеса, о которых повествуется в житии св. Спиридона. Храм украшен мраморным иконостасом; рака св. Спиридона (изготовленная в XIX веке по специальному заказу в Вене), по-прежнему находится справа от алтаря. По давней традиции, восходящей еще ко времени венецианского правления, мощи святителя четырежды в году обносят с крестным ходом вокруг города. Об этом благочестивом обычае сообщал и В. Г. Барский, которому, так же как и нам, не довелось присутствовать при подобном торжестве: «Слышах же сице, — пишет он, — яко егда откроют, взимают его (мощи. — А. А.) со ракою, священницы, облекшеся в фелоны, творят процессию, обходяще стогни града и носяще его, аки живаго, стоящего на своих ногах; таже, по окончании процессии, паки вносят в церковь и поставляют со ракою стояща между намесними образами, лобызания ради народа, и бывает отворен 7 или 8 дний. По окончании же времени, паки полагают внутрь гроба, по правой стороне алтаря стояща, и затворяют четирма замками, и разбирают началницы кийждо себе свой ключ врученний. Первий ключ держит губернатор града, вторий — судия, третий — протопоп, четвертий — наместник его»72.
В храме Св. Спиридона мы присутствовали за вечерним богослужением, после чего «благодарихом Бога всемогущего, яко по желанию нашему нам устрой, моляше, да и прочия святия сподобит посетити места»73.
В кафедральном соборе Керкиры сохраняются мощи праведной царицы Феодоры, перенесенные на Корфу из Константинополя вместе с мощами св.Спиридона. Следуя путями наших предшественников, мы также посетили место ее упокоения: «Видехом еще тамо, в другой церкви, иние нетленние мощи святой праведной Феодоры царицы, от нея же зело великое исходит благоухание»74.
Время нашего пребывания на острове Корфу неумолимо сокращалось, но все же некоторые паломники «тамо не точию внутрь града, но и вне ходихом». Маленький автобус, набитый туристами из разных стран, выехал за пределы столичной Керкиры и покатил через весь остров по долине, раскинувшейся между двух горных цепей. Перед нами еще раз предстала панорама города; издалека казалось, что почти не изменилось здесь со времен В. Г. Барского: «Град Корфус есть зело изряден, не тако лепотою и строением яко насаждением великим над водою, под горами; велик, на многи части разделен, многии высокия и крепкия каменныя ограды в себе содержащий, со многими пушки; еще же и тогда новые фортеции (крепости. — А. А.) созидаху; везде пресловутий, ово ветхостью и заложением еще при великом царе Константине (IV в. по Р. Х. — А. А.), ово же изобилием и благоплодием вина, оливи и прочих вещей»75.
Наш двадцатипятикилометровый путь лежал на другой конец острова, где на высоком обрывистом берегу виднелись стены древнего монастыря Палеокастрица, основанного в 1225 году. Взойдя по горному серпантину, мы оказались у монастырских ворот, предвкушая встречу с византийской стариной. Но от этого периода сохранились лишь иконы, помещенные в монастырском музейчике. Сама же обитель была построена практически заново на рубеже XVIII–XIX веков. Но и в своем обновленном виде монастырь сохраняет атмосферу древности с особыми чертами, присущими храмам и обителям на Корфу: «Церквей благочестивых имат много, яко пятьдесят, со монастирми, обаче не суть лепи отъвне, точию отъвнутрь; внутрь бо имеют прекрасное иконописание и строение лампадное, отъвне же не суть, аки в нашей России, церквы со главами и дивним расположением углов, но аки простие хати»76, — писал в 1725 году киевский пешеходец Барский.
…Надолго запомнятся паломникам последние часы пребывания на Корфу. Белоснежные паромы, сверкая огнями, пересекали бухту в ночной мгле; старинные крепости и церкви, подсвеченные лучами прожекторов, — таким нам запомнился этот кусочек островной Греции, которую паломники на ладьях покинули на следующее утро. Вверив свою судьбу воле Божией и покровительству св. Николая, мы, подобно апостолу Павлу, «вкораблились» и, подняв паруса, взяли курс на запад: «Решено было плыть нам в Италию» (Деян. 27, 1).
_________________
1 Гомер. Одиссея. Песнь 10-я. М., 1959. С. 125.
2 Всеволожский Н. С. Путешествие через Южную Россию, Крым и Одессу в Константинополь, Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Сицилию, Италию, Южную Францию и Париж в 1836 и 1837 годах. Т. 1. М., 1839. С. 345.
3 Письма морского офицера П. И. Панафидина (1806–1809). Пг., 1916. С. 48.
4 Иосиф II (с 1765 г. — император и соправитель Австрии; был другом и союзником Екатерины II. В 1781 г. дал свободу вероисповедания православным грекам, а также протестантам (сконч. в 1790 г.).
5 Леопольд II (сконч. в 1792 г.), бpaт Иосифа II; в 1791 г. возвратил туркам прежние австрийские завоевания.
6 Броневский В. Записки морского офицера в продолжении кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 год. Ч. 1. СПб., 1836. С. 116–117.
7 См.: Адмирал Ф. Ф. Документы. Т. II. М., 1952. С. 303.
8 Там же. С. 303.
9 Скаловский Р. Жизнь адмирала Ф. Ф. Ушакова. СПб., 1856. С. 339.
10 Ильинский В.П. Адмирал Ф. Ушаков в Средиземном море (1799). СПб., 1914. С. 59.
11 Записки Гидрографического департамента Морского министерства. 1850. Ч. 8. Статья: «Русско-турецкая кампания в Средиземном море...» С. 297.
12 Скаловский Р. Жизнь адмирала Ф.Ф. Ушакова. Ч. 1–2. СПб., 1856. С. 225.
13 Станиславская А. М. Россия и Греция в конце ХVIII — начала ХIХ вв. М., 1984. С. 281.
14 Воспоминания на флоте Павла Свиньина. Ч. 1. СПб., 1818. С. 256.
15 Путевые записки, веденные в 1835 г. Владимиром Давыдовым. Ч. 1. СПб., 1839. С. 38–39.
16 Тaм же. С. 40.
17 Там же. С. 1.
18 Там же. С. 42.
19 Там же. С. 41.
20 Там же. С. 45.
21 Цит. по: Дружинина А. А. Греция далекая и близкая. М., 1989. С. 93.
22 Верн Михаил. Прогулка по Средиземному морю. М., 1883. С. 248.
23 Путешествие... совершенное... Киром Бронниковым... С. 250.
24 Странствования Василия Григоровича Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 гг. СПб., 1885. Т. 1. С. 190.
25 Норов А. С. Записки второго путешествия на Восток. Иерусалим и Синай (в 1861 г.). СПб., 1878. С. 132.
26 Записки паломника (1859 г.). СПб., 1860. С. 26.
27 Путешествие... совершенное... Киром Бронниковым... С. 250.
28 Там же. С. 250–251.
29 Странствования В. Г. Барского... С. 190.
30 Путешествие... совершенное... Киром Бронниковым... С. 251.
31 Странствования В. Г. Барского... С. 190.
32 См.: Порфирий (Успенский), архим. Книга бытия моего. Т. V. СПб., 1898. С. 251.
33 Странствования В. Г. Барского... С. 192–193.
34 Там же. С. 193.
35 Там же. С. 193–194.
36 Там же. С. 194.
37 Там же. С. 194.
38 Висковатов А. Блокада и осада Корфу, 1798, 1799 гг. СПб., 1828. С. 40.
39 Там же. С. 38.
40 Записки флота капитан-лейтенанта Егора Метаксы (1798–1799). Пг., 1915. C. 220.
41 Там же. С. 220.
42 Станиславская А. М. Политическая деятельность Ф. Ф. Ушакова в Греции (1798–1800 гг.) М., 1983. С. 44.
43 Скаловский Р. Жизнь адмирала Ф. Ф. Ушакова. Ч. 1–2. СПб., 1856. С. 328.
44 Там же. С. 328 (примечание).
45 Броневский В. Записки морского офицера в продолжении кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 год. Ч. II. СПб., 1836. С. 86.
46 Мельников Г. М. Дневные морские записки. Ч. 1. СПб., 1872. С. 118.
47 Письма морского офицера П. И. Панафидина (1806–1809). Пг., 1916. С. 38.
48 Броневский В. Записки морского офицера в продолжении кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 год. Ч. II. СПб., 1837. С. 86–87.
49 Воспоминания на флоте Павла Свиньина. Ч. 1. СПб., 1818. С. 245–246.
50 Там же. С. 246.
51 Там же. С. 268–269.
52 Там же. С. 145. Запись от 1 января 1807 г.
53 Там же. С. 244.
54 Броневский В. Записки морского офицера в продолжении кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 год. Ч. II. СПб., 1837. С. 88.
55 Воспоминания на флоте Павла Свиньина. Ч. 1. СПб., 1818. С. 244–245.
56 Броневский В. Записки морского офицера... Ч. II. С. 255.
57 Станиславская А. М. Россия и Греция в конце ХVIII — начала ХIХ вв. М., 1984. С. 348.
58 Воспоминания на флоте Павла Свиньина. Ч. II. СПб., 1819. С. 227.
59 Броневский В. Записки морского офицера в продолжении кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 год. Ч. III. СПб., 1837. С. 183.
60 Там же. С. 183
61 Воспоминания на флоте Павла Свиньина. Ч. II. СПб., 1819. С. 230.
62 Броневский В. Записки морского офицера... Ч. III. СПб., 1837. С. 184.
63 Воспоминания на флоте Павла Свиньина. Ч. II. СПб., 1819. С. 233.
64 Броневский В. Записки морского офицера... Ч. III. СПб., 1837. С. 185–186.
65 Мельников Г. М. Дневные морские записки. Ч. II, СПб., 1873. С. 464–465.
66 Записки паломника (1859 г.). СПб., 1860. С. 28–29.
67 Адлерберг Н. В. Из Рима в Иерусалим. СПб., 1853. С. 14.
68 Порфирий (Успенский), архим. Книга бытия моего. Т. V. СПб., 1898. С. 250.
69 Там же. С. 250.
70 Там же. С. 250–251.
71 Норов А. С. Записки второго путешествия на Восток. Иерусалим и Синай (в 1861 г.). СПб., 1878. С. 132–133.
72 Странствования Василия Григоровича Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 гг. СПб., 1885. Т. 1. С. 194.
73 Там же. С. 194.
74 Там же. С. 194.
75 Там же. С. 194–195.
76 Там же. С. 194.
Опубликовано в журнале:
«Нева» 2014, №9
Компании Рош (Roche) и ИнтерМюн (InterMune) объявили о заключении окончательного соглашения о слиянии, по которому Рош приобретает все активы ИнтерМюн по цене 74 доллара США за акцию наличными. Таким образом, общая стоимость состоявшейся сделки составит 8,3 млрд. долларов. Соглашение о слиянии одобрено советами директоров обеих компаний. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2014 г.
Фармгигант Рош приобретает перспективную компанию ИнтерМюн за 8,3 млрд. долларов
Предполагается, что в связи с данной сделкой в 2015 году чистая прибыль на акцию не изменится, а начиная с 2016 года этот показатель будет расти. ИнтерМюн — биотехнологическая компания расположенная в г. Брисбен, Калифорния, занимающаяся исследованиями, разработкой и промышленным выпуском инновационных лекарственных препаратов для лечения пульмонологических и орфанных фиброзных заболеваний. В области пульмонологии компания специализируется на препаратах для лечения идиопатического легочного фиброза (ИЛФ) — прогрессирующего, необратимого и, в конечном итоге, смертельного заболевания легких.
Исследовательские программы ИнтерМюн главным образом нацелены на поиск низкомолекулярных веществ направленного действия и биомаркеров для лечения и выявления серьезных пульмонологических и фиброзных заболеваний. Приобретение биотехнологической компании ИнтерМюн, позволит Рош расширить и укрепить свой глобальный портфель препаратов для лечения заболеваний дыхательной системы. Ведущий препарат ИнтерМюн пирфенидон одобрен к применению для лечения идиопатического легочного фиброза (ИЛФ) в ЕС и Канаде, а также проходит регуляторные процедуры для одобрения в США.
ИЛФ — смертельное заболевание, характеризующееся прогрессирующим и необратимым течением и сопровождающееся потерей функции легких вследствие фиброза. В США компания Рош имеет в своем портфеле препараты Пульмозим и Ксолар и проводит клинические исследования других новых лекарственных средств для лечения заболеваний дыхательной системы. Пирфенидон представляет собой активное пероральное противофиброзное средство, подавляющее синтез TGF-β (трансформирующий фактор роста - бета) - химического медиатора, который регулирует многие функции клеток, включая пролиферацию и дифференциацию, и играет ключевую роль в развитии фиброза. Пирфенидон также ингибирует синтез ФНО-альфа, цитокина, играющего активную роль в развитии воспаления.
Комментируя сделку, главный исполнительный директор группы компаний Рош Северин Шван (Severin Schwan) отметил, что в компании очень довольны подписанием этого соглашения с ИнтерМюн. Рош сделал акционерам ИнтерМюн выгодное предложение, и приобретение этой компании позволит Рош укрепить свои позиции в терапии лёгочных заболеваний, а также помочь пациентам, страдающим таким тяжелым заболеванием, как идиопатический легочный фиброз, изменить свою жизнь к лучшему. Планируется плавный перевод сотрудников и операций ИнтерМюн в структуру организации Рош для подготовки к выходу пирфенидона на рынок США в 2014 году.
Комментируя сделку, председатель совета директоров, генеральный директор и президент ИнтерМюн Дэн Уэлч (Dan Welch) подчеркнул, что данное слияние подтверждает значимость результатов, достигнутых в области разработки и вывода на рынок вариантов терапии, для больных с ИЛФ и членов их семей. Такой высокий результат достигнут благодаря целеустремленности, трудолюбию и эффективной работе нашего коллектива на протяжении более десяти лет.
Компания Рош разделяет преданность этому делу и желание помочь пациентам, страдающим ИЛФ, и находится в ожидании разрешения FDA на применение препарата для того, чтобы обеспечить его доступность в Соединенных Штатах.
Глобальные ресурсы и масштабы деятельности Рош позволят не только ускорить получение пирфенидона новыми пациентами по всему миру, но и воплотить совместное видение компаний, направленное на обеспечение дополнительными инновационными препаратами пациентов с заболеваниями дыхательной системы.
ИнтерМюн продает пирфенидон под названием Есбрие (Esbriet) в странах ЕС и Канаде с момента получения официального разрешения на применение в 2011 г. и 2012 г. соответственно. После предыдущей регуляторной проверки для одобрения пирфенидона в США в 2010 г. Управление контроля качества лекарственных средств и продуктов питания (FDA, Food and Drug Administration) рекомендовало провести дополнительные клинические исследования III фазы для подтверждения его эффективности. Результаты данного исследования (ASCEND) были представлены в повторной заявке на регистрацию нового препарата (NDA, New Drug Application), поданной компанией InterMune в мае 2014 г. 17 июля 2014 г. FDA признало пирфенидон в качестве принципиально нового лекарственного средства. Этот статус присваивается препаратам, предназначенным для лечения серьезных или угрожающих жизни заболеваний или состояний, когда предварительные клинические данные указывают на то, что препарат способен обеспечить существенное повышение эффективности по сравнению с существующими лекарственными средствами по одной или нескольким клинически значимым конечным точкам. Заявка NDA по пирфенидону должна быть рассмотрена FDA к 23 ноября 2014 г. в соответствии с установленной датой принятия решения по препарату.
Помимо пирфенидона, в рамках исследовательских программ компании ИнтерМюн осуществляется изучение новых целей и путей их достижения, что, в конечном итоге, может привести к появлению более эффективных вариантов лечения ИЛФ и других фиброзных заболеваний. Идиопатический легочный фиброз (ИЛФ) — смертельное заболевание, имеющее прогрессирующий и необратимый характер, сопровождающееся потерей функции легких вследствие рубцовых изменений. Это ухудшает способность легких к поглощению кислорода. ИЛФ неизбежно вызывает одышку, ухудшение функции легких и снижение толерантности к физической нагрузке. У больных ИЛФ заболевание протекает непредсказуемо и гетерогенно, при этом невозможно спрогнозировать, будет ли оно развиваться медленно или быстро и в какое время может измениться скорость его прогрессирования. Периоды временной стабильности клинической картины неизбежно сменяются непрерывным прогрессированием заболевания. Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет от двух до трех лет, соответственно, ИЛФ приводит к летальному исходу быстрее, чем многие злокачественные опухоли, включая рак молочной железы, яичников и толстой кишки. ИЛФ, как правило, развивается у людей в возрасте старше 45 лет и немного чаще встречается у мужчин, чем у женщин.
28 февраля 2011 г. Европейская комиссия выдала разрешение на реализацию препарата Есбрие (пирфенидон) для лечения взрослых, страдающих ИЛФ легкой и умеренной степени тяжести. В соответствии с этим разрешением Есбрие может продаваться во всех 28 странах-членах ЕС. Затем данный препарат был разрешен к продаже в Норвегии и Исландии. В 2011 году компания ИнтерМюн начала коммерческую реализацию пирфенидона под торговым наименованием Есбри в Германии, и в настоящее время препарат также можно приобрести в различных европейских странах, в том числе на таких важных рынках, как Франция, Италия и Великобритания. 1 октября 2012 года Министерство здравоохранения Канады одобрило Есбри для лечения легкой и умеренной формы ИЛФ у взрослых пациентов. При этом заявка на регистрацию была принята к приоритетному рассмотрению, рассмотрена в ускоренном порядке в течение установленного срока 180 дней, и уже в январе 2013 года ИнтерМюн начала продажу Есбри в Канаде. Пирфенидон под наименованием Пиреспа (Pirespa) реализуется компанией Шионоджи (Shionogi) в Японии с 2008 года и в Южной Корее с 2012 года. Также пирфенидон под различными торговыми наименованиями разрешен для лечения пациентов с ИЛФ в Китае, Индии, Аргентине и Мексике. В настоящее время пирфенидон проходит регуляторную проверку FDA в США.
По материалам пресс-релиза
Президент Федерации автоспорта Марокко Джалил Некмуш сообщил президенту FIA Жану Тоду во время прошедшего Гран При Италии, что уличную трассу в Марракеше переделают в стационарную.
В рамках реструктуризации кольца, носящего имя наследного принца Мулая Эль-Хассана, планируется перенести на новое место паддок, боксы и пит-лейн, чтобы сделать возможным режим работы на трассе без зрителей.
Гоночный комплекс в третьем по величине городе страны вступил в строй в 2009 году и с тех пор регулярно принимал соревнования мирового Туринга. Лишь раз, в 2011-м, гонка не попала в календарь WTCC, так как трасса была признана слишком опасной. Но после проведения реконструкции и вывода на новый уровень работы судей и другого персонала соревнования в Марракеше продолжились.
Некмуш отметил, что все строительные работы должны закончится в намеченные сроки, чтобы в 2015 году участники мирового Туринга выступили уже на обновленном кольце.
«Наша цель – завершить все работы в следующем году, чтобы своевременно принять этап WTCC, - рассказал Некмуш в интервью Omniscore.it. – Конфигурация трассы останется без изменений, просто это уже будет не уличное, а стационарное кольцо».
В Марокко объяснили свою инициативу желанием помочь развитию местных гоночных серий, которые после завершения работ можно будет проводить круглогодично.
Пока сильнейшим представителем Марокко в автоспорте является пилот WTCC Меди Беннани, завоевавший в "кузовном" чемпионате мира несколько призовых кубков, в том числе и в этом году на трассе Moscow Raceway.
Розов Владимир, Arafnews, по материалам masrawy.com/ Министерство туризма Египта и комитет по активизации туристической деятельности проводят на базе египетского туристического бюро в Риме ознакомительную поездку на северное побережье Египта от Александрии до эль-Аламейна для итальянской делегации, в которую входят представители крупнейших СМИ страны, а также деятели туристической отрасли и прочие известные личности. Целью поездки, организованной в период с 10 по 14 сентября, является улучшение информирования об инвестиционных возможностях в регионе.
В рамках кампании, направленной на привлечение инвестиций в зону Нового Суэцкого канала, где находится множество перспективных туристических объектов, предусмотрена инспекционная поездка в данный район.
Италия входит в число крупнейших стран, откуда туристы приезжают в Египет, а также является одним из крупнейших инвесторов в египетскую экономику, в т.ч. в северное побережье страны.
Etihad Airways, национальный авиаперевозчик ОАЭ, расширяет набор услуг для гостей премиальных классов и открывает в Международном аэропорту Абу-Даби первый в истории авиакомпании зал ожидания в зоне прилета.
Роскошно отделанный, стильный и современный, он будет принимать гостей Etihad Airways, путешествующих первым и бизнес-классами. Новый зал ожидания удобно расположен сразу за зоной таможенного контроля.
Зал включает специальную зону, где гости могут освежиться перед тем, как покинуть аэропорт, - к их услугам 10 душевых кабин с необходимыми косметическими принадлежностями. Пока гости принимают душ, сотрудники зала погладят их одежду с помощью специальных парогенераторов. Услуга абсолютно бесплатна и занимает не более 10 минут.
В зале ожидания для прилетающих пассажиров также реализована новая инновационная концепция «SHAVE by Etihad Airways» – каждый гость может воспользоваться услугами профессиональных парикмахеров и бесплатно побриться.
Также в новом зале ожидания находится зона отдыха с удобными креслами, широкоэкранными телевизорами и большим выбором международных газет, журналов и книг. В течение всего дня гостям предлагаются разноообразные угощения, включая восхитительные канапе, закуски и сладости, а также горячие и холодные напитки. Все они готовятся на месте командой профессиональных поваров, создающих кулинарные шедевры в духе лучших традиций арабской и международной кухни.
Гости, которым необходимо уединенное пространство для подготовки к деловым встречам, могут воспользоваться услугами бизнес-центра, оборудованным компьютерами Apple с бесплатным выходом в интернет и принтерами.
Коммерческий директор Etihad Airways Питер Баумгартнер отметил: «Наш новый зал ожидания является важной вехой в истории развития Etihad Airways, его запуску предшествовало глубинное исследование рынка, позволившее определить запросы гостей первого и бизнес-классов. Этот зал ожидания, первый такого рода в Абу-Даби, был специально разработан для того, чтобы удовлетворить их пожелания, а наши новые эксклюзивные услуги, такие, как глажка одежды и бритье, будут особенно востребованы гостями, прилетающими в город рано утром, когда остается много времени до заселения в отель».
Сегодня в глобальной сети Etihad Airways 11 залов ожидания в аэропортах, включая новый зал в зоне прилета и уже существующие залы для гостей первого и бизнес-классов в Абу-Даби. Залы ожидания авиакомпании расположены в международных аэропортах Дублина, Франкфурта, Манчестера, Парижа, Лондона (Хитроу), Сиднея и Вашингтона, открытие новых запланировано в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Мельбурне и Милане. В период с января по июль 2014 года залы ожидания Etihad Airways посетили более 280 000 гостей, что на 20 процентов больше, чем за тот же период предыдущего года.
Самые активно путешествующие китайские граждане находятся в возрастной категории 25-34 года. Такие данные опубликованы в докладе Всемирной федерации туристических городов за 2013 г.
По итогам прошлого года за границей КНР побывали 98 млн китайских граждан. Из них 56,2% приходится как раз на молодежь указанного возраста. Еще 26,4% – доля граждан в возрасте от 34 до 44 лет. На путешественников за пределами Поднебесной в возрасте до 24 лет приходится лишь 11,3% граждан Китая.
Как правило, главная цель путешествия за границу – это покупки. В среднем каждый китаец тратить за поездку около 20 000 юаней, из которых 57,8% уходят на шоппинг. В 2013 г. за границей побывали на 18% больше китайцев, чем годом ранее. Экономикам принимающих стран они принесли $128,7 млрд. Это на 26,8% больше, чем в 2012 г.
Среднестатистический китайский турист за рубежом – это человек с ежемесячным доходом примерно в 11512 юаней. Это примерно в три раза больше, чем средняя зарплата в городах Поднебесной. В 2013 г. она составила 3798 юаней. Более 70% китайских семей со средним и высоким достатком выезжают за границу не менее одного раз в год. Еще 30% – более одного раза.
Самые популярные среди китайских туристов страны, по итогам прошлого года, – Япония, Республика Корея, Франция, Великобритания, Италия и Германия. Более 87% путешественников из Китая пользуются услугами туристических агентств.
У Евросоюза нет никакой новой индустриальной модели по развитию Молдавии, считает Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Как сообщает Omega, в эфире молдавского телеканала Accent TV российский политолог заявил, что руководство ЕС не будет вкладывать деньги в создание новых производств в республике.
"Никакой новой индустриальной или постиндустриальной модели для Молдовы у Евросоюза нет. Вкладывать сюда деньги для того, чтобы растить конкурентов себе, делать здесь новые производства никто не будет", — отметил он.
По мнению Федорова, "обещать не значит жениться". Он также подчеркнул, что ЕС не выделяет финансовую помощь просто так.
"В Евросоюзе деньги умеют считать гораздо лучше, чем у нас, на постсоветском пространстве. Они понимают, что ни один евроцент просто так не дается. Будут встречные требования",- считает политолог.
Глава ВЦИОМ добавил, что помимо экономически развитых стран, в составе Евросоюза есть государства, обладающие определенным влиянием, с более слабыми экономиками, которым также требуется финансовая поддержка.
"Есть Германия, есть Франция, есть Италия, Великобритания — это страны, образующие ядро Евросоюза, есть и другие страны, менее развитые, но давно уже находящиеся в Евросоюзе, имеющие определенное влияние, и тоже стоящие в очереди за пособиями. Есть обязательства — огромные деньги тратятся на поддержку экономики Испании, Португалии, Греции, Ирландии и других стран. Вес их голосов в Евросоюзе на порядки превышает веса тех кандидатов, которые сейчас стучатся в эти закрытые двери", — считает Федоров.
Специалисты компании Toscotec завершили реконструкцию бумагоделательной машины на комбинате Parteks Paper Co. в турецком городе Кайсери, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.
Машина уже введена в эксплуатацию. Ранее на ней производилась бумага для гофрирования, после проведения технологических мероприятий БМ №1 переоборудовали для выпуска санитарно-гигиенической бумаги. Ширина полотна — 2,85 м, производственная мощность — 75 т в сутки.
Проект разрабатывался в рамках реализации двухлетнего инвестиционного плана Parteks Paper Co.
Компания Parteks Paper была основана в 1996 г., штат — 300 сотрудников. На предприятии в Кайсери, расположенном на высоте 1 тыс. м над уровнем моря, производится санитарно-гигиеническая бумага, гофрокартон и бумага для гофрирования.
Россия—XXI: жизнь по законам культуры
В заочном «круглом столе» принимают участие Алексей ВАРЛАМОВ, Игорь ВОЛГИН, Чингиз ГУСЕЙНОВ, Борис ДУБИН, Инна КАБЫШ, Юрий КАГРАМАНОВ, Афанасий МАМЕДОВ, Александр МЕЛИХОВ, Андрей СТОЛЯРОВ, Максим ШЕВЧЕНКО
Может показаться, что в условиях постимперского идейного вакуума и угрозы нового передела мира говорить о том, что жизнь российского государства выстраивает культура — такая же утопия, как уповать на то, что красота спасет мир. И все же убеждены: в такие времена тем более стоит помнить о гуманистических традициях и задачах культуры, о значимости образования, о роли элит и сфере влияния и ответственности государства в этой сфере. Тем более, что есть серьезный повод для разговора — вынесенный на широкое общественное обсуждение проект «Основ государственной культурной политики».
1. В чем вы видите главные цели государственной культурной политики? Что вам представляется наиболее важным в предлагаемых «Основах» и чем бы вы их дополнили?
2. Задачи культуры в эпоху цивилизационных разломов и информационных войн.
3. Гуманистическая традиция русской культуры и формирование современного сознания в многонациональном государстве.
4. Как обеспечить культуре приоритетный статус в социуме?
5. Задачи и пути модернизации школы и традиционных культурных институтов (библиотеки, театры, музеи, ДК культуры, литературные журналы и т.д.) в современных условиях.
Алексей Варламов, писатель,
главный редактор журнала «Литературная учеба»
«Подняться над схваткой культуре не удастся»
1. Надо разобраться, хорошо это или плохо, что государство пытается вмешиваться в культуру. Мы жили в эпоху очень сильного вмешательства в культуру, помним времена, когда государство умыло руки. Что из этого предпочтительнее, и как бы нам не начать наступать на старые грабли. "Основы" по крайней мере не дают серьезных поводов для тревожных настроений, что возвращаются советские времена в буквальном смысле этого слова. Хотя многие их возвращения желали бы — но я себя к их числу не отношу. Но опять же написанные в документе слова — это одно, при том что написано красиво, не шаблонно, а их осуществление на деле — другое. Многое зависит от того, кто лично будет этим заниматься. И здесь, я думаю, нам всем очень повезло с автором этого проекта — точнее, там была целая группа, но один человек взял на себя ответственность за этот документ — Владимиром Толстым. Это фигура объединяющая, глубокая, что для нашей сегодняшней ситуации чрезвычайно важно.
Дополнил бы я этот документ двумя вещами, имеющими отношение к литературе, поскольку мне это ближе: а именно — государство должно содействовать продвижению литературы в СМИ и прежде всего, на федеральных каналах. И второе — еще раз подчеркнуть необходимость обязательного неформального преподавания литературы в школах и вузах. Без этого все разговоры о продвижении чтения так и останутся разговорами.
2. На первый взгляд, очевидно — хранить вечные ценности. Но это только на первый взгляд. Я приведу конкретный пример, имеющий отношение к нынешней ситуации на Украине и нашему новому славянскому кризису. Ровно 14 лет тому назад я участвовал в очень масштабной культурной акции под названием "Литературный экспресс—2000". Сто писателей из всех стран Европы в течение полутора месяцев ехали на поезде от Лиссабона до Москвы. Встречи, дискуссии, презентации, «круглые столы», конечно, общение, формальное и нет. За полтора месяца друг друга узнали, полюбили или не полюбили, но в общем было здорово. Был только один очаг ненависти. Украинских письменников по отношению к России. Уже тогда, когда и про Путина еще толком никто ничего не знал. Вот эта не слепая, а зрячая ненависть ко всему русскому, к языку, к нашему народу, к нашей истории, которая мне была непонятна, дика — мы-то к ним так не относились, мы не понимали, за что, — но это было. И сегодня эти деятели культуры (кому любопытны имена — поройтесь в интернете, но скажу, что там были, в том числе, и авторы журнала "Дружба народов") закономерно собирают плоды своей политики, а мы — отсутствия оной на территории бывшего Союза. Надо признать свое культурное поражение. Можно сколько угодно петь им песни про братство и общечеловеческие ценности — они свой выбор давно сделали и едва ли от него откажутся. А что остается делать нам? Тоже делать свой выбор, и он будет у каждого свой. События последних месяцев сильно нас переменили, одно для меня очевидно — глобализация проваливается, космополитизм отступает, и культура неизбежно становится более национальной, отечественной, почвенной. Подняться над схваткой ей не удастся.
3. Красивые слова, которые очень трудно наполнить сегодня реальным содержанием. Мы уже объявляли себя новой исторической общностью — советским народом и свято в это уверовали, хотя в реальной жизни все трещало по швам. Так и сегодня — главное смотреть реальности в глаза и не выдавать желаемое за действительное. Да, культура что-то может сделать для смягчения нравов, но она нуждается в помощи, в умной защите, в сбережении — но не опеке. И здесь как раз государство может сказать свое слово. Надо финансировать переводы, фильмы, театральные постановки, фестивали, не жалеть телевизионного времени на их освещение, но не не дейстовать по принципу: кто платит — тот заказывает музыку. Культура — особа обидчивая.
4. Это формулировка, которая даже лексически пугает. Приоритетный статус в социуме. Впору согласиться с запретом на иностранные слова. Но если все-таки попытаться ответить. Ну вот вырубили вы вишневый, допустим, сад. И никому до этого не было дела. А теперь новому владельцу надоело играть в дачи, собирать деньги или еще что-то и захотелось, чтобы снова сад белел цветами в майские утренники. Чтобы вишню сушили, мариновали, продавали. И он ставит перед вами задачу — сделайте мне сад к следующему году, а не сделаете — я вас уволю и наберу новую команду. Так вот надо честно сказать — к следующему году не будет. И через два не будет, и через три. Но если сегодня посадить, если начать вкладываться и ждать, тогда лет через пятнадцать-двадцать что-то получится. То есть сразу определиться — это долгоиграющая пластинка. Ни годом культуры, ни годом литературы мы ничего не решим. Но это не значит, что не надо ничего делать. Учиться терпеть и ждать — вот что надо.
5. Я думаю, это вопрос — даже по формулировке — больше к специалистам, профессионалам. Они знают или должны знать, как это делать. А писатель — если пригласят выступить — пусть не оказывается прийти и хотя бы не говорит глупостей. Я всегда об этом думаю.
Игорь Волгин, писатель, историк
Потенциал спасения
1. Цель у такой политики одна: создать максимальные возможности для того, чтобы Homo sapiens был не только разумным, но и культурным (хотя «в идеале» это должно совпасть). То есть внешние условия, создаваемые государством, как бы «провоцируют» внутренние духовные движения — как в обществе, так и, желательно, в отдельном человеческом существе. Дело не только в финансировании (хотя, разумеется, это очень серьезный момент), но и в том, чтобы власть оказалась «продвинутой», интеллектуальной и главное — говорящей с культурой на ее собственном языке. В «Основах», на мой взгляд, наиболее важно то, что впервые культура официально провозглашается фундаментом и движителем национальной жизни. Вопрос в том, как эта замечательная концепция будет реализована на практике.
2. Как сказал поэт — относительно поэзии:
Спасибо, что возможность мне дала,
Блуждая в элегическом тумане,
Не вмешиваться в грязные дела
И не бороться за существованье.
У культуры только одна единственная задача: оставаться самой собой. Только тогда она может глубинно влиять на все происходящее в мире. Более того, именно она обладает «потенциалом спасения», именно она способна стать регулятором мирового процесса. Отступая от себя или изменяя себе, культура становится внекультурна. Она — цель, а не средство. Как только культура становится средством, ее статус меняется.
3. Тут все очень просто: всем детям нужно читать одни и те же (желательно хорошие) книжки и постоянно пребывать в насыщенном и, не побоюсь этого слова, благородном духовном поле. И у них, детей, обязательно должны наличествовать талантливые учителя. Тогда ничего не надо «формировать», все и так образуется. Вы скажете, это недосягаемая мечта. Но вообще-то культура есть сумма некоторых идеалов, а в известном смысле, пожалуй, и грез.
4. Тут никто ничего «обеспечить» не может. Правда, государство способно — в силу своих возможностей — споспешествовать тому, чтобы человек, не владеющий культурными кодами, не имел бы никаких социальных привилегий и личных перспектив.
Приоритеты не «назначаются», а, так сказать, присутствуют в самой общественной атмосфере. Само общество вырабатывает систему предпочтений. В иных случаях (что мы неоднократно и наблюдаем) эта система может быть ужасна. «Неграмотные вынуждены диктовать», — говорит Ежи Лец. Понятно, что они надиктуют.
5. Пока, если судить по «промежуточным» результатам, так называемая модернизация не принесла волшебных яблок. Но это как раз следствие общего падения культуры. Ни одна реформа, прежде всего, в области науки и образования, не доведена до конца. Более того, идет игра на понижение. Мы получаем на выходе все менее качественный культурный продукт — это, увы, относится и к людям. Такое положение грозит потенциальным Чернобылем — как в духовной, так и в чисто технологической сферах. Эйнштейн, заметивший, что Достоевский дает ему больше, чем Гаусс, отнюдь не шутил.
Чингиз Гусейнов, писатель, культуролог
«Легко манипулировать сознанием людей полуграмотных»
1. Говоря о культурной политике, я имею в виду, что в ней наличествуют, не только, условно говоря, аспекты организационно-управленческий, правовой, финансовый, которые и следует рассматривать в качестве целей государственного культурного строительства (тут я не компетентен), но и аспект содержательный. В широком плане – это функции собственно культурной деятельности, которые не должны регламентироваться, обозначаться, а тем более определять политику в области культуры, ибо это — идеология, и любая попытка сформулировать в этом плане политику — есть стремление к ограничению культурной деятельности, сведению ее лишь к пропаганде и воспитанию.
Культура — это необходимая для развития общества естественная потребность языком искусства осмыслить, понять, познать, отразить происходящее в душах людей, в жизни общества, страны и мира, это зеркало, в котором — такова природа искусства во все времена и эпохи — отражается все и вся в обществе, независимо от желания верхов или низов, от воли какой бы то ни было инстанции или идеологии. И тут государство не должно вмешиваться в содержание и форму, роды, виды, стили и иные аспекты деятельности в сфере культуры. В просторечии это называется «не мешать культуре», или иначе: не выхолащивать изначально заложенное в ее арсенале критическое, страшно сказать, оппозиционное ядро, коим и прославилась в веках художественная культура не только в России, но и во всем мире.
Кто знает, может, ограничения, порождающие «вопреки», в большей степени, нежели «благодаря», способствуют развитию культуры? Помнится, кто-то из классиков сравнивал художника-писателя с пчелой: он творит с той же необходимостью, как пчела производит мед. Я бы провел аналогию с рыбой-осетром: действенное проявление ее натуры — метать икру, преодолевая препятствия, и, реализуя себя, погибнуть… Впрочем, израильтяне придумали: помогают рыбе путем операции избавиться от ноши, затем аккуратно зашивают разрез и пускают рыбу в воду, чтобы продолжала «творить». Вот так бы и с Законом о культуре (плодим и плодим Законы, а это время + люди + деньги), когда все, что надо, прописано в Основном Законе, в Конституции: талантам — действенно реализовать призвание, им виднее, о чем и как говорить, ибо такова их природа, а ведомствам культуры — не регламентируя творческий процесс, не мешая ему, организационно и финансово помогать им, защищать их право на творчество, если оно… — ясно, что не выходит за рамки уголовно наказуемого.
Боязнь оппозиционности, органически присущей культуре, в частности, художественной, и есть идеологическая суть Закона.
2. Это относится к культуре, понимаемой расширительно, как область всего и вся в обществе (деятельность политическая, социальная, судебно-правовая, экономическая, научно-образовательная, сеть СМИ и прочее).
3. Об этом говорено много и правильно в советском прошлом и российском настоящем, это, так сказать, азбучные идеалы Свободы, Равенства и Братства, но слова не стали и не становятся, особенно сегодня, руководством к действию в условиях насаждаемой ныне в многонациональной и поликонфессиональной стране разрушающей ее, самоубийственной для нее этно-религиозной иерархии.
4. Для этого она должна быть правдивой. Конфликтной по отношению к расхожим представлениям. Должна будить и будоражить общество сверху донизу. Быть бесстрашной в борьбе с мнением большинства… Парадоксально: но даже в Коране Всевышний многократно говорит пророку: «Не следуй за мнением большинства, оно, как правило, ошибочное!» Кстати, Пушкин и Гоголь… — имена тут можно называть от А до Я — этому следовали. При этом сознательно не употребляю такие отброшенные ныне понятия, как душа, совесть, грех.
5. Скажу об одном, но самом главном: ширить, а не ограничивать такую сферу образования как обучение людей с детства глубинам языка, этой таинственной сферы в человеческой жизни. Только язык (никаких иных средств не придумано) формирует сущность человека, его дух, этику, мораль, позволяет понять мир, служит самопознанию. Легко манипулировать сознанием людей полуграмотных, а уж тем более преступно превращать язык в инструмент утаивания истины, приучать язык ко лжи. Это — путь к разрушению в человеке нравственного стержня, а следовательно — и самого человека.
P.S. Вынужденный рассуждать в рамках заданных вопросов, я понимал, что в конечном счете будет принят — хотел бы ошибиться! — закон, изначально задуманный по духу и направленности как ограничительный, в угоду интересам властных структур, озабоченных трудноразрешимыми внутренними и внешними проблемами. Хотя он вряд ли сможет помешать истинной, то есть служащей правде культурной деятельности, никаким законам не подвластной, имеющей богатую мировую историю с традициями, уроками и опытом, в том числе, и в России тоже.
Борис Дубин, социолог, переводчик
«Проблема не в идеологии, а в практической работе»
1. Нынешний проект — документ сугубо идеологический. Главный субъект тут, естественно, государство, это оно «создало великую культуру». На последующих страницах идет апелляция к таким идеологическим (мифологическим) целостностям, как народ, нация (вариант — «многонациональный народ»), их самобытность.
Задача — единство страны, его выражение — общенациональная идеология, в основе которой патриотизм, они необходимы, поскольку в мире вокруг идет снова обострившаяся «идейно-информационная конкуренция». Важнейшее значение, соответственно, приобретают институты воспроизводства культуры — система образования и воспитания, подчиненные их задачам музеи, библиотеки и др., поскольку ведущие функции культуры — «воспитательная и просветительская». Эту идеологию я не разделяю, стремлению нынешнего российского государства (как, впрочем, и прежнего советского) руководить культурой, да и вообще каким бы то ни было живым делом, ни в малой мере не симпатизирую. Высказанные здесь идеи относятся к периоду раннего Просвещения, к ним вполне эпигонским образом присоединены некоторые соображения славянофильства (то есть, националистической реакции на Просвещение), и все это положено на исключительно государственническую основу (вообще говоря, государственничество как идеология — а в России это державничество — находится в весьма напряженных отношениях и с Просвещением, и с национализмом, но нынешних идеологов, как и сверхавторитетного для них И.Ильина, это не смущает). При этом документ этот явно предназначен для «своих» и как будто предполагает некие реформы, перекройки и подвижки, корректировки и уточнения компетенций, функций и проч. соответствующих министерств и ведомств, но, в соответствии с новейшей традицией «открытых линий», демонстративно выносится для обсуждения на миру.
2. Как социолог-эмпирик я, вместе с ближайшими коллегами, знаю, в каком положении находятся сегодня в России институты воспроизводства и передачи, в том числе — межпоколенческой трансляции — тех или иных образцов культуры. Школа — и средняя и высшая — практически целиком огосударствлены и уже длительное время, несколько десятилетий, пребывают в распаде и неопределенности. В театрах, музеях, концертных залах с частотой хотя бы раз в месяц бывает сегодня 4-5% российского населения, в кинотеатрах — до 15% (и это показатель лишь самых последних двух-трех лет, а до конца нулевых данные были примерно такими же, как по театрам, музеям и концертам). Читают книги и журналы хотя бы раз в неделю до 30% взрослых россиян, не читают ни тех, ни других до половины взрослого населения; в библиотеках (они тоже практически целиком остались государственными) хотя бы раз месяц бывают 6-7% взрослых жителей страны. При этом ежедневно пользуются интернетом 40%, хотя бы раз в неделю — трое из пяти. Телевизор же практически каждый день смотрят 80% россиян. Приоритеты населения очевидны; в какой мере они сложились под воздействием того же государства — обсуждать сейчас не буду, скажу лишь одно: в решающей.
3. Пространство для архитектора — это возможность строить. Культура для людей культуры — возможность реализоваться, воплотить то, что они считают жизненно важным. Может государство, то есть официальные организации и служащие в них люди этому воплощению помочь — спасибо, все остальное — решительно не их дело. Рабочих путей здесь два: как ни парадоксально, максимальная помощь людям и группам людей в их самоосуществлении при максимальном же разгосударствлении всего, что относится к управлению этими людьми. Вполне достаточно, чтобы государство — то есть, служащие, временно и условно нанятые на наши же с вами деньги, — занимались своей собственной организацией, оптимизировали ее и ни в коей мере не пытались организовать еще кого-то, — к чему такая организация всего и вся приводит, мы не раз видели и опять видим сейчас. В комментариях к опубликованному в «Российской газете» документу доброхот советует внести в него еще: 1. Любовь к Богу; 2. Любовь к Родине; 3. Любовь к близким. Вот-вот, ужо дождемся…
4. Перед названным «двойным путем» есть несколько задач, особенно острых именно для России. Это ее центро-периферийный раскол, разлом на столицу и провинции (ничего «цивилизационного» тут нет, всего лишь российско-советское наследие, и весьма печальное) плюс региональное разнообразие (неравномерность развития и лоскутность существования). Еще раз напомню: максимизация помощи «на местах» и максимум децентрализации в управлении. А для самих людей культуры — умножение независимых субъектов (групп, аудиторий, точек на карте) плюс укрепление коммуникаций между ними (интереса, взаимодействий, связей — вековечная российская проблема дорог).
5. То же, понятно, относится к культурам иных народностей России, кроме русских: нынешняя смесь равнодушия, презрения и открытого шовинизма по отношению к ним со стороны русского большинства (а в немалой степени и людей культуры) — еще одна отвратительная великодержавная «традиция». По официальным данным, в России сейчас до 20% жителей принадлежат к нерусским национальностям, эта доля вдвое больше, чем аналогичные официальные показатели по Германии, Великобритании, Франции. Тем не менее, в России мы не найдем ничего похожего на афганско-пакистанско-индонезийско-африканское британское кино, албанско-венгерско-румынско-турецкую литературу в Германии, североафриканскую или вест-индскую словесность во Франции с их множеством фондов поддержки, фестивалей, премий, стипендий и проч. (посмотрите на списки лауреатов крупнейших национальных и международных художественных премий в Европе и мире за последние годы, — вот он, результат соответствующей культурной политики, которая, кстати, делает, среди прочего, названные страны притягательными для людей других языков и культур). И нет там, как правило, насколько я знаю, никаких громогласных общенациональных проектов культурной политики и всенародных их обсуждений, а вот дело и его результаты — явственно есть.
6. Короче говоря, проблема совершенно не в идеологии, тем более — доминирующей или единой (уж в России ли это не знать — неужто было мало?), а, прошу прощения за трюизм еще чеховских времен, в работе, активной, разнообразной и практической. И, понятно, в дефиците работников и их рабочих союзов при очевидном разрастании сословия управленцев.
Инна Кабыш, поэт, преподаватель литературы
Дело за делателями
1. Главных целей государственной культурной политики, на мой взгляд, три (кстати, к моему удовлетворению, я все три нашла в новом проекте): это, во-первых, повышение статуса культуры в целом, во-вторых, усиление ее влияния на все сферы жизни и, в-третьих, восприятие культуры как инструмента передачи новым поколениям этических ценностей, как источника самоидентичности человека.
Кроме этих, есть у культурной политики и другие цели: поддержка талантов, воспитание культурного слушателя, зрителя и читателя, создание благоприятной информационной среды, наконец, воспитание мыслящей творческой личности.
Как бальзам на душу подействовала вроде бы очевидная мысль о том, что культура не является сферой услуг.
А дополнить (хотя это есть в «Основах», но я бы прописала курсивом) хотелось бы тем, что глобальная задача культуры — воспитание человека, способного отличать Добро от Зла, и еще тем, что культура должна существовать не сама по себе, не в неких «гетто» (музеях, библиотеках, театрах), а должна пронизывать жизнь, срастаться с ней, облагораживать ее, придавая ей вектор и стержень.
С последним (я имею в виду «срастаться с жизнью») у нас проблема: в России божественная культура и убогая (особенно в провинции) жизнь.
2. Задачи культуры в эпоху цивилизационных войн и разломов — воспитание гуманного, терпимого (или, как сейчас принято говорить, толерантного) человека.
Ведь культурный — это прежде всего неагрессивный, умеющий слышать другого человек.
3. Мне кажутся несостоятельными разговоры об отсутствии у современной России национальной идеи. Да, у нас сегодня нет идеи, сформулированной в виде лозунга или афоризма, вроде — «Православие, самодержавие, народность» или «Мир народам, хлеб — голодным».
Но у нас есть великая русская литература, которая сама является нашей национальной идеей.
Разве заповеди, которые со школьной скамьи (а то и с молоком матери!) входят в человека — «служить бы рад — прислуживаться тошно», «нет уз святее товарищества», «отчизне посвятим души прекрасные порывы», «но я другому отдана; я буду век ему верна» — не члены нашего Символа Веры, нашей национальной идеи?
Так что современный русский человек и оснащен, и защищен «гуманистической традицией русской культуры».
Другое дело, что он подчас «ленив и нелюбопытен».
4. Приоритетный статус культуры в социуме, по моему глубокому убеждению, обеспечивается двумя — встречными — путями.
Сверху — вниманием государства к проблемам культуры и ее творцов и снизу — воспитанием в семье.
Именно семья должна закладывать отношение к культуре не как к послеобеденному десерту, а как к насущному хлебу, без которого жизнь человека если не невозможна, то, во всяком случае, ущербна.
5. Здесь я, пожалуй, ограничу себя мыслями о современной школе как о предмете, известном мне не понаслышке.
Ключевой фигурой в современной школе является учитель (не охранник и не бухгалтер). Учитель должен быть хорошо подготовлен профессионально (а ведь в последнее время сократилось количество вузов, готовящих, в частности, учителей-словесников, да и подготовка такого учителя не должна ограничиваться рамками школьной программы): он должен быть интеллектуалом.
Кроме того, его работа должна быть его призванием: учитель должен любить (и знать) культуру и детей (последних, пожалуй, даже больше).
Множественные повторения мной слова "должен" объяснимы, потому что учитель, перефразируя одного поэта, "всегда должник Вселенной", и другого — "в России больше, чем учитель".
У современного учителя двойная нагрузка: он — опять-таки! — должен окультуривать не только своих учеников, но и их родителей, так как нынешние родители — тридцатилетние люди — выросли и сформировались в лихие 90-е, когда нашему Отечеству было, увы, не до культуры.
Кроме высокого уровня профессионализма и человеческих качеств учитель должен(!) иметь современно оснащенный — экраном, компьютером, интерактивной доской — кабинет, потому что не секрет, что современный ребенок воспринимает информацию во многом глазами, а не ушами.
У учителя должна быть(!) возможность вывозить детей в музей, театр, на экскурсию, т.е. организовывать «встречу с прекрасным», не оформляя при этом тонны бумаг.
В заключение хочу сказать, что в целом проект «Основы государственной культурной политики» обрадовал широтой охвата темы и внятностью изложения.
Дело, извините за тавтологию, за делателями.
Юрий Каграманов, публицист, философ, культуролог
Трудная задача
Как следует из проекта «Основ», главная задача государственной культурной политики — воспитание подрастающих поколений. И это самая трудная задача.
Есть две сферы, в которых государство способно сыграть в этом смысле большую роль — школа и СМИ. Школа не может «в одиночку» слепить человека, но она может многое — при условии соответствующей высоким требованиям постановки гуманитарного образования. И в первую очередь — преподавания русской классической литературы (а в старших классах еще и начатков русской религиозной философии, не менее великой, чем литература). Распространено мнение, что ее образы уже не могут овладеть воображением подростка так, как того хотелось бы, что это всего лишь
Отзвук слабеющий
Дней незапамятных.
Думаю, что это не так. Образы, например, Гомера или Плутарха служили примером для подражания в продолжение веков и даже тысячелетий. После Второй мировой войны бывший вице-король Индии лорд Линлитгоу объяснял упадок Британской империи не столько национальными движениями в колониях, сколько упадком классического образования (включавшего изучение античной литературы) в самой Англии, которое ориентировало учащегося на высокие примеры поведения, укрепляло нравственный костяк. Убежден, что «дальнобойная» сила образов русской классической литературы нисколько не меньшая, сравнительно с античными. Тот факт, что мы живем в век невероятного технологического усложнения жизни, мало что в этом отношении меняет: человек не становится принципиально другим, разве что делается более «рассеянным» и нуждающимся во внутренней собранности.
Что касается СМИ, то здесь государство должно выступать не только как поощряющая, но и как запрещающая инстанция (последнее касается также Интернета). В наше время слово «запрет» стало гонимым, жестко привязанным к «тоталитарному прошлому». Но культура без запретов невозможна; сам «певец свободы» Пушкин считал цензуру необходимой. Распорядители СМИ взяли за правило «давать людям то, что они хотят». Чего здесь больше: цинизма или непонимания природы человека? Жозеф де Местр, стоявший (наряду с Эдмундом Берком) у истоков консервативной мысли, писал: человек — «злое, саморазрушительное существо, полное противоречивых желаний; он сам не знает, чего он хочет, хочет того, чего не хочет, и не хочет того, чего хочет». Конечно, это только половина правды о человеке, но без этой, худшей половины немыслима вся правда. Вопрос цензуры — это также вопрос добросердечия, внимания к людям. Во многих случаях им не следует давать то, чего они хотят или думают, что хотят.
И еще. Вопрос национальной самоидентификации в плане культуры становится особенно сложным, когда дело касается музыки, самой эфирной части культурной сферы. Если слово фиксирует те или иные стороны реальности и закрепляет их в сознании, то музыка, отражая реальность, в то же время ускользает от нее, «струится» над нею, неведомо откуда истекая и неведомо куда устремляясь; не помню уже, кем сказано, что она есть «чувство, не доведенное до ума». Мы знаем, какую музыку предпочитает сегодня молодежь (я имею в виду не попсу, образующую просто звуковой «фон» повседневности, но более или менее качественную музыку). Не так давно я посмотрел по 1 каналу ТВ несколько передач из цикла «Голос. Дети». Подавляющая часть вокальных номеров, которые исполняли дети, была афро-американского происхождения. Поражает (по крайней мере, на мой непрофессиональный взгляд и слух) мастерство, с каким наши подростки имитируют исступления заокеанских певцов. Демонстрация нашей «всемирной отзывчивости»? Пусть так, но ее оборотная сторона — забывчивость своего, отечественного. О пионере рок-н-ролла Элвисе Пресли было сказано, что это «первый белый, который чувствует, как негр». Чувствуют ли наши дети, как негры?
Андрей Белый еще в начале 20-х годов (жил тогда на Западе), когда только начинался «век джаза», писал: «Негр уже среди нас. Будем твердо: арийцами». Легко сказать «быть твердыми»; музыка афро-американского происхождения необычайно заразительна, что можно объяснить, наверное, прежде всего прочего истощением европейской почвы. Где же решение? На том же «Голосе» решение сидело в красном креслице жюри и звалось Пелагея. Эта исполнительница русских народных песен, на современный лад аранжированных, обладает не только редким голосом, но и гениальной, без преувеличения, интуицией (как ее назвать — культурологической? В ней, по ее же словам, проснулась «древняя славянская женщина», но у этой женщины тончайший слух и восприимчивость ко всему, что где-либо в мире поется и играется. Она может даже исполнить рок-н-ролл и сделает это мастерски, но при этом с едва заметным оттенком пародирования, как бы говоря: «Вот, я могу и так, и это по-своему интересно. И все-таки это не мое, не наше; хотя кое-что отсюда можно и позаимствовать». И в аккомпанементе исполняемых ею русских народных песен и романсов кое-что взято из афро-американского источника; но только в аккомпанементе. И куда девалось представление о некоторой унылости старых и особенно древних русских распевов: что бы она ни исполняла, Пелагея всегда излучает редкую в наши дни радость. Не веселость, но какую-то онтологическую радость, знающую о трагизме бытия и преодолевающую его.
Если «древняя славянская женщина» импровизирует на исполнительском уровне, то на другом уровне к онтологии музыкального чувства обращается выдающийся композитор и мыслитель-культуролог (автор нашумевшей книги «Конец времени композиторов» и других книг) Владимир Мартынов. Он выступает за возвращение к «архаическому состоянию» в музыке, в частности к православным певческим службам XVI — XVII веков, равно как и к фольклору; и к инновациям на э т о й основе. Но создавать «новое сакральное пространство», по Мартынову, необходимо с учетом иных культур и традиций — не только древнерусских распевов, но и григорианских хоралов, и византийского осмогласия, и даже арабских макамов; а также фольклорного наследия разных времен и народов.
Но это примеры живого творчества культуры, в котором участие государства может быть только очень скромным.
Афанасий Мамедов, писатель
«Культура и свобода — плоды одного дерева»
1. Чтобы ответить на этот «двойной» вопрос, самому надо поделить себя на две половины — художника и человека, гражданина своей страны. (Прошу прощения за пафос.) Художник во мне говорит, что главная цель государственной культурной политики — не мешать художнику оставаться в своей стихии. Окликнутого Богом никто из его собственной «темноты» не вытащит, не поможет ни разово, ни разом навсегда освободить из-под власти времени, научить творить и сохранять «голос». Хотя не дать загнуться в этом мире, уберечь от «клиники», наверное, государственная культурная политика может и должна. Тут в памяти незамедлительно всплывают два примера — один «царскосельский», итогом которого явилась «серебряновечная» культура, другой — пример из недавнего прошлого со знаком «сделано в СССР». Как создавалась культура в советские времена, я, как мне кажется, представление имею, и петь осанну тому времени у меня нет никакой охоты. Иными словами, хотел бы напомнить себе и другим — бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Взяв художника под свою опеку, государство, чиновники не должны решать, кто является подлинным демиургом, Фадеев или Булгаков с Платоновым.
Теперь право голоса — гражданину. Мне кажется, это проект очень своевременный. За время относительной свободы, которую мы завоевали в 1991 году (не только интеллигенция, но и все, кто не пожелал плестись в пыльном стаде в никуда), мы увидели мир справа и слева от себя, и поняли, что никак не хуже, что у нас есть своя история, что она началась не вчера, что ею можно не только гордиться, она может и государственной политике задать нужное направление. Правда, с одним условием: если из нее сделать правильные выводы. Мне нечего добавить в предлагаемые «Основы», проект должен был бы появиться еще вчера.
2. В условиях информационных войн человек без культуры, без памяти, без бэкграунда является совершенной марионеткой. Только знание собственной истории и культуры играют тут роль «флэш-памяти». Именно поэтому все тираны начинали свое правление с фальсификации истории и попыток подчинить себе культурную элиту. Рассуждая о задачах культуры в современном мире, вспоминаешь максиму Поля Валери, многое предвидевшего, включая и фашизм, и эпоху «материнских плат»: «Самое лучшее в новом — то, что отвечает старым устремлениям». «Старое устремление» по Валери — это сохранение влияния культуры даже в тех обстоятельствах, когда это, казалось бы, невозможно, когда человек начинает исчерпываться насущными заботами и страхом за свое будущее. Все остальное — лишь способ достигнуть этой цели. Предлагаемые «Основы» — тоже способ.
3. Гуманистические традиции русской культуры не спасли Россию от революции, гражданской войны, бесчинств ЧК, сталинских лагерей… Сегодня человек подошел к новой эре существования, к новым границам бытия. Мы пересматриваем пространственно-временные координаты, осваиваем виртуальные миры, мы, с одной стороны, стремимся к однородности, с другой — напряженно ищем свои истоки, потому что именно они питают нас. И толерантность — одно из условий существования этого нового современного мира, современного человека. Сейчас это максима, не подлежащая обсуждению. У России и ее гуманистической традиции в этом вопросе есть колоссальный опыт, которым грех сегодня не воспользоваться.
4. Наверное, за счет порыва человека к подлинной культуре, а для этого нельзя лишать его свободы. Культура и свобода — плоды одного дерева. А этот порыв формируется образованием и просвещением. Задача просвещения в России еще с царских времен была основополагающей. Интернет, конечно, сравнял многое, но эта задача ему не под силу. Сложность ее связана еще и с колоссальностью размеров России, с ее синтетичностью, поликультурностью. И денег тут жалеть нельзя, это тот клей, который склеивает страну. Думаю, пункт первый, второй и третий в проекте «Основ государственной культурной политики» отвечают на этот вопрос в полной мере.
5. Эти задачи невозможно рассматривать отдельно от других государственных задач в области культурной политики, все взаимосвязано. Литературные журналы, библиотеки, театры и музеи — такое же достояние нации, как газ и нефть… Но важно не только модернизировать, но сначала сохранить в живой целостности то, что неоднократно приносило уже плоды и от чего в порыве обновления, начиная с 90-х годов, мы зачем-то пытались избавиться. Мне, как человеку литературному, конечно, ближе всего задача сохранения литературных журналов. Их миссия — в условиях жесткой коммерциализации книжного, издательского дела — только усиливается.
Александр Мелихов, писатель
Культурная самооборона
Обсуждаемый проект «исходит из понимания важнейшей общественной миссии культуры как инструмента передачи новым поколениям свода нравственных, моральных, этических ценностей, составляющих основу национальной самобытности». Я же исхожу из совершенно другой парадигмы. Главной миссией национальной культуры я считаю не трансляцию ценностей, но экзистенциальную защиту, формирование красивого образа нации, ее истории, пускай сколь угодно трагической, но высокой, оправдывающей те неизбежные жертвы, которых, как и всякое коллективное дело, требует ее продление. Жертвы, заметим, в нормальных условиях немедленно возмещаемые, ибо упадок религии давно привел к тому, что едва ли не единственным средством преодоления экзистенциального ужаса, ощущения собственной мизерности и мимолетности перед лицом бесконечно могущественного и бесконечно равнодушного космоса у сегодняшнего человека сделалось чувство включенности во что-то могущественное и долговечное. Сегодняшнее государство выполняет не только социальные, но и экзистенциальные функции, а если оно перестанет их выполнять, у его подданных почти не останется мотивов приносить своему государству даже самые незначительные жертвы.
В государствах благополучных это пока что менее заметно, но для России, тем более в эпоху кризиса, неспособность государства обеспечивать экзистенциальные потребности россиян может сделаться причиной государственного краха. В такие эпохи систему поддержки культуры и образования следует рассматривать как средство национального выживания.
В особенности культуру и образование высшего качества, мирового уровня — именно они в значительнейшей степени создают исторически долговечный позитивный образ страны, который и побуждает граждан гордиться и дорожить ею.
Попробую развернуть этот тезис.
«Россия гибнет, нужно что-то срочно предпринять!» — по этому выкликанию определяют своих в основном в национально-патриотическом лагере, поскольку лагерь либеральный больше озабочен правами индивида, чем участью общественного целого. Однако кризис целого по какой-то загадочной причине оказывается неотделимым от краха множества частных судеб: бегство от армейской службы, падение рождаемости, «утечка мозгов» идут рука об руку с алкоголизацией, наркоманией, преступностью, самоубийствами…
Увы, массовое бегство от общественных обязанностей не следствие кризиса, а его причина. Кризис социума прежде всего и заключается в массовом нежелании индивидов служить ему. А потому и главный вопрос выхода из кризиса — как возродить это желание?
Протофашистам и просто фашистам всех цветов радуги ответ прекрасно известен: людей надо как следует напугать. Напугать до такой степени, чтобы они кинулись служить в армии и просто служить, а главное не стремились сбежать в другие страны, в пьянство, в наркотики, в смерть… И вообще полюбили родину — ведь так естественно любить то, что внушает ужас!
Хорошо еще, что хотя бы либералы понимают, что ужас не способен породить ничего, кроме желания либо спрятаться, либо уничтожить источник ужаса. Нет, чтобы люди полюбили родину, им надо платить! Платить за то, чтобы они служили в армии, платить за то, чтобы они рожали и воспитывали детей, платить за то, чтобы они не уезжали, не пьянствовали, не кололись, а главное не убивали друг друга или хотя бы самих себя.
По-видимому все исчезнувшие государства и погибли из-за того, что их гражданам однажды недоплатили…
Своей иронией я вовсе не пытаюсь намекнуть, что России ничто не угрожает: и не такие царства погибали, как говаривал весьма неглупый Победоносцев. Но — в одной мудрой памятке психотерапевта, работающего с «кризисными» пациентами, рекомендовано прежде всего снимать чувство неотложности: именно в лихорадочной спешке люди и творят особенно непоправимые безумства. Однако это же в еще большей степени справедливо и для народов: именно в кризисных ситуациях необходима политика, поднимающаяся над острой злободневностью, взирающая на самые мучительные проблемы если уж не с точки зрения вечности, то, по крайней мере, с точки зрения их долговечности, включающая их в максимально широкий исторический контекст.
А в этом контексте творилось немало поучительного. Был великий Рим, державший под своей десницей десятки народов, и рассыпался в одночасье. И что самое удивительное — никакого пребывающего в рассеянии народа «римляне» тоже не осталось. Пока итальянцы для подкрепления собственного духа не начали воображать себя потомками римлян. А тем самым и действительно ими стали. Ибо главная жизнь человека, а народа тем более и протекает в их воображении.
И впрямь, римляне как народ исчезли, а покоренные ими евреи, изгнанные с родины предков, остались. И через две тысячи лет, после невероятных испытаний вновь возродили собственное государство на Земле обетованной. Что их сохранило как народ? Греза. Ни на чем не основанное мнение о себе как о хранителе какого-то великого наследия, вершителе какой-то великой миссии. А у римлян этой грезы не было — была только могучая военная техника, могучая экономика, громадная территория…
Многократно, по-современному ускоренными темпами подобная история развернулась, можно сказать, на наших глазах. Был великий Советский Союз, державший под своей десницей десятки народов, и рассыпался в одночасье. И что самое удивительное — никакого пребывающего в рассеянии народа «советские люди» почти не сохранилось, а покоренные ими чеченцы, изгнанные с родины предков…
Народ сохраняют не территории, не богатства и не военная техника, народ сохраняют коллективные грезы, ни на чем серьезном не основанное коллективное мнение о себе как об огромной драгоценности, допустить исчезновение которой ни в коем случае нельзя. Поэтому всякий народ, которому действительно грозит исчезновение, должен прежде всего позаботиться об укреплении своих коллективных грез, ибо их укрепление — это и есть национальный подъем, а их ослабление — национальный упадок.
В этом и заключается экзистенциальная, историческая миссия культуры — она должна укреплять и развивать воодушевляющие коллективные фантазии, поддерживать в людях ощущение включенности во что-то прекрасное и бессмертное.
Но грезить о себе, когда в собственных глазах ты прекрасен, а в чужих мерзок, не только до крайности трудно, но и до крайности опасно, — очень скоро придется возненавидеть все человечество, не разделяющее твоего самоощущения, и внушать уважение к себе жертвенностью и террором. Гораздо надежнее творить реальные дела, способные поразить не только твое собственное, но и чужое воображение. И Советский Союз такие дела творил. Да, в пропагандистских, милитаристских целях, но творил — вышел в космос, открыл дорогу великолепным ученым, спортсменам, музыкантам, и пресловутая ностальгия по империи — это прежде всего не ностальгия по страху, который она внушала миру, а ностальгия по чувству причастности к чему-то великому и бессмертному.
Интересы индивида и социума не так уж и расходятся, ибо и государство, и личность питаются от одной энергетической системы — системы коллективных фантазий. Я готов с цифрами в руках показать, что алкоголизм, преступность, наркомания, самоубийства в огромной степени порождаются общей причиной — упадком коллективных иллюзий.
«Государство должно служить воображению, ибо человек и есть прежде всего его воображение», — примерно так можно сформулировать набросок новой политической парадигмы. Однако осуществить ее — систематически поражать воображение — невозможно без возрождения национальной аристократии, под которой я понимаю, разумеется, не графов и не миллиардеров, но творцов и служителей коллективных наследственных мечтаний. Еще раз подчеркиваю: я определяю аристократию не через богатство или место в государственной иерархии, но исключительно через преданность каким-то наследственным мечтам. В идеале, аристократы, когда у них появляются возможности, творят великие дела, порождая во всех остальных чувство и собственной неординарности, и собственной долговечности. Которое в своей стране возникает несопоставимо легче, чем в чужой. Иллюзию причастности к подвигам своих предков и соотечественников пробудить гораздо проще, чем к подвигам чужих.
Идентификация с ними и есть патриотизм. Гордиться подвигами, сострадать несчастьям, стыдиться и желать искупить падения, отодвигая собственные злободневные нужды, взирая на них с точки зрения если уж не вечности, то долговечности…
Подобные чувства сегодня расхожий либеральный гуманизм заклеймил бы как антидемократические, ибо демократично лишь то, что служит повседневным нуждам так называемого простого, массового человека; беспокоиться же о том, что оставит след в вечности, то есть в умах потомков, есть не что иное как аристократическая блажь. На это я могу возразить только одно: подобная трактовка гуманизма и демократии основана, в сущности, на отказе считать простых людей людьми. Слабость прагматического взгляда на человека вовсе не в том, что он низок или оскорбителен, — слабость его в том, что он чрезвычайно далек от истины. Прагматический взгляд на человеческую природу исходит из той посылки, что для человека физические ощущения неизмеримо важнее, чем душевные, психологические переживания. Тогда как дело обстоит скорее обратным образом.
Кто спорит, достаточно продолжительная пытка болью, голодом, страхом почти каждого заставляет рано или поздно забыть обо всех высоких фантазиях и мечтать только об одном — чтобы пытка прекратилась. Однако это вовсе не означает, что пытка вскрывает истинную сущность человека — пытка вовсе не обнажает, но убивает человеческую суть. А потому я предлагаю посмотреть на сегодняшние проблемы, с точки зрения того, какой след они оставят «в вечности», как они будут выглядеть в глазах потомков. Вполне возможно, наши ответы со временем превратят набросок новой парадигмы в реальную политическую программу.
Долговечным бывает только то, что поражает воображение, а в веках живут вообще одни лишь легенды. Поэтому, если Россия хочет жить долго («вечно»), ей абсолютно необходимы люди-легенды, события-легенды. Те, кого действительно ужасает стон «Россия погибает!», должны признать первейшей задачей культурной политики формирование национальной аристократии, расширение круга людей, мечтающих поражать воображение, свое и чужое, и этим оставить след в памяти потомков. Для этого необходимо всемерное расширение, особенно в провинции, сети школ для наиболее одаренных и наиболее романтичных в науке, искусстве, в спорте, в военном деле... Впрочем, одаренность и романтичность часто одно и то же.
Так что же, вознегодует радикальный гуманист, простые люди, равнодушные к вечному и долговечному, должны снова служить сырьевым ресурсом творящих историю «великих личностей»? Отвечаю: не нужно жалеть простого человека больше, чем он жалеет себя сам. Разве не самые что ни на есть простые люди первыми голосуют за фашистов и коммунистов, сулящих им национальное и классовое величие? А эти российские язвы — пьянство, наркомания, бессмысленные убийства, самоубийства, — им что, больше всех подвержены какие-то аристократы духа? От невыносимой бессмысленности, бесцельности бытия страдают прежде всего люди ординарные, именно их в первую очередь убивает отсутствие хотя бы воображаемой причастности чему-то впечатляющему и долговечному.
Если смотреть с точки зрения вечности, между властью, аристократией и простым народом нет никаких непримиримых противоречий — они все не могут обойтись друг без друга. Медный всадник, попирающий маленького человека, — конечно, необыкновенно мощный образ. Но я уже не раз обращал внимание: Медный всадник еще и гениальное произведение искусства, к которому со всего света тянутся туристы. И потомки бедного Евгения из Читы и Чухломы считают делом чести сфотографироваться у каменной волны его постамента…
Ибо и у власти, и у аристократии, и у рядового человека есть общий могущественный враг — ощущение ничтожности и бессмысленности существования. И Медный всадник не только требует жертв — он еще и открывает гению путь к бессмертию, а жизнь обычного человека наполняет смыслом и красотой. Гений и толпа перед зданием Сената протягивают друг другу руку.
Именно гении наделяют жизнь толпы смыслом и красотой. Ориентация российской культуры и образования на взращивание гениев соединила бы в себе гуманизм с государственной целесообразностью. Пушкин и Чайковский, Менделеев и Левитан способствовали душевному комфорту россиян и территориальной целостности России никак не в меньшей степени, чем душевое потребление колбасы и жилплощади.
Влияние науки и культуры всегда было основано не на их электоральной силе, а на обаянии. Вернуть им былой авторитет — как и вообще внушить людям какие бы то ни было чувства, не приносящие лично им никакой материальной выгоды — хотя бы в какой-то мере способно только искусство. Обаяние «духа» было создано прежде всего поэтами в широком смысле этого слова — людьми, умеющими изобразить духовную деятельность чем-то прекрасным и возвышенным. Я склонен думать, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Воспевать достижения «духа» должны сами аристократы духа, по мере сил освобождаясь от занудства. Боюсь, правда, что эта мера окажется весьма и весьма недостаточной и «духу» понадобится специальное пиар-агентство, в котором были бы сосредоточены мастера художественного слова и экрана, способные и понимать достижения науки и культуры, и увлекательно рассказывать о них.
Успехи науки и культуры — как раз те праздники, которыми при умелом преподнесении можно было бы встряхивать монотонное существование простого человека, а заодно вербовать новых романтиков. Но делается ли хоть что-нибудь в этом роде?
Всякое творчество питается прежде всего не деньгами, а бескорыстным восхищением, расходящаяся цепная реакция которого в конце концов и разрешается вспышками шедевров.
И вместе с всемирной славой гения резко вырастает престиж породившего его народа. Вырастить трех гениев в этом отношении выгоднее, чем удвоить ВВП. Кто, скажем, уважает Италию за ее средней руки достаток? А за Леонардо, Микеланджело, Ферми ее уважают, и еще как. Если вспомнить, что сегодня главной проблемой России на международной арене является недостаточный ее престиж в цивилизованном мире, а проблемой внутренней — неуверенность населения в достоинствах своей страны, легко прийти к практическому итогу: образовательная и культурная политика сегодняшней России должна быть направлена на производство гениев.
Соединив для этого усилия ученых и художников, которым в парламенте должна покровительствовать не демократическая, им не до того, но АРИСТОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ.
Однако, увы, нет такой партии, все клянутся лишь приверженности к демократии, то есть в верности не гениям, но толпе.
Риск открытого декларирования гениальности и аристократизма как высших социальных ценностей заключается еще и в том, что они могут вызвать отторжение у гуманистических демагогов. Но это же вызовет сплоченность аристократического меньшинства, которому на первых порах важнее всего оценить собственный размеры и возможности. Когда же это меньшинство будет организовано, оно вполне сумеет смыть пятно «антинародности» рядом разумных акций, прежде всего открывая ряды каждому, кто пожелает почувствовать себя неординарным, а затем даже и прямым отрицанием собственных лозунгов первоначального периода «бури и натиска».
Не исключаю, слово «аристократический» слишком сильно ассоциировано с сословным обществом и крепостным правом — тогда новое движение может быть названо ДВИЖЕНИЕМ КУЛЬТУРНОЙ ОБОРОНЫ.
Культурная оборона особенно важна в эпоху информационных войн, главная цель которых — разрушить у противника чувство собственной красоты, а следовательно и правоты. Сейчас в некоторых кругах, расходящихся уже и до казенных циркуляров, модно утверждать, что Россия не Европа, а особая цивилизация. Другие же круги дают отпор: нет, мы часть европейской цивилизации! Дискуссия не может иметь конца уже потому, что никакого общепринятого определения цивилизации не существует, а лично я считаю цивилизацией объединение культур, связанных представлением о совместной избранности, связанных системой общей экзистенциальной защиты. Поэтому провозгласить свою принадлежность к престижному клубу недостаточно — нужно, чтобы и члены клуба ее признавали. Но что, если одни члены ее яростно отвергают, а другие колеблются?
Тогда те из нас, кто настроен на конфликт, настаивают на особом пути России, а те, кто настроен на сотрудничество, настаивают на культурном сближении с Европой: ведь богатая чужая культура может только обогатить! Я тоже настроен на сотрудничество, но согласиться с этим аргументом не могу. Ибо, еще раз, главная миссия культуры — экзистенциальная защита, защита человека от чувства беспомощности в безжалостном мироздании. Так что любовь к чужой культуре бывает для нас продуктивна, когда она укрепляет нашу экзистенциальную защиту, и контрпродуктивна, когда ее разрушает.
Давным-давно в Корее среди знати был сверхпрестижен китайский язык. В результате Корея осталась без высокой национальной литературы. В России когда-то был сверхпрестижен язык французский. Однако Россия сумела выдвинуть национальную аристократию, способную выдержать культурную конкуренцию с Европой. Национальная аристократия и есть лучшее орудие культурной реконкисты, так что давно пора задуматься о широчайшей сети царскосельских лицеев, делающих ставку на самых одаренных и романтичных.
Когда народу его собственная жизнь представляется недостаточно красивой, он деградирует как целое, а частные лица, не имея эстетического допинга, пытаются добирать до нормы с помощью психоактивных препаратов, а то и кончать с собой. Но кто-то стремится слиться с победителями, а кто-то, наоборот, пытается отвоевать оружием то, что проиграно в мире духа: международный терроризм — арьергардные бои культур, проигрывающих на всемирном конкурсе красоты. На этом фоне национализм, стремящийся лишь отгородиться, а не уничтожить источник культурного соблазна, выглядит вершиной мудрости и кротости.
Когда влечение к более блистательным культурам начало разрушать еврейскую религиозную общину, главный идеолог российских сионистов Владимир Жаботинский, европейски образованный талантливый литератор, объявил первейшей национальной задачей освобождение от влюбленности в чужую культуру — унизительной влюбленности свинопаса в царскую дочь. Когда ассимиляторы возмущались, что он, мол, тянет их из светлого дворца в темную хижину, Жаботинский отвечал, что не надо изображать свое предательство возвышенными красками; разумеется, чем обустраивать родную хижину, приятнее перебраться в чужой дворец. Где, однако, вам не раз придется скрипеть зубами от унижения, ибо все дворцы обставлялись не для вас. Да, в нашей истории больше страданий, чем побед, но кто, кроме нас, среди этих ужасов сумел бы не отречься от своей мечты!
Это были типичные идеи изоляционизма и национальной исключительности. Но когда другие энтузиасты заговорили о некоем еврейском евразийстве — мы-де построим государство, вбирающее в себя черты и Запада, и Востока, — Жаботинский дал жесткий отпор. Какие черты Востока — отсутствие светского образования и демократии, порабощение женщины? Новый Израиль должен обладать всеми европейскими институтами, без которых не может быть национальной конкурентоспособности. И по мере становления государства идеологические крайности были оттеснены прагматическими задачами национального выживания, которые постепенно привели Израиль в клуб так называемых цивилизованных стран, а он как будто этого и не заметил. Ибо научился относиться к чужому суду, как и завещал Жаботинский, «с вежливым равнодушием». А если бы он твердил себе: «Мы европейская страна, мы европейская страна», — то каждый эпизод, который бы демонстрировал, что европейцы любят себя больше, чем евреев (а в политике такие эпизоды неизбежны, ибо национальный и цивилизационный эгоизм это норма), — каждый такой эпизод непременно вызывал бы волну ненависти.
Этот «особый путь» сионизма в чем-то неплохо бы повторить и России: лучше не стремиться в тот клуб, где тебя принимают не слишком нежно, чем сначала обожать, а после ненавидеть. Пусть лучше туда приведет общность исторических задач среди общих новых вызовов, средь коих довольно назвать вулканическую исламскую грезу.
Не нужно бороться ни за то, что мы Европа, ни за то, что мы не Европа, — нужно вообще освободиться от привязки к этому ориентиру, даже бешеное отрицание которого говорит о его опасной сверхценности в наших глазах.
Не говоря уже о том, что в России есть национальные культуры, которые уже никакими натяжками не отнести к европейскому клубу, — надо ли туда втискиваться ценой не только унижений, но и раскола внутри собственной страны? Нам следует, напротив, понимать российскую национальную аристократию как аристократию имперскую, объединяя в общем пантеоне максимально возможное число культурных святынь всех российских народов и народностей. Я бы даже облегчил наиболее одаренным и пассионарным представителям национальных меньшинств «путь наверх» — их присутствие в элите одновременно и укрепило бы экзистенциальную защиту меньшинств, и уменьшило бы число лидеров, способных возглавить всегда тлеющие национальные недовольства.
И не нужно бояться, что «национальные выдвиженцы» потеснят русских: нас слишком много, чтобы мы серьезно это почувствовали. А вот если мы вместо потенциальных внутренних недоброжелателей обретем друзей — это будет очень даже серьезным вкладом в культурную оборону.
Андрей Столяров, писатель, культуролог
Создать спрос на культуру
Должен сразу сказать, что «Проект…» произвел на меня сильное впечатление. По прочтении его возникает абсолютно ясное чувство, что никакой культуры у нас в России не будет. Разве что культура, как уже бывало не раз, выживет чудом — вопреки всем заботам о ней со стороны власти и государства.
Очень показательна в этом смысле стилистика документа. Призывая к защите и развитию русского языка, «Проект…», вместе с тем, демонстрирует такой тусклый и невнятный чиновничий волапюк, что начинаешь «плыть» буквально с первых же строк. Некоторые абзацы мне приходилось перечитывать по два-три раза, прежде чем удавалось понять — что именно авторы сего произведения хотели сказать. И в большинстве случаев выяснялось, что — ничего, просто набор словесных оберток, внутри которого — пустота. Это очень напоминает постановления партии и правительства позднего советского времени: те же самые «улучшить», «повысить», «создать все условия», «принять необходимые меры»… И результат, вероятно, будет точно такой же.
На мой взгляд, это вообще не проект: здесь нет ни конкретных идей, ни иерархии целей, ни механизмов их достижения. Это просто нагромождение благих пожеланий в духе мечты одного литературного персонажа, «что хорошо бы построить этакий мост через пруд, и чтоб сидели на нем купцы и продавали товары, нужные для крестьян». Единственный проектный смысл документа, который мне удалось уловить, сводится к следующему: надо дать всем по сто рублей (больше в бюджете нет), и тогда культура у нас расцветет. Это типичный чиновничий симулякр, имитация деятельности, не имеющей никакой связи с реальностью. Даже если где-то, в очень небольшом количестве мест, и пробиваются сквозь бюрократические напластования слабенькие былинки мыслей, то очевидно, что им будет не прорасти: почвы для этого нет. «Проекту…» можно поставить диагноз «интеллектуальная анемия». Или — «когнитивный ступор, осложненный канцелярскими сумерками души». Другого диагноза у меня для этого документа нет.
Мне представляется, что если уж создавать проект по «основам государственной культурной политики», то исходить он должен не из традиционных бюрократических координат, а из тех крупных реперов, которые формирует сейчас реальность.
В самом общем виде ситуация, на мой взгляд, может быть обрисована так. От конкуренции мировых религий (католицизма, протестантизма, ислама) через конкуренцию мировых идеологий (фашизма, коммунизма, либерализма) мы перешли к конкуренции мировых экономик, которая и определяет собой нынешний постиндустриальный ландшафт.
В современном мире царствует экономика. Она заменяет собою все — веру, идеологию, национальность, культуру. Впрочем, даже не заменяет, а создает из них собственный мировоззренческий композит.
Сейчас, когда в значительной мере дискредитированы обе предшествующие доктрины, либерализм и социализм, явочным порядком, как плесень, которая проступает всегда и везде, утверждается в мире совершенно новое глобальное мировоззрение, формирующее такую же новую онтологическую среду.
Данное мировоззрение можно определить как давосский дискурс.
Давосский дискурс — это культура менеджеров. Это культура людей, говорящих, вне зависимости от национальности, на одном и том же «деловом языке», придерживающихся одних и тех же поведенческих «деловых стандартов» и исповедующих одни и те же универсальные «деловые ценности».
Главный критерий этой среды — эффективность. В давосскую среду входит тот, кто умеет быстро и без лишних эмоций извлечь прибыль изо всего: из нефти, из демократии, из войны, из воздуха, из ничего. Никакие другие качества значения не имеют. Образованность, ум, культура, талант признаются лишь в том случае, если их сопровождает весомый денежный эквивалент.
Здесь своя ценностная шкала.
«Человек человеку враг», утверждал древний мир. «Человек человеку брат», провозгласило нарождающееся христианство. «Человек человеку никто», свидетельствует давосский дискурс и демонстрирует это повседневной практикой.
Если книгу читают все — это хорошая книга. Если все смотрят какой-то фильм — это хороший фильм. Если все покупают данный товар — значит это хороший товар.
Ни в коем случае не наоборот.
И никто не воскликнет наивно, по-детски, что «король-то голый»: книга плоха, фильм ужасен, товар никуда не годится.
А если даже воскликнет, его сочтут дураком.
Не может быть плохо то, что приносит доход.
Менеджеры — это элита среднего класса, это социальный ярлык той страты людей, которую ныне боготворят, как при социализме — пролетариат.
Средний класс — это наше все.
Это основа общества, фундамент устойчивого государства, законопослушный умеренный электорат.
Однако вспомним, что на другом языке средний класс — это мещане, то есть те, кто личное благополучие ставит превыше всего.
Мы вступили в царство мещан.
В эпоху активной, деятельностной посредственности.
В период обезличенного бытия.
Вот какой мир перед нами возник. Вот в чем заключается ныне глобальный вызов. И первоочередные задачи культуры, если уж рассматривать культурную политику как проект, следует формировать в рамках именно этих координат.
Что может Россия противопоставить «давосскому миру»? Если придерживаться вектора классической экономики, то — практически ничего. Со «вторичной индустриализацией» мы опоздали: для ее осуществления у нас уже нет ни средств, ни людей. К тому же следует иметь в виду одно принципиальное обстоятельство. В России более холодный климат, а также более длинные и трудные коммуникации, чем в большинстве индустриально развитых стран, нам всегда будет сопутствовать это дополнительное экономическое обременение. Производство в России всегда будет чуть менее эффективным, и если раньше, во времена автаркических экономик, это решающего значения не имело, то сейчас, в эпоху глобализации, даже ничтожная разница в стоимости производства постепенно вытесняет страну на хозяйственную периферию.
Опираясь исключительно на физические ресурсы, Россия всегда будет экономически отсталой страной. Иных перспектив у нее просто нет.
Однако история знает впечатляющие примеры, когда для развития были использованы ресурсы метафизические — особенности национальной культуры, вдруг обнаружившие высокую экономическую эффективность. В свое время, когда Япония вступила в период модернизации («революция Мэйдзи», 1868 год), обнаружилась на этом пути принципиальная трудность: в стране существовала специфическая каста воинов-самураев, которые, с одной стороны, никак не вписывались в модернизационный процесс, а с другой — представляли собой реальную силу, могущую пошатнуть, а то и свергнуть центральную власть. Был найден парадоксальный выход: самураев начали назначать исполнительными директорами (так бы мы определили эту должность сейчас) во вновь образуемые фирмы и предприятия. Каков был результат? Самураи привнесли в сферу управления этические характеристики комплекса «бусидо»: систему старшинства, безусловное исполнение долга, полное подчинение личных стремлений интересам этих предприятий и фирм. Возникло то, что ныне называется корпоративной культурой, и во многом благодаря именно ей выросли гигантские японские корпорации, «дзайбацу», известные всему миру.
Считается, что именно дзайбацу сделали возможным японское экономическое чудо: превращение отсталой средневековой страны в одну из главных индустриальных держав. Эффективность корпоративного стимулирования, применяемого в дзайбацу, оказалась настолько высокой, что во второй половине ХХ века ее начали интенсивно заимствовать американские и европейские фирмы.
А теперь поставим простой и ясный вопрос. Есть ли в русской национальной культуре нечто такое, что могло бы обеспечить России мощный экзистенциальный прорыв? Вывести ее из ступора сырьевой стагнации и открыть перед ней перспективный онтологический горизонт? На простой и ясный вопрос можно дать такой же простой и ясный ответ. Да, такое качество в русской культуре есть, и оно уже давно отрефлектировано национальной культурософией. Это склонность нации не к прагматике, а к метафизике, склонность «двигаться на звезду», способность ради большой и интересной идеи забывать о собственном материальном благополучии. Во всяком случае, отодвигать его на второй план.
Это специфика именно русской культуры, и таковой особенностью ее, как мне кажется, не следует пренебрегать.
Теперь опять обратимся к истории. Когда в 1866 году прусские войска разгромили армию Австрийской империи при Садове, канцлер Бисмарк сказал, что «эту войну выиграли немецкие учителя». Подразумевалось, что качественный уровень немецкого солдата был значительно выше австрийского, что являлось следствием немецкого школьного образования. Вспомним, что советская модернизация образования, то есть последовательный переход ко всеобщему начальному, всеобщему среднему и затем — к массовому высшему образованию породил пассионарную волну инноваций, длившуюся более полувека, вплоть до 1980-х годов. Советский Союз создал легендарный танк «Т-34», систему залпового огня «катюша», атомную и водородную бомбы, первым вывел на орбиту искусственный спутник Земли, первым запустил человека в космос… Вспомним также, что политические, экономические и военные успехи Соединенных Штатов не в последнюю очередь были обусловлены систематическим включением в американскую нацию образованных людей — эмигрантов со всего мира. Интересно, что когда та же Япония после поражения во Второй мировой войне поставила перед собой задачу догнать (и перегнать) западные страны по уровню экономического развития, то акцент в культурной ее политике был сделан именно на образование. И аналогичную акцентированную образовательную политику проводил Тайвань в период своего бурного экономического роста.
Вот тот ресурс, который необходим современной России, и задействовать этот ресурс может только целенаправленная культурная политика государства.
Бессмысленно, на мой взгляд, как это предлагается в обсуждаемом здесь «Проекте…», «просто так» финансировать издательства, театры, библиотеки, выставки, художественные галереи. Кто туда будет ходить? Я иногда бываю в художественных галереях и что-то не замечаю там жаждущих толп, кроме, разумеется, приятелей автора, вынужденно пришедших на презентацию. Та же самая ситуация с чтением журналов и книг. Читать серьезную и качественную литературу будет только образованный человек. А тот, кто соответствующего образования не получил, пойдет на футбол или включит очередное идиотское телешоу.
Задача государственной культурной политики — формировать не предложение, масштабы которого и так избыточно велики и которое, будем откровенны, под маркой искусства часто предлагает всяческий суррогат, а создавать обширный и качественный спрос на культуру — формировать страту людей, не мыслящих вне культуры полноценного человеческого бытия.
Правда, формирование такой страты требует аксиологической трансформации. Вместо давосской идеологемы «быть успешным — это значит быть богатым», которая постепенно внедряется в национальное сознание россиян, необходима идеологема «быть успешным — это значит быть умным и образованным», а богатство (накопление денежных знаков) — не та ценность, которой стоит посвящать свою жизнь.
Вот какова, на мой взгляд, сейчас главная задача государственной культурной политики — выдвинуть на первое место образование и интеллект. Все остальное должно быть ориентировано на нее. И лично мне представляется, что никакой другой перспективы у нас нет.
Максим Шевченко, журналист
«На русской культуре можно основать братство, но нельзя государство»
1. Главные цели государственной культурной политики Российской Федерации это:
— содействие развитию собственно культуры во всех ее аспектах (искусство, музейная деятельность, книгопечатание, исследования и т.д.). Считаю, что государство не должно запрещать современные актуальные формы искусства, но и не обязано поддерживать то, что не считает правильным или внятным. Искусство развивается благодаря поддержке. Особенно современное и актуальное. Государство не должно препятствовать развитию рынка современного искусства и инвестициям в него;
— содействие культурному развитию каждого гражданина РФ согласно его запросам и потребностям. Государство не должно запрещать поиски и эксперименты, но не обязано их пропагандировать. Государственная политика должна быть направлена на пропаганду ценностей личного культурного развития в интересах развития общего — свободы, ответственности перед обществом, поиска справедливости, приоритета творческого труда над бессмыслицей потребления. То есть всего того, что изначально свойственно нашим народам;
— содействие развитию народов Российской Федерации как уникальных и неповторимых этно-культурных общностей. Каждый народ РФ, независимо от его численности, дорог и в равной мере ценен для нашей страны. Госполитика обязана учитывать интересы всех народов в равной мере и создавать возможности для выгодных инвестиций в их культурное развитие.
2. Культура всегда есть проявление человеческого перед лицом нечеловеческого — времени и истории с ее неизбежной смертью в конце. Культура есть способ защиты человека перед тем, что делает его лишь щепкой в водовороте событий. Культура выше информационных войн, которые являются лишь аспектом политики. Вопросы культуры (человеческое и нечеловеческое в их соотношениях) настолько выше всякого рода информационных войн и технологий, что задачи культуры в такие эпохи — хранить содеянное, постигать настоящее и творить ради будущего. Других задач у культуры нет и быть не может. Цивилизационные разломы — вещь условная, равно как и цивилизация. Культура неизбежно будет разламываться вместе с цивилизацией. Но эти разломы плодотворны, если их не бояться и описывать их, фиксировать, направлять. Диалектика — сущность культурного развития. Кризис — источник творчества. Конфликт — основа сюжета. Как этого можно бояться? Культура жива, пока в ней нет страха. Иначе она, как и все человеческое, замыкается в себе и начинает полниться самовоспроизводящимися психозами. Умирает и энтропирует.
3. Существует заблуждение, что русская классическая культура якобы государственна. Почти все созданное в рамках госполитики романовской или сталинской империи — пусто, мертво, ходульно, дидактично. Русская культура — глубоко революционна. Она пронизана острым чувством поиска справедливости и смысла жизни. Даже консервативные творцы, по сути, бунтари — они не умещаются в государственные линии бюрократической империи. Русская культура всегда в поисках человека и его оправдания. Именно поэтому к ней так потянулись образованные представители других народов. Именно поэтому они так жадно впитывали ее гуманизм и экзистенциализм, находя в русских вопрошаниях и ответах о смыслах и путях человека, общества и мира важнейшие вехи собственного развития. Русская культура вся пронизана противостоянием человека Левиафану, государству. На русской культуре можно основать братство, но нельзя государство. Она не уместится в благоразумие бюрократии. Чиновники всенепременно начнут ее обкарнывать, укладывать в прокрустово ложе своих представлений о стройности государственного (всегда немного аракчеевского) мира. Поэтому если современное сознание будет формироваться именно на основе гуманистической русской культуры, а не на ее кастрированном суррогате (как обрезанный "Архипелаг Гулаг", например, изданный для верноподданической новой России, должно быть, по версии издателей и чиновников, должной любить голубые мундиры, околыши и величие власти во всех его чудовищных проявлениях), то это сознание не будет ни верноподданическим, ни государственническим. Проклятые русские вопросы вылезут из-под глыб законности и порядка и поразят "русских мальчиков" будущего в самые их сердца. Это неизбежно.
4. Культуру в социуме надо поддерживать сознательным и принудительным навязыванием ее хотя бы общих аспектов простому народу через доступные ему формы — в современном мире это, например, сериалы-экранизации, публичные культурные акции и т.д. Большинство людей реагирует на понятные и простые вещи и сюжеты. Искусство социальной интерпретации культуры, массовость ее — полезное дело, если существует не ради только наживы, но адресовано человеку и задачам его развития. Но элитарной культуре надо просто не мешать. Хотя бы потому, что мешать ей бесполезно. Подлинное все равно будет жить и развиваться, поскольку является одним из аспектов, проявлений человеческого в его полемике с нечеловеческим — смертью, временем, властью, верой и т.п. Культура имеет массу аспектов — и, в частности, антисоциальный аспект культуры также важен и значителен. Игра в бисер, непонятная и чуждая социуму, оказывается значимой для него спустя столетие. Культура не сводима к простым задачам обслуживания запросов социума. Иногда она отталкивается от ненависти к социуму и приходит к бегству из него и от него. Конечно, и в этом своем аспекте она будет рано или поздно социализирована — через включение в рынок, слияние объекта культуры с объектом торговли. Но такова диалектика общества и его развития.
5. Я считаю, что все учреждения культурной направленности должны получать базовую господдержку и иметь возможность свободного аккумулирования средств для собственного развития. Надо шире связывать их обязательствами с попечительскими советами, местным самоуправлением, регионами. Все формы развития хороши. Государство не должно мешать и по мере сил — поддерживать.
Опубликовано в журнале:
«Дружба Народов» 2014, №8
Судьбы двух империй
Лурье Светлана Владимировна — публицист, доктор культурологии, ведущий научный сотрудник Социологического института РАН (Санкт-Петербург), автор книг «Метаморфозы традиционного сознания», «Историческая этнология», «Психологическая антропология», «Империя как судьба» и др. В «Дружбе народов» публикуется впервые.
Восток как яблоко раздора
Весь XIX век прошел под знаком англо-русского соперничества на Востоке. Остроту этого соперничества можно понять, если учесть, что и русские, и англичане считали, что на карту поставлено само существование государства: «Англия должна быть первой среди наций и руководить человечеством или отказаться не только от своих владений, но и от своей независимости», — писала газета «National Review». Русские ставили вопрос так: «Или действовать решительно, или отказаться от своих владений в Азии... заключив государство в границах начала XVII столетия»1 . Англичане же, в свою очередь, слагали стихи о том, что «русские никогда не будут в Константинополе».
Главным стержнем английской политики была оборона Индии. Англичане были убеждены, что рано или поздно Россия посягнет на эту жемчужину британской короны. Так, генерал-майор У.Мак-Грегор просчитывает во всех деталях, буквально по дням, как русские могли бы завоевывать Индию. А генерал-майор сэр Г.Раулинсон в 1868 году довольно остроумно описывает стратегию действия русских на Востоке и предсказывает порядок их дальнейшего продвижения. Генерал Снесарев в раздражении назвал все рассуждения Раулинсона «белибердой», однако поход русских на Индию действительно обсуждался время от времени и обсуждался более или менее серьезно, хотя никогда не был делом окончательно решенным. Вместе с тем, предприятие казалось вполне выполнимым. «При благоприятных обстоятельствах сплав войск к воротам Индии не только возможен, но и удобен», — замечает И.В. Вернадский в статье «Политическое равновесие и Англия». Другие авторы откликаются на эти гипотетические рассуждения разумным вопросом: если мы завоюем Индию, что будем с ней дальше делать?
Тем не менее, француз Г. де Лакост едет на Восток, желая описать для европейской публики подробности ожидаемой смертельной схватки: «Я выехал из Парижа, проникнутый идеями, что фатальная борьба между китом и слоном неизбежна. В Турции, Туркестане, Кашгаре и Индии я собрал сведения, которые привели меня к заключению совершенно противоположному». Вывод де Лакоста вполне категоричен: «Столкновение бесполезно, и им выгодно путем дружелюбным согласиться на справедливый дележ». В последней трети XIX века тема о желательности примирения начинает звучать все чаще. Ведь соперничество «приблизилось к той стадии, когда соперники должны либо стать открытыми врагами, либо друзьями-партнерами»2 . В 1907 году между Россией и Англией было подписано всеобъемлющее соглашение о разграничении сфер влияния на Среднем Востоке. Необходимость срочного примирения диктовалась причинами внешнеполитическими (на восточную арену вступал новый игрок — Германия). Но велика была роль причин внутреннего характера. Их хорошо сформулировал М.Н. Аненков в предисловии к работе английского полковника Джона Эдея «Сатина. Горная экспедиция на границы Афганистана в 1863 году»: «Задача им и нам поставленная одинаково трудна: они и мы должны бороться с фанатизмом, невежеством, косностью, почти дикостью, и потому между ними и нами нет возможности найти повода к ссоре и даже к соперничеству. Нам предстоит одинаково трудная и одинаково дорогая работа в одном и том же направлении».
Казалось бы, ничего более несовместимого и представить невозможно. Столь различны были эти две империи — Российская и Британская, не только по истории своей, но и по духу, по смыслу своему, по реальности, которую они создавали в своих пределах, что трудно представить себе задачу, которую им бы пришлось решать в сходном направлении и испытывать одни и те же трудности. При всем при том, сходства между российской Средней Азией и британской Индией гораздо больше, чем представляется на поверхностный взгляд.
Что есть империя?
Но прежде, чем продолжить, следует сказать несколько слов о теоретических основах этой статьи.
Выделяют два вида империализма: миссионерский и коммерческий. Ни Российская империя, ни империи западно-европейских стран XIX века не представляли собой тот или другой в чистом виде, так что разделение достаточно условно. Можно выразить его несколько иными словами: территориальная экспансия может быть культурно-детерминированной и прагматически-детерминированной. Я предлагаю обозначить культурно обусловленную экспансию (когда народ, сознательно или неосознанно, преследовал ту или иную идеальную цель, по крайней мере, наравне с прагматическими, экономическими и военно-стратегическими целями) как имперское действие, а прагматически обусловленную, как империалистическое действие.
В этой статье речь пойдет исключительно об имперском действии, экономических вопросов формирования империи я касаться не буду.
Обычно под словом «империя» историки и политологи понимают конгломерат территорий, имеющий те или иные формы институциализированных связей, сложившиеся в ходе экспансии какого-либо народа. Однако, на мой взгляд, было бы правильнее относить слово «империя» к результату не прагматически-детерминированной, а культурно-детерминированной экспансии. Я признаю, что провести четкую грань между «результатом имперской экспансии» и «результатом империалистической экспансии» невозможно как потому, что идеальные мотивы экспансии в жизни часто переплетаются с экономическими, так и потому, что экспансия, внешне представляющаяся сугубо прагматически-детерминированной, на самом деле может иметь глубокие идеально-культурные корни (как в случае британской экспансии XIX века).
Чтобы понять ценностное основание той или иной империи, следует обратиться к ее зарождению, к той ценностной доминанте, которая дала ей импульс. Можно возразить, что этот первоначальный импульс может восприниматься рядом последующих государственных деятелей как анахронизм, в то время как империя занимает свое собственное место в традиции народа, существует как «вещь в себе». Действительно, не все в политике империи является следствием ее центрального принципа. Так, русская государственность складывалась под сильным ордынским влиянием. В XVIII — XIX веках Россия находилась под значительным влиянием Запада. Заимствовались некоторые государственные формы и методы управления, идеологии, популярные в то или иное время, все то, что можно было бы назвать международными культурными доминантами эпохи, которые зачастую грозили фатальным образом разрушить логику имперского строительства, заданную центральным принципом империи. Эта логика сохранялась порой уже не в силу личной ценностной ориентации конкретных государственных деятелей, а благодаря их «шестому чувству» — ощущению целостности и последовательности государственного процесса.
Земная копия Царства Небесного
Россия заимствовала у Византии, а через нее — у Рима практически все наиболее важные компоненты центрального принципа империи. (Думаю, нет смысла оговаривать, что в процессе русской истории некоторые из компонентов значительно трансформировались и получили внешнее выражение, более соответствующее эпохе и географическому положению страны.)
Наиболее характерная особенность Римской империи, которую признают за ней большинство авторов, — это ее универсализм. Рим претендовал на то, чтобы быть не просто государством, а государством вселенским, государством единственным во вселенной, совпадающим по своим масштабам со всем цивилизованным миром. Эту черту часто рассматривают как уникальную. Последнее, однако, неверно. Как неверно и представление, что уникальность Римской империи состояла в ее политическом изоляционизме: «Римская империя была результатом завоевания, которое было подобно скорее не империализму Афин или Александра, а древнему изоляционизму, который стремился распространиться на весь обитаемый мир, чтобы стать единственным во вселенной. Вследствие этого Рим никогда не рассматривал себя в качестве государства в современном смысле слова, т.е. как одно государство среди других государств»3 . Сочетание универсализма с изоляционизмом и сакрализацией общественно-государственной жизни было свойственно и другим имперским традициям — в частности Древнему Египту, Персии, и, конечно, китайской, которую можно считать классической имперской традицией, параллельной римской и практически равнозначной ей.
Особенность Рима состоит скорее не в имперском принципе, а в специфике его реализации. Что действительно отличало Римскую империю от ее предшественниц и современниц, это то, что ей действительно удалось совместить культурный универсализм и политический изоляционизм и реализовать их в своей практике — она и на самом деле была многоэтнической, превратившись в формацию, где этнические различия не имели никакого политического значения. «Политический порядок парил над этническим разделением, подобно тому как у нас цивилизация парит над национальными границами и не является поводом для шовинизма»4. Таким образом, была задана идеальная модель империи — в том, прежде всего, что касается формы. В Римской империи были заложены основные принципы внешней политики Византии с ее искусством управления народами.
В мировоззрении византийцев и всего византийского культурного ареала Римская империя занимала особое место. Она оставалась единой и единственной империей языческих времен, имевшей истинно религиозное значение как земной образ единого и единственного Царствия Божия.
В основе Византийской империи мы находим идею о том, что земная империя является иконой Царства Небесного и что правление императора есть выражение Божественного господства.
В своем идеале империя — это сообщество людей, объединенных идеей православия, то есть правильной веры, идеей правильного славления Бога, и таким образом преодолевших то разделение на языки, этносы, культуры, которое было следствием греха — попытки человечества самовольно достичь Небес, построив Вавилонскую башню. Поэтому так важен для византийцев универсализм, принципиальное презрение к иным культурам как к низшим. Через всю историю Византии красной нитью прошло неприятие идеологами империи (а их круг был широк, поскольку включал в себя монашество) любого национализма. В том числе и собственного, греческого, который, разумеется, всегда существовал в Византийской империи, особенно усиливаясь в периоды ее кризиса, но неизменно встречал противодействие со стороны ее православных идеологов. Многонациональность Византии имела для нее принципиальное значение. И прежде всего это относилось к православным: Византийская империя мыслила себя как единственное и единое государство всех православных народов.
Примечательно, что патриарх Фотий (около 820 — 889) писал как о подданных империи даже о русских, которые были политически независимы от Византии. В известном смысле он был прав. Русские признавали принцип православного универсализма и авторитет византийского императора, хотя и не были ему подвластны де-юре и со времен Ярослава не стремились себя ему противопоставлять. «Политическая мысль Византии, — пишет Д.Оболенский в книге “Связи между Византией и Русью в XI — XV веках”, — исходила из того, что император есть "космократ", чья власть, в идеале распространяющаяся на всю ойкумену — на весь цивилизованный мир, фактически охватывает те земли Восточной Европы, которые в религиозном и культурном отношении попадают в орбиту империи». Согласно византийской традиции, повиновение императору обуславливалось его православностью. Принцип православия главенствовал в империи — именно он определял легитимность любых ее установлений, именно он обеспечивал основание и для ее универсализма, и для ее изоляционизма.
Принцип изоляционизма определял и внешнюю политику Византии. По существу то, что обычно принято относить к сфере внешней политики, для Византии было политикой либо пограничной, либо внутренней. Что касается первой, то она достаточно хорошо известна. Византия сосредотачивала свое внимание на контроле над народами и племенами, проживающими вдоль ее границ. Окружающие империю народы рассматривались как «полезные» или «вредные» для империи. «Византийцы тщательно собирали и записывали сведения о варварских племенах. Они хотели иметь точную информацию о нравах “варваров”, об их военных силах, о торговых сношениях, об отношениях между ними, о междоусобиях, о влиятельных людях и возможности их подкупа. На основании этих тщательно собранных сведений строилась византийская дипломатия, или “наука об управлении варварами”. Главной задачей византийской дипломатии было заставить варваров служить Империи, вместо того, чтобы угрожать ей… Так одни варвары были оплотом Империи против других»5.
Более интересна другая сторона «внешней-внутренней» политики Византии — та, которую можно было бы назвать монашеской политикой. Результатом такой политики, как показал Г.М.Прохоров в книге «Повесть о Митяе», была Куликовская битва: идея решительного боя татаро-монголам вызрела в кругах византийского монашества. Тщательно изучавший данный вопрос о. И.Мейендорф полагает, что ее результатом было планомерное «взращивание» Московской Руси как оплота православия на Севере, а, возможно, и преемницы Византии. В монашеской среде, преданной идее универсальной империи, и вызревает постепенно принцип «Translatio Imperii» («Перенос империи». — ред.).
Первоначально эта концепция относилась к генезису Византийской империи и лишь в XIV веке стала относиться к России. «Идея простой Римско-Константинопольской преемственности к VI веку мало-помалу уступила место понятию более сложному, а именно, что Византия — это Рим новый и обновленный, призванный обновить Рим древний и падший. Эта концепция "Renovatio Imperii" («Возрождение империи». — ред.), которая достигла своего апогея между IX и XII веками и которая предполагала фигуру умолчания по отношению к германским императорам, была связана с идеей, что местопребывание империи было перенесено Константином из Рима в Константинополь. Здесь без труда просматривается понятие, выработанное в ходе дальнейшей эволюции — "Translatio Imperii", которая на своем последнем этапе расположилась в сердце России XVI века, идеологи которой утверждали, что после падения Константинополя Москва стала третьим и последним Римом»6 .
Два Рима пали, а третий стоит
Вплоть до Флорентийской унии — недолго просуществовавшего соглашения об объединении католических и православных церквей (1438—1439) — Россия чувствовала себя частью Византийского мира. До самого XV века народы, входящие в культурный ареал Византии, стремились эмансипироваться от греков, и «лишь Русь оставалась в стороне от этой тенденции, сохраняла преданность Византии, решительно поддерживая… руководство византийской церкви»7, несмотря на все раздирающие империю на части центробежные тенденции.
После падения Константинополя в 1453 году русским представлялось, что они остались единственным православным народом в мире. Именно в это время псковский монах Филофей и написал свое знаменитое: «два Рима пали, а третий стоит, четвертому же не бывать», ведь утеря вверенного русским на хранение Сокровища веры означала бы «гибель истинного благочестия во всей вселенной и воцарение на земле Антихриста».
Россия переняла у Византии традицию универсализма и изоляционизма не механически, а пережила ее как собственный драматический опыт. Для Рима эта традиция была почти естественна (отношения с современными ему империями Востока у Рима были малоинтенсивны, от них легко было абстрагироваться). Более или менее естественной она была даже для Византии, которая могла позволить себе временами абстрагироваться от Запада, а временами считать его варварским, равно как и Восток, и строить свою внешнюю политику прежде всего как приграничную политику, формирование буферной зоны. Однако Россия изначально была государством среди других государств и вела активную и отнюдь не только приграничную политику как на Востоке, так и на Западе. Конечно, в отношениях с татарами, а позднее в своей восточной политике — в ходе соперничества с Англией Россия создавала буферный пояс, но происходило это совсем при иных обстоятельствах, и функция этого пояса в то время оказывалась совсем иной. Россия не стремилась отгородиться от мира еретиков и варваров. Избегая крупных военных столкновений, она пыталась расширить пределы своего влияния, используя буферные образования как препятствие для распространения влияния конкурента — то есть речь шла об использовании буферов как орудия в межгосударственных отношениях. Русский изоляционизм был чисто психологическим, но от этого не переживался менее остро.
Психологическая самоизоляция России не могла не вести и к тому, что актуальной составляющей российского имперского комплекса стал универсализм — мир неправославный воспринимался, конечно, не как варварский, но как погрязший в грехах и заблуждениях и по сути не было бы большим преувеличением сказать, что границы России очерчивали в ее представлении почти весь цивилизованный мир, то есть мир, сохранивший благочестие и неподдающийся власти дьявола.
Чем, собственно, была в этом смысле империя? Это инструмент ограждения православного и потенциально-православного пространства и механизм поддержания внутри него определенной дисциплины, как бы в очень ослабленном виде — порядка внутри монастыря. И это, собственно, не столько инструмент экспансии, сколько своего рода оборонительный инструмент, призванный закреплять то, что было достигнуто иным путем, защищать от внешних посягательств и внутренних настроений. Однако задачей государства было также и расширение зоны потенциального православия, хотя вплоть до XVIII века Россия не знала миссионерства как целенаправленной государственной деятельности (как не знала ее и Византия). Задачей государства было устанавливать границы Православного царства, а обращать туземное население в православие — это дело Промысла Божьего.
Примат религиозных мотивов над национальными и прагматическими обнаруживался в российской политике (прежде всего в южном направлении: Балканы — Афон — Константинополь — Святая Земля — Эфиопия) вплоть до начала ХХ века. Особенно отчетливо конфликт между религиозными (или религиозно-государственнными) началами и началами национальными проявил себя в ходе Балканской войны. Публицистика воспевала войну за освобождение единокровных славян и национальную идею, идеологи православной империи пытались оспорить национальную идею, а народ национальной идеи не понимал вовсе, продолжал воевать за свою веру, по-своему истолковывая сложные политические игры. Апелляция к единству кровному, племенному остается для крестьян пустым звуком. А.Н.Энгельгардт в «Письмах из деревни» писал, что, по мнению крестьян, «вся загвоздка в англичанке. Чтобы вышло что-нибудь, нужно соединиться с англичанкой, а чтобы соединиться, нужно ее в свою веру перевести. Не удастся же перевести в свою веру англичанку — война». Итак, Балканская война — война за веру, но война с Англией, у которой Турция только марионетка.
Россия сложилась как государство в эпоху, когда мир уже был поделен между так называемыми «мировыми религиями» и собственно активная миссия могла быть направлена только на те народы, которые оставались еще языческими. Можно было бы ожидать, что только эти территории и представляют для России реальный интерес. Однако специфический универсализм Российской империи выразился в том, что ее границы рассекали мусульманский, буддийский, католический и протестантский миры — регионы, где были приняты перечисленные вероисповедания, на общих основаниях входили в состав империи. Последняя как бы втянула в себя все разнообразие и все религиозные противоречия мира, стремясь «отыграть» их и победить внутри самой себя. И если гражданство Византии в значительной степени зависело от православной веры, то в России, где православие занимало не менее значительное место в государственной идеологии, гражданство и все связанные с ним права давались по факту проживания внутри границ империи как бы в преддверии обращения подданных в православие. Соответственно, от подданных прежде всего требовалось приобретение всех гражданских добродетелей в надежде на то, что обращение произойдет со временем, хотя бы лет через сто. Так, цель государственной политики в Туркестане была сформулирована его первым генерал-губернатором К.П.Кауфманом следующим образом: «Сделать как православных, так и мусульман одинаково полезными гражданами России».
Интересно отметить, что главным недостатком этой политики было именно то, что «русские» мусульмане рассматривались именно в контексте внутренних отношений Российской империи, почему и предполагалось, что они привыкнут к новым условиям, сойдутся с русским православным населением и в конце концов пожелают слиться с ним. Вовсе игнорировалось, что мусульмане остаются частью исламского мира, с которым при любых обстоятельствах они будут чувствовать свое единство и стремиться поддерживать отношения. Для русских психологически государственная граница как бы отсекала завоеванные регионы от остального мира, ставила непроницаемый барьер. Если Советский Союз ставил между собой и внешним миром «железный занавес», то Российская империя его не ставила, поскольку психологически имелось впечатление, что он возникает как бы сам собой, по факту картографических изменений.
Российская империя не имела идеологии, которая отражала бы изменившееся положение дел. Поскольку признавался факт «переноса империи», то подспудно оставалась актуальной византийская имперская идеологема. В XVI — XVII веках идея «Translatio Imperii» выражалась в виде очень популярной в то время легенды о «Белом клобуке» и «Сказания о князьях Владимирских». В XIX веке, когда подавляющее большинство русской образованной публики мыслило или пыталось мыслить в европейских категориях, трудно было найти подходящие слова или образы для выражения имперский идеологии Византии и идеи «переноса империи». Однако это не означает, что они потеряли свою актуальность. Вопрос имперской идеологии (в отличие от идеологии самодержавия) в России не обсуждался. Вместе с тем, сохранение и в XIX веке важнейших принципов имперского действия, унаследованных от Византии, указывает на то, что неявно проявлял себя взгляд на империю как на икону Царствия Божия, как на государство, имеющее мистическое основание, а потому являющееся уникальным, а не одним из многих государств мира.
Что касается императорской власти, то можно согласиться с мнением Л.Тихомирова: «У нас не столько подражали действительной Византии, сколько идеализировали ее, и в общей сложности создавали монархическую власть в гораздо более чистой и более выдержанной форме, нежели в самой Византии»8 . Это имело, однако, то следствие, что в России не установилась та «симфония» власти императора и патриарха, которая — по крайней мере, временами — достигалась в Византии. Так, скажем, русский царь не имел права голоса в догматических вопросах. Представления же об «имитации» царем божественной власти были развиты в России едва ли не более интенсивно, чем в Византии. Однако, как и в Византии, эта идеология оставляла принципиальную возможность цареубийства. Причем следует заметить, что если в Византии, с ее частыми государственными переворотами и слабостью системы правильного престолонаследия, эта возможность убийства неправославного императора воспринималась как вполне законная (об этом писал Константин Бaгрянородный), то в России, с ее идеальной монархией, эта идея существовала как бы в подполье, принимала извращенные формы, выражала себя в постоянных сомнениях народа в легитимности того или иного из правящих императоров и перманентно вспыхивающих по этой причине бунтах, а в конце концов — в убийстве Николая II, может быть, самого православного за всю историю России императора.
Что касается в целом государственного строя России допетровских реформ, то часто указывают на то, что он сложился под влиянием Золотой Орды. Этот взгляд не представляется вполне корректным. Многое в государственной идеологии и государственной структуре России, имевшее восточное происхождение, могло быть воспринято от Византии, которая являлась вполне восточной империей в смысле своего государствоцентризма. Во всяком случае, византийский дух не был препятствием к заимствованию у Золотой Орды отдельных (хотя и многочисленных) элементов государственной структуры. Они вполне вписывались в ту идеологему империи, которую Византия принесла на Русь.
Однако русские проигнорировали доставшееся Византии по наследству римское право. Но если когда-то само это право было основой для имперского универсализма, то с течением времени оно превратилось в декоративный атрибут и в конце концов отпало. Однако само совмещение принципов культурного универсализма и политического изоляционизма, впервые в полной мере воплотившееся в Древнем Риме, оставалось полностью актуальным в России вплоть до большевистского переворота, а, если рассматривать его с чисто формальной стороны, то и в течение последующих десятилетий.
Нелегкая ноша
Как мы говорили выше, имперское действие (в отличие от империалистического, которым руководит исключительно прагматика) определяется культурой. В культурной экспансии можно выделить две составляющие.
Первая из них — механизм освоения народом территории, специфическая для каждого этноса модель народной колонизации. Этот механизм связан, в частности, с восприятием заселяемого пространства и получает, если вообще получает, идеологически-ценностное обоснование уже постфактум. Он вытекает из «этнопсихологической конституции» народа, из комфортности для народа того или иного способа действия.
Вторая — центральный принцип империи, то идеальное основание, которое лежит в основании данной государственной общности. Это представление о должном состоянии мира. Центральный принцип империи всегда имеет религиозное происхождение и может быть выражен словами пророка Исайи: «С нами Бог, разумейте, народы, и покоряйтеся, ибо с нами Бог» (Исайя, 7, 18—19). Если «должное состояние мира» подразумевает ценность определенных государственных форм, а кроме того, обязанность распространять «должный порядок» на окружающий мир, то эта ценностная максима требует от принявшего ее народа имперского действия.
Имперские доминанты Рима, Византии и России во многом оставались схожими. При этом модели колонизации, модели освоения пространства, восприятия иноэтнического населения, свойственные народам этих трех империй, были различными. Не говоря уже о том, что и существовали эти империи в различные эпохи, в различном политическом и культурном окружении. Следовательно, каждый народ воспринимал имперскую систему, лишь минимальным образом адаптируя ее к своим этнопсихологическим особенностям и условиям существования. Скорее, он сам к ней приспосабливался. Система была для народа нелегкой ношей, жесткими рамками, в которые он сам себя (и других) ставил. Изучение истории империи невозможно без учета того, что каждый ее эпизод — это пример реализации (более или менее удачной) центрального имперского принципа в любых конкретных обстоятельствах.
С некоторой осторожностью можно утверждать, что имперская система во многих своих аспектах не зависит от этнической и психологической специфики. Индивидуальным является способ усвоения имперских доминант и пути их реализации. Последние связаны, в частности, с моделями народной колонизации, особенностями восприятия и освоения территории. Способ усвоения имперских доминант, психология их восприятия и интериоризации также безусловно связаны с особенностями народа, их принимающего. Тем не менее, центральный принцип империи является автономной составляющей имперского комплекса. Он определяет каркас здания империи — народная жизнь встраивается в него, подстраивается к нему. Более того, он требует определенного насилия имперского народа над самим собой, подавления собственных непосредственных импульсов и порой вступает в противоречие с механизмом народной колонизации.
«Колонизация — это экстенсивная сила народа, его способность воспроизводиться, шириться и расходиться по земле, это подчинение мира или его обширной части своему языку, своим нравам, своим идеалам и своим законам»,— писал в середине прошлого века француз Леруа Болье. Это в конечном счете попытка приведения мира в соответствие с тем идеалом, который присущ тому или иному народу. Причем идеальные мотивы могут порой преобладать над всеми прочими — экономическими, военными и другими. Во всяком случае, они постоянно проявляются в действиях державы, в ее отношении к другим народам: в том, как колонизаторы предопределяют судьбу той или иной страны, какого поведения требуют от завоеванных народов.
Что представляла собой Российская империя в ее идеальном образе? Она должна была заменить собой империю Византийскую, стать Третьим и последним Римом, единственным земным царством православия. Православие и было той идеей, которую должно было нести с собой русское государство, и включение в него новых и новых земель означало расширение пределов православного мира и увеличение численности православного народа. Таким образом, парадигмы религиозные и государственные сливались: государственная мощь империи связывалась с могуществом православия, а последнее в данном случае выражалось посредством державного могущества — происходила сакрализация государства. Русское переставало быть этнической характеристикой и становилось государственной: все, что служит процветанию православной государственности, является русским. И стало быть, понималось не так, что русские — православный народ, а наоборот: весь православный народ — русские, по имени православного государства. Эта мифологема не столько высказывалась вслух, сколько проявлялась через действия, поступки, реакции людей, строивших Российскую империю.
Но мифологема воплощалась в реальном мире. И в том пространстве, которое возникало между мифологемой и жизнью, разворачивались такие события и отношения, которые создавали для носителей имперской идеи не только внешние, но и глубокие внутренние конфликты. Это естественно, поскольку имперское строительство — процесс непростой и противоречивый. Создание империи состоит в перманентном преодолении конфликтогенных ситуаций.
Явление внутреннего быта
История России есть «история страны, которая колонизируется», — такое определение дал русский экономист, автор работ по вопросам земплепользования и землевладения в Сибири, аграрным общинам, переселенческим вопросам, статистике А.А.Кауфманв книге «Переселение и колонизация». Определение, вне всякого сомнения, верное. Так, переселение из Рязанской губернии началось уже в то время, когда многие из селений здесь не имели вполне устойчивого вида, когда вообще крестьяне далеко не прочно осели еще на местах своей оседлости. Переселение из Курской губернии, по свидетельству земского сводного статистического сборника, началось как раз с того времени, когда закончился здесь процесс колонизации. И хотя массовые коллективные переселения не являются специфической русской чертой, но, как отмечает тот же Кауфман, «русские переселения существенно отличаются от аналогичных движений в Западной Европе тем, что они не имели характера эмиграции, то есть выселения из страны, а представляли собой простой переход с одного места жительства на другое… Новые территории, приобретаемые русскими, являются в полном смысле слова продолжением России».
Граница определяется передовой линией русских отрядов. Это восприятие мы встречаем и у Пушкина в его «Путешествии в Арзрум». «Вот и Арпачай,— говорит мне казак.— Арпачай! Наша граница… Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видел я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное… И я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег уже был завоеван. Я все еще находился в России».
Русский путешественник по Средней Азии Евгений Марков описал замечательную сцену, как русские крестьяне-переселенцы едут в только-только занятый нашими войсками Мерв: «Смелые русаки без раздумья и ничтоже сумняшись валили из своей Калуги в Мерву, как они называли Мервь, движимые темными слухами, что вызывают сюда в “забранный край” народушко российский на какие-то царские работы»9. Надеются крестьяне, что будут возмещены им потраченные на дорогу деньги и даны особые государственные льготы. А льгот никаких и в помине нет, и никто в новом «забранном» крае переселенцев не ждет, тем более не зовет...
Эта сцена очень типична. По мере продвижения русских войск в юго-восточном направлении занятые земли очень быстро заселялись русскими крестьянами. Напор колонизационного движения кажется поистине удивительным. Первые крестьянские просьбы о переселении в Сыр-Дарьинскую область относятся еще к 1868 году — году завоевания. В том же 1868 году, непосредственно после завоевания, первые русские колонисты переселились в Семипалатинскую область: 242 семьи из Воронежской губернии прибыли в Верный. Что же касается других регионов Средней Азии, то к 1914 году 40 процентов населения Киргизской степи и 6 процентов населения Туркестана, очень густо заселенного, составляли русские, в большинстве своем земледельцы. «Скорость, с которой русские крестьяне и другие колонисты заселяли районы, присоединенные с помощью силы, заставляла стираться грань, отделявшую колонии от метрополии»10 .
Как указывал А.Кауфман в упомянутом уже исследовании русской крестьянской колонизации, массовые переселенческие движения России, в отличие от Западной Европы, «были издревле и остаются до сих пор явлениями внутреннего быта».
Однако это «явление внутреннего быта» имело очень своеобразный характер, а именно — в каких бы формах оно ни выражалось, оно имело характер бегства от государства (вызванного в конечном счете постоянным конфликтом между крестьянским миром и государственными структурами). По точному замечанию историка Л.Сокольского, бегство народа от государственной власти составляло все содержание народной истории России. Вслед за народом шла государственная власть, укрепляя за собой вновь заселенные области и обращая беглых вновь в свое владычество. Начиная с первого правительственного указа озапрещении переселений и утверждении застав (1683 год), первыми его нарушителями «были царские же воеводы, о чем хорошо знало и центральное правительство. Воеводы вместо того, чтобы разорять самовольные поселения… накладывали на них государственные подати и оставляли их покойно обрабатывать землю».
Это естественно, поскольку «нигде русское движение не было исключительно военным, но всегда вместе с тем и земледельческим»11 . Но при всей важности для государства народной колонизации, без которой казенная колонизация не имела бы поддержки, государство словно бы ведет с переселенцами игру в «кошки-мышки». Как рассказывает П.Хворостинский в книге «Киргизский вопрос в связи с колонизацией степи», вплоть до XX века «переселенец тайком бежал с родины, тайком пробирался в Сибирь по неудобным путям сообщения». До конца 80-х годов XIX века «ходоки и организаторы мелких переселенческих партий приравнивались к политическим агитаторам и выдворялись на родину по этапу».
Когда же государство, наконец, разрешает переселение официально, оно все-таки не управляет процессом. Исследователь переселений начала XX века Д.Драницын продолжает говорить о «вольной колонизации»: «От тундры до пустыни идет вольная русская колонизация; я говорю "вольная", так как дело Переселенческого Управления сводится к неполному удовлетворению спроса».
Поскольку колонизация зачастую оставалась «вольной», то переселенцы в новых «забранных» краях были в большинстве случаев предоставлены сами себе и успех предприятия зависел, в частности, от «их умения и средств входить в сделки с аборигенами». В литературе описывается, в качестве типичной, следующая модель образования русских поселений: «Влиятельный киргиз привлекает или из жалости принимает два-три двора, входит во вкус получения дохода за усадьбу, покос или пашню деньгами или испольной работой, расширяет дело все более и более, пока заимка не превращается в поселок из 20-30 и более дворов»12 . С другой стороны, описывая историю русских поселений, автор начала XX века отмечает поразительное упорство, с которым крестьяне отстаивали свое право жить на понравившейся им земле: «Первые годы, незнакомые с условиями жизни, переселенцы [в Муганскую степь, Закавказье] страшно бедствовали, болели лихорадкой и страдали от преследований туземцев, но с течением времени они понемногу окрепли и в настоящее время Петропавловское является зажиточным селением».
Русские крестьяне неуютно чувствовали себя только там, где сталкивались с туземными народами, обладающими собственной развитой культурой и национальным чувством, как это было в Закавказье или, например, в Приамурье, где китайцы жили абсолютно изолированно от русских (в отличие от корейцев, легко поддававшихся ассимиляции), и отношения между двумя этническими общинами были напряжены до крайности. Русский человек не чувствует себя господином над аборигенами, в каких-то ситуациях он может без всякого душевного надлома пойти в услужение к богатому туземцу. Но всякое проявление национальной обособленности, национального чувства для него дискомфортно, как нарушение общегосударственной однородности. По мере возможности он стремится нейтрализовать его.
Бегство от государства
Что же толкало русских крестьян оставлять насиженные места и отправляться на Кавказ, в Закаспийскую область, Туркестан, Сибирь, Дальний Восток?
С точки зрения мотивации переселения можно выделить четыре основных потока. Во-первых, казачья колонизация, механизм которой мы рассматривать не будем: психология казачьей колонизации является отдельной темой. Другое дело, что вслед за казачьей военной колонизацией тянулись толпы крестьян великороссов и малороссов, которые заселяли казачий тыл.
Второй поток — насильственная колонизация. Это ссыльные, в частности, крестьяне-сектанты, которые выдворялись из центральных губерний России.
Третий поток колонизации можно назвать «бегством». На протяжении всей русской истории потоки людей выселялись на пустующие земли. Люди уходили от государства. Напор народной волны был столь велик, что даже с помощью крепостного права и других многочисленных мер сдержать его было нереально.
И, наконец, четвертый поток это полуорганизованное крестьянское переселение конца XIX — начала XX века, направленное и в Сибирь, и во вновь занятые области.
Традиционно, в качестве главной причины крестьянских переселений называется безземелье, но исследователи переселенческого движения отмечали, что среди переселенцев очень сильно преобладали сравнительно хорошо обеспеченные землей государственные крестьяне. Кроме того, безземелье — это причина постоянно действующая, переселения же носили «эпидемический характер», когда, как пишет А.Кауфман, «“вслед за людьми” с места снимались сотни и тысячи семей, для которых переселение не было вызвано никакой разумной необходимостью, никаким сознательным расчетом». Этот тип переселения также чрезвычайно походил на бегство, тем более, что крестьяне очень плохо представляли себе те места, в которые ехали, довольствуясь легендами о них. И даже когда правительство пыталось заставить крестьян засылать на места будущего водворения ходоков, которые могли бы оценить место и выбрать удобный участок, массы крестьян зачастую срывались целыми семьями, а иногда и деревнями, и ехали в места им неизвестные.
Но если учесть почти нелегальный характер русской колонизации, отсутствие реальной заботы о переселенцах, парадоксальными представляются народные толки и слухи, сопутствующие массовым переселениям конца XIX — начала XX века, которые очень походили на бегство и сплошь и рядом были несанкционированными. В них очень отчетливо присутствовал мотив государственных льгот для переселенцев. Эти толки показывали, что крестьяне в каком-то смысле понимали, что служат государству, от которого бегут... Так, Кауфман рассказывает, что «среди сибирских переселенцев многие ссылались на выставленную в волостном управлении бумагу, какой-то “царский указ”, приглашавший якобы переселяться; эта бумага оказалась циркуляром… имевшим целью удержать крестьян от необходимости переселения… В Могилевской губернии в 1884 году на рост числа переселений сильно повлияло опубликование правил переселения, весьма стеснительных. Действие этой ограничительной по цели публикации было весьма неожиданным: со всех концов губернии в Могилев потянулись люди, чтобы получить разрешение на переселение. Одно слово, исходившее от властей, вызвало пожар. Пошли обычные фантастические толки, что государыня купила себе в Сибири большое имение и вызывает теперь крестьян». Любая официальная бумага, в которой упоминалось слово «переселение», истолковывалась как клич царя, обращенный к православному народу: переселяйтесь.
Итак, модель русской колонизации может быть представлена следующим образом. Русские, присоединяя к своей империи очередной участок территории, словно бы разыгрывали на нем мистерию: бегство народа от государства — возвращение беглых вновь под государственную юрисдикцию — государственная колонизация новоприобретенных земель. Так было в XVII веке, так оставалось и в начале XX: «Крестьяне шли за Урал, не спрашивая, дозволено ли им это, и селились там, где им это нравилось. Жизнь заставляла правительство не только примириться с фактом, но и вмешиваться в дело в целях урегулирования водворения переселенцев на новых землях»13 .
Для русских, вне зависимости от того, какие цели ими движут и каковы их ценностные доминанты, арена действия — это «дикое поле», пространство, не ограниченное ни внешними, ни внутренними преградами. Освоение территории происходит посредством выбрасывания в «дикое поле» определенного излишка населения. Этот излишек на любом новом месте организуется в самодостаточный и автономный «мир». «Мир» и является субъектом действия, в частности — субъектом, осваивающим территорию, привычным «мы». На более высоком уровне это «мы» переносится на весь народ, но только таким образом, что сам народ начинает восприниматься как большой «мир».
В своей первоначальной форме русская колонизация представляла собой как бы наслоение «чешуек», участков территории, находившихся в юрисдикции отдельных «миров». Видимо, эта «чешуйчатая» структура пространства и характерна для русского восприятия. Так, большие «чешуйки» наращиваемой посредством военной силы территории в идеале должны были тут же покрываться мелкими «чешуйками» территорий отдельных русских «миров» — «дикое поле» осваивается, интериоризируется путем того, что приобретает «чешуйчатую» «мирскую» структуру. Этим объясняется и напор крестьянской колонизации даже в тех краях, которые по своим природным условиям, казалось бы, были не пригодны для оседлости русского населения. Уточним также, что в качестве «дикого поля» воспринималась народом любая территория, которая могла рассматриваться как потенциально своя: ее прежняя структурированность игнорировалась — будь это племенное деление территории или границы древних государственных образований. Признавались в какой-то степени лишь права туземной общины (если таковая имелась) — то есть та структурированность территории, которая приближалась к «мирской» — и ничто больше.
«Свое» население и проблемы ассимиляции
Государственная политика в вопросе колонизации в целом перекликалась с народным сознанием. Она определялась потребностью в заселении окраин как способе упрочнения на них русского господства. «Правительство заботилось о создании на окраинных землях земледельческого населения, пользуясь для этой цели и ссылкой, и “накликом свободных хлебопашцев”, которым предоставлялись различные льготы и пособия и давались в пользование земли… Попутно с этой правительственной колонизацией шла "вольная колонизация"… Истинная основа жизни должна была лечь, когда в землю завоеванных стран упало первое зерно завоевателя», — пишет А. Кауфман в «Переселении и колонизации».
Обычно правительство не прибегало к дискриминации инородцев, которые были для него «своими» гражданами империи, вплоть до того, что иногда местная администрация, пекущаяся прежде всего о «вверенном ей населении», сама «являлась одним из существеннейших тормозов, задерживающих переселение (русских) в ту или другую окраину»14 . Однако администрацию менее всего интересовали этнографические особенности этого «вверенного ей населения». Туземцы просто делятся на «мирных», не противящихся русской власти, выучивающих русский язык и отдающих детей в русские школы, и «буйных», оказывающих сопротивление. Так, во времена Кавказской войны все племена Кавказа «назывались одним именем — черкесов и кратко характеризовались даже в официальных бумагах как мошенники и разбойники»15 . Это отсутствие любопытства психологически объяснялось тем, что финал все равно был предрешен: каждый народ должен был рано или поздно слиться с русским или уйти с дороги, а потому исходная точка интересовала только специалистов.
Все «свое» население перестраивалось по единому образцу. Бывшие административные единицы уничтожались и на их месте создавались новые, «часто с совершенно искусственными границами и всегда, где это было возможно, с пестрым этнографическим составом населения». Расформировывалось местное самоуправление всех видов, система судопроизводства реформировалась по общероссийскому образцу, туземная общественная иерархия приводилась в соответствие с русской. Дворянство всех христианских народов приравнивалось в правах к русскому дворянству. Туземцы активно участвовали в местной администрации, порой обладая в ней очень значительным влиянием, становясь высшими государственными чиновниками и занимая высшие командные посты в армии; они вписывались в единую государственную иерархию и сами являлись «русской властью». «Лорис Медиков не армянский генерал,— восклицал публицист,— а русский генерал из армян»16. Создавалось единое административное пространство на всей территории империи.
Как это ни кажется удивительным, никакой идеологической программы колонизации, сопоставимой, скажем, с английской, где упор делался на то, что англичане несли покоренным народам просвещение и цивилизацию, в России не существовало. В специальных изданиях, посвященных теоретическим аспектам колонизации, рассматривались самые разные проблемы, но только не ее идеологическое обоснование. Видимо, в том не было нужды, оно подразумевалось само собой и основывалось на народной идеологии. Изредка повторялись трафаретные фразы о том, что Россия должна нести инородцам культуру, но обычно либо в весьма прозаическом контексте, где под культурой имелись в виду современные способы ведения хозяйства, либо в качестве упрека местной администрации — должна, но не несет: «За пятьдесят лет нашего владычества на Кавказе и за Кавказом, что мы, т. е. народ, сделали особенно полезного для себя и туземцев?»
Не было и разработанной методики колонизации. Если же колонизационные теории и появлялись, то они были удивительно неуклюжи и абсолютно неприемлемы на практике. Как отмечает публицист А.Липранди,«вся кавказская колонизационная политика являлась донельзя пестрой… Вероятно, не найдется во всемирной истории колонизации ни одного примера системы его, который не нашел бы себе подражания на Кавказе». Однако применение всех этих систем было кратковременным и мало влияло на общий уклад кавказской жизни. На Кавказе, так же как и везде в империи, колонизационная политика проводилась без всякой теоретической базы, на основании одной лишь интуиции; в основе ее лежала русская психология колонизации, о которой мы говорили выше, причем основные ее парадигмы проводились в жизнь чаще всего абсолютно бессознательно. Эти интуитивные методы могли быть самыми разнообразными. Гомогенность территории империи достигалась тысячью разных способов. И в каждом случае это было не правило, а исключение. «Имперская политика в национальном вопросе так же пестра и разнообразна в своих проявлениях, как пестро и разнообразно население империи. Те или иные имперские национальные мероприятия зависели от той или иной политической конъюнктуры, от того или иного соотношения сил, от тех или иных личных пристрастий и антипатий. Но цель всегда ясна: исключение политического сепаратизма и установление государственного единства на всем пространстве империи»17 .
Природная способность русских к ассимиляции обычно преувеличивалась и ими самими, и внешними наблюдателями. Причина этой ошибки состоит в том, что на многих территориях империи ассимиляция происходила быстро и почти безболезненно. Но так было не везде и не всегда. С психологической точки зрения, русские колонисты были чрезвычайно интровертны, замкнуты в себе и вообще не склонны обращать особое внимание на инородческое население. Исследователей поражала порой традиционная нечувствительность русских к национальным проблемам и их вполне искреннее неумение «воспринять национальное неудовольствие всерьез».
Когда же русские не наталкивались на обостренное национальное чувство, то вполне могла складываться картина, подобная той, которую описал английский путешественник Д.М.Уэллс: «В восточных и северо-восточных областях европейской России множество сел населены наполовину русскими, а наполовину татарами, но слияние двух национальностей не происходит… Между двумя расами существуют прекрасные взаимоотношения, деревенским старостой бывает то русский, то татарин». Более того, порой русские крестьяне начинали придерживаться того мнения, что «сколь абсурдно заставлять татар поменять цвет глаз, столь же абсурдно пытаться заставлять их поменять свою религию».
Итак, ассимиляцию нельзя считать элементом модели народной колонизации, но она была составной частью русского имперского комплекса, основанного на взаимодействии религиозной и государственной составляющих. Ассимиляция происходила на волне религиозного подъема, когда, по выражению автора «Кавказских очерков» В.П.Погожева, «связь русских пришельцев с инородцами-аборигенами прочно цементировалась восьмиконечным крестом». Слишком утрированно, но по существу верно, писал историк А.А.Царевский: «Мордва, татары, чуваши, черемисы и т.п. инородцы, даже евреи, с принятием православия на наших, можно сказать, глазах так естественно и быстро преображаются и приобщаются русской народности, что через два-три поколения трудно бывает и усмотреть в них какие-нибудь племенные черты их инородческого происхождения».
Но когда в том или ином регионе русский имперский комплекс испытывал дисбаланс, например, в результате преобладания этатистской составляющей над религиозной, ассимиляция не происходила, вопреки всем стараниям властей.
Именно это и случилось в Туркестане. В силу геостратегических и этнополитических особенностей региона религиозная составляющая русского имперского комплекса была отставлена на задний план. Как пишет русский путешественник в начале XX века, «особенно странно, что в этих новых “забранных местах” нет русского монаха, русского священника».
При такой установке, несмотря на множество мер (относящихся главным образом к сфере образования, в частности, к созданию русско-туземных школ), несмотря на массовость русской колонизации, ассимиляции не происходило, более того — в Туркестане были зафиксированы случаи, когда «некоторые коренные русские люди принимали ислам». В свете этого, довольно наивными представляются утверждения публицистов-русификаторов, что достаточно заселить тот или иной край русскими, и те автоматически будут влиять «обрусительным образом на окрестное население, установив с ним близкие отношения». На рубеже веков, когда этатистская составляющая имперского комплекса подавляла религиозную, когда посредством секулярного этатизма на русскую почву проникала националистическая идеология (которая, в противоположность имперской, исключает культурную экспансию), никакая массовая колонизация не могла интегрировать население страны.
Вместе с тем, интенсификация центрального принципа империи сама порой служила серьезным препятствием народной колонизации. Посмотрим, на примере Закавказья, какое влияние его реализация оказывала на русскую колонизацию.
Закавказье и Восточный вопрос
Исследователи указывали на удивительную способность русских «общаться с варварами, понимать и быть ими понятыми, ассимилировать их с такой легкостью, которая не встречается в колониях других народов». При этом русским оказывалось достаточно «тонким слоем разлиться по великому материку, чтобы утвердить в нем свое господство».
В случае прямого сопротивления, нежелания покориться русской власти русские тоже не испытывали никаких психологических сложностей: в дело вступали армия или казачество, следовали карательные экспедиции. Непокоренных выдворяли с обжитых территорий и селили на новые, где они, оторванные от родной почвы, постепенно ассимилировались. Препятствием для русской колонизации всякий раз становились культурные народы, народы, обладающие собственной государственностью и воспринимающие приход русских как зло, как, например, китайцы в Приамурье или государственные образования в Туркестане. Но и там был возможен либо подкуп верхушечных слоев общества, либо опять-таки карательные мероприятия.
Наиболее бессильными русские чувствовали себя в местностях, населенных культурными народами, где их власть была встречена с удовлетворением (как в Финляндии) или даже с радостью (как в Закавказье). Ассимиляционные процессы там не продвигались ни на шаг, а карать и наказывать туземцев было решительно не за что. Местные жители полагали, что делают все от них зависящее, чтобы власти были ими довольны, и русские, если рассматривали дело спокойно, были вынуждены признать, что это действительно так. Однако применение общей туземной политики давало обратный результат. Отказ от протекторатного правления «де-юре» привел к нему же «де-факто», но только в формах, менее удобных для колонизаторов, чем если бы они установили это правление сами и контролировали его. На практике получилась какая-то уродливая форма протектората, уродливая именно своей неустойчивостью и неопределенностью, которая вынуждала обе стороны постоянно «тянуть одеяло на себя», приводила к срывам типа голицынского правления и кавказской смуты, после чего установилось новое «перемирие», столь же неустойчивое.
Русские крестьяне-колонизаторы, демонстрировавшие свою выносливость и приспосабливающиеся к климату самых разных частей империи, не могли свыкнуться с климатом Закавказья и осесть здесь. Возможно, они инстинктивно ощущали двусмысленность и неопределенность государственной политики в Закавказье, не чувствовали за собой сильную руку русской власти, не могли сознавать себя исполнителями царской государственной воли, будто бы водворение их здесь было всего лишь чьей-то прихотью. Край был вроде бы завоеван, а Россией не становился. Ощущение не-России заставляло их покидать край. Переселенцы не столько не получали действительной помощи себе, сколько чувствовали моральный дискомфорт из-за «нерусскости» власти, из-за нарушения колонизаторских стереотипов, из-за того, что рушилась нормативная для них картина мира: то, что по всем признакам должно быть Россией, таковой не являлось. Но эта не-Россия была невраждебной, она не вписывалась в образ врага русских, против которого могла быть применена сила.
Однако и государство находилось здесь в своего рода замешательстве. Проблема Закавказья напрямую упиралась в Восточный вопрос, который имел для России центральное значение. Не только в геополитическом, но и в идеальном плане — и в этом отношении его основной смысл состоял в борьбе за Константинополь. С точки зрения центральной мифологемы Российской империи, завоевание Константинополя должно было стать кульминационным пунктом создания новой Византии. А два из трех основных закавказских народов имели права на византийское наследство. Прежде всего это касалось грузин, сохранивших чистоту православия в самых тяжелых условиях и в некоторые моменты истории оказывавшихся чуть ли не единственными хранителями эзотерической православной традиции.
В русском имперском сознании столкнулись две установки: с одной стороны, эти народы должны были иметь в империи статус, равный статусу русских (этого требовали религиозные составляющие имперского комплекса). С другой — они должны были быть включены в гомогенное пространство империи (как того требовали государственные составляющие этого комплекса), что было невыполнимо без систематического насилия над такими древними своеобычными народами, как грузины и армяне. Если насилие по отношению к мусульманам в рамках русского имперского комплекса еще могло найти внутреннее оправдание, то насилие над христианскими народами просто разрушало всю идеальную структуру империи как Великого христианского царства и превращало ее в голый этатизм, без иного внутреннего содержания, кроме прагматического. Лишенная сакральной санкции империя должна была моментально рассыпаться. С прагматической точки зрения она мало интересовала таких прирожденных идеалистов, какими всегда были русские. Когда же русские пытались последовательно воплощать идеальное начало своей империи, то не справлялись с управлением государством и приходили к психологическому срыву.
Конфликтогенный «знак равенства»
Нельзя сказать, что государственным образованиям Закавказья было отказано в праве на существование без всякого колебания. Однако в конечном счете победил унитарный взгляд, и Закавказье было разбито на ряд губерний по общероссийскому образцу; социальная структура закавказского общества была также переформирована на манер существовавшей в России; была упразднена автокефалия грузинской церкви. Таким образом, в социальном и административном плане однородность Закавказского края со всей прочей российской территорией была достигнута рядом реформ, правда, растянутых на несколько десятилетий.
Что же касается правовой и гражданской гомогенности населения Закавказья в Российской империи, то здесь сложилась крайне любопытная ситуация.
Включение в российский государственный механизм мусульманского населения края было для русских властей делом относительно нетрудным. Это были не первые и не последние мусульмане, которые в результате расширения границ империи оказались на ее территории, и принципы управления мусульманским населением были уже отработаны.
Иначе обстояло дело с грузинами и армянами. Во-первых, они были христиане, что уже само по себе ставило их на одну доску с русскими; во-вторых, они не были завоеваны, а вошли в состав Российской империи добровольно — и все правители Кавказа, вплоть до времен князя Голицына, «держались того принципа, что туземцы, в особенности христианского вероисповедания, те, которые добровольно предались скипетру России, должны пользоваться полным равноправием»18 . Более того, они сами могли считаться завоевателями, так как принимали активное участие в покорении Закавказья русской армией, потом в замирении Кавказа, а затем в русско-турецкой войне, когда значительная часть командных постов в кавказской армии была занята армянами. А это уже давало не просто равноправие с русскими, а статус русского. «Армянин, пробивший себе дорогу и стяжавший себе имя в кавказской армии, сделался русским, пока приобрел в рядах такой высоко- и художественно-доблестной армии, как кавказская, честное имя и славу храброго и способного генерала», — отмечает гр. Витте и именно на этом основании утверждает, что мы «прочно спаяли этот край с Россией».
Таким образом, кажется, что единство Закавказья с Россией достигнуто, и проблем не остается. Размышление об этом приводит русского публициста в экстаз: «Возьмите любую русскую окраину: Польшу, Финляндию, Остзейский край, и вы не найдете во взаимных их отношениях с Россией и русскими того драгоценного (пусть простят мне математическую терминологию) “знака равенства”, который… дает право говорить, что край этот завоеван более духом, чем мечом… Где корень этого беспримерного знака равенства? Лежит ли он в добродушной, справедливой и откровенной природе русского человека, нашедшего созвучие в природе кавказца? Или, наоборот, его нужно искать в духовном богатстве древней восточной культуры Кавказа?»19
Однако практическое следствие этого «знака равенства» вызвало шок, не скажу у русского общества в целом (оно было мало информировано о закавказской жизни), но почти у каждого русского, которого по тем или иным причинам судьба заносила в Закавказье. Практически все отрасли промышленности и хозяйства, вся экономика и торговля края, почти все командные должности (и гражданские, и военные), юриспруденция, образование, печать — были в руках у инородцев. Власть, очевидно, уходила из рук, и заезжий публицист предлагает разобраться, что же русская власть в конце концов собирается создать на Кавказе — Россию или Армению, и с ужасом восклицает: «Состав кавказской администрации и чиновничества по сравнению со всей Россией совершенно исключительный: ни по одному ведомству здесь нет, не говорю уже русской, но хотя бы полурусской власти»20 . И эта власть казалась уже не просто нерусской, а антирусской. В таких случаях особенно возмущало противодействие кавказской администрации русскому переселению. «Лозунгом было избрано категорическое заявление: “На Кавказе свободных мест для поселения русских нет”. Оно распространилось и в административной сфере, и в прессе, постепенно укоренилось в общественном мнении»21 .
Таким образом, мы можем заключить: несмотря на то, что в Закавказье были уничтожены все прежде существовавшие государственные формирования и все системы местной власти, в крае де-факто складывалось самоуправление, причем почти неподконтрольное для русских, власть наместника становится почти номинальной. Мы говорим здесь только о внутренних делах края, поскольку в целом его зависимость от России полностью сохранялась, так же как и стратегические выгоды России от владения краем.
Однако сложившееся положение вещей все более и более раздражало русских. Та форма правления, которая утвердилась в Закавказье, не могла быть названа даже протекторатной, так как протекторат предполагает значительно больший (хотя и замаскированный) контроль над местным самоуправлением (по крайней мере, упорядоченность этого контроля, поскольку в закавказском случае часто заранее нельзя было сказать, что поддавалось контролированию, а что нет) и отрицает «знак равенства». Между тем именно «знак равенства» и создал неподконтрольность местного управления. Любой русский генерал имел равно те же права, что и генерал грузинского или армянского происхождения, а Лорис-Меликов, занимая пост министра внутренних дел Российской империи, мог ответить отказом наместнику Кавказа великому князю Михаилу Николаевичу на его предложение о заселении Карсской области русскими крестьянами. Область была в значительной степени колонизирована армянами, т. е. последние взяли на себя и колонизаторские функции, которые русские совершенно не собирались выпускать из своих рук.
Для русских как для колонизаторов складывалась замкнутая ситуация: соблюдение в крае общих принципов русской туземной и колонизационной политики давало результат, обратный ожидаемому. При наличии всех внешних признаков гомогенности населения края населению метрополии (христианское вероисповедание, хорошее владение русским языком, охотное участие в государственных делах и военных операциях на благо России) реально оказывалось, что дистанция не уменьшалась. Русским оставалось либо закрыть на это глаза (коль скоро стратегические выгоды сохранялись), либо стараться сломать сложившуюся систему. Последнее и попытался осуществить князь Голицын.
При Голицыне начинается спешная колонизация и русификация края. Однако ожидаемого положительного результата не получается. Русские колонисты с завидным упорством завозятся в Закавказье, где, не привыкшие к местному климату и не встречая серьезную заботу о себе со стороны местных властей, десятками заболевают малярией и гибнут, а сотнями и тысячами уезжают из Закавказского края искать лучших земель. На их место пытаются завезти новых. Попытка же форсированной русификации края приводит к страшной кавказской смуте, «сопровождавшейся действительно сказочными ужасами, во всех трех проявлениях этой смуты: армянские волнения, армяно-татарские распри и так называемая “грузинская революция”», — сообщает В.Погожев в «Кавказских очерках».
Русская администрация оказывается вынужденной отступиться и взглянуть на вещи спокойнее. Новый наместник Кавказа гр. Воронцов-Дашков закрывает на несколько лет Закавказье для русской колонизации, признав, что опыты «водворения русских переселенцев давали лишь печальные результаты, и население сел, образованных ранее, почти повсюду изменилось». Отменив же меры по насильственной русификации края, новый наместник с удовлетворением обнаруживает, что в Закавказье «нет сепаратизма отдельных национальностей и нет сепаратизма общекавказского… Нельзя указать случаев противодействия преподаванию русского языка».
Таким образом, все возвращается на круги своя. Население Кавказа снова превращается в лояльных граждан империи, но все ключевые позиции в крае, особенно в экономической, торговой и образовательной сферах, остаются полностью в их руках, водворения русских крестьян-колонистов не происходит, и власть в крае, по существу, продолжает оставаться нерусской, точнее, номинально русской.
Вероятнее всего, мир был бы временным, и вслед за некоторым периодом успокоения неминуемо бы последовала новая вспышка насильственной русификации, а вслед за ней новая смута. Грозила эпоха постоянных неурядиц, в результате которой и жизнь местного населения, и жизнь русских в Закавказье могла бы превратиться в сплошной кошмар.
Однако ситуация была еще сложнее. После окончания Первой мировой войны по плану раздела Османской империи между державами Согласия по так называемому плану Сайкс-Пико к Российской империи должны были отойти восточные вилайеты со значительным армянским населением. Насколько русские способны были переварить подобное приобретение? На повестку дня вновь вставал вопрос об армянской автономии (в пределах этих вилайетов). Во всяком случае армянам, сражавшимся на кавказском фронте, как и армянам в Турции, отказывающимся сражаться против русских войск, позволялось надеяться именно на такой исход своей судьбы.
Памятуя об идеальном образе Российской империи, Евг. Трубецкой писал: «Как в 1877 году на нашем пути к Константинополю лежала Болгария, так же точно нам на этом пути не миновать Армению, которая так же не может быть оставлена под турецким владычеством: ибо для армян это владычество означает периодически повторяющуюся резню… Только в качестве всеобщей освободительницы малых народов и заступницы за них Россия может завладеть Константинополем и проливами». А между тем русский генералитет и наместник Кавказа великий князь Николай Николаевич настаивали на включении армянских вилайетов в единое государственное пространство России с универсальной для всех областей системой управления. Коса нашла на камень.
Но несмотря на дискомфорт, вызванный неуспехом колонизации и русификации края, реальные имперские установки в отношении Закавказья были очень сдержанными: стремились выжать из геополитического положения края все возможные выгоды (чему фактическая автономия края препятствием ни в коей мере не была), а в остальном предоставить событиям течь своим чередом и подавлять в себе приступы раздражительности и обиды, раз в целом закавказская политика соответствовала идеальному смыслу Восточного вопроса и тем по большому счету была оправдана, хотя требовала таких моральных жертв, как признание, что русские не в состоянии колонизировать территорию, политически находящуюся от них в безраздельной зависимости. Как писал английский политик и путешественник Вайгхем, «совершенно невозможно поверить, что значительная часть [переселенческого] потока, направлявшегося в Сибирь, не могла быть повернута в Закавказье, если бы правительство этого хотело всерьез. На население Закавказья не оказывали давления, подобного тому, как это было в других частях империи, и русские не приходили в сколько-нибудь значимом количестве на прекрасные холмы Грузии и нагорья Армении».
Создание «второй Англии»
Процесс британского имперского строительства во многом отличен от российского. Русская колонизация ведет к расширению российской государственной территории: русская колония, образуясь вне пределов российской территории, стимулировала подвижки границы. У англичан колония, изначально находясь под британской юрисдикцией, стремится выйти из нее. Но этот путь вел к созданию своеобразной «метаимперии», объединенной не столько юридически, сколько посредством языкового и ценностного единства.
«Для чего создавалась и сохранялась Британская империя?.. С самых первых времен английской колонизации и до наших дней этот вопрос занимал умы британских мыслителей и политиков», — писал один из английских историков, К. Норр. Чтобы дать ответ на этот вопрос, начнем с того, как воспринимает английский народ ту территорию, которую собирается осваивать. И кстати заметим, что для русских изучение Британской империи имеет особую ценность, ведь свою историю можно полностью понять только сравнивая с чужими историями.
В чем особенности Британской империи?
Во-первых, до последней трети XVIII века она была в основном мирной. Англичане занимали такие части света, которые «по своей малозаселенности давали полный простор для всякого, кто желал там поселиться»22 . Во-вторых, связи англичан с местным населением их колоний были минимальны. Как отмечает Леруа-Болье,«отличительной чертой английских колоний являлось совпадение густоты населения с почти исключительно европейским его происхождением». Смешанные браки были исключительным явлением, дух миссионерства вплоть до XIX века вовсе не был присущ англичанам: они как бы игнорировали туземцев. В-третьих, вплоть до XIX века «английское правительство, в противоположность испанскому и португальскому, на деле не принимало никакого участия в основании колоний; вмешательство метрополии в их внутреннюю организацию по праву всегда было ограничено, а на деле равнялось нулю»23 . Английский историк Е. Баркер писал: «Когда мы начали колонизацию, мы уже имели идею — социально-политическую идею, — что, помимо английского государства, имеется также английское общество, а точнее — английские добровольные общества (и в форме религиозных конгрегаций, и в форме торговых компаний), которые были готовы и способны действовать независимо от государства и на свои собственные средства... Именно английские добровольные общества, а не государство, учреждали поселения в наших ранних колониях и таким образом начали создавать то, что сегодня мы называем империей».
Более того, английские переселенцы, по точному выражению А.Т.Мэхэна, словно бы желали «не переносить с собой Англию, а создать нечто новое, что не должно было сделаться второй Англией». Все их интересы были связаны с новой родиной, они трудились на ее благо, а потому английские колонии оказались устойчивее, прочнее, многолюднее колоний всех других европейских народов. «Английская нация с основания своих первых поселений в Америке обнаружила признаки специальных способностей к колонизации», — отмечает тот же А.Т.Мэхэн. Однако английские колонии вплоть до последней трети XIX века не воспринимались англичанами как особо значимая ценность — и это еще одна отличительная черта английской колонизации. В этом смысле весьма примечательно замечание, которое делает в своей книге «Расширение Англии» Дж.Сили: «Есть нечто крайне характерное в том индифферентизме, с которым англичане относятся к могучему явлению развития их расы и расширения их государства. Они покорили и заселили полсвета, как бы сами не отдавая себе в том отчета».
Это до какой-то степени можно объяснить спецификой английских колоний. Английская эмиграция первоначально имела религиозные причины, англичане-колонисты рвали все связи со Старым Светом, и разрыв этот оставлял в их душах глубочайший след. «Пуританин и колонист... остается прежде всего эмигрантом, который воспринимает человека и общество, исходя из разрыва, подобного не пропасти между двумя участками твердой земли, землей, которую он оставил, и землей, которая его приняла, — но подобного зиянию между двумя пустотами: пустотой отвергнутой и пустотой надежды»24 .
Параллельно возникали и торговые фактории. Как сообщает Хоррабин в «Очерке историко-экономической географии мира», Англия «учредила торговые станции во всех уголках земного шара... Но воспринимались ли они вполне как колонии? С точки зрения торговых интересов увеличение территории было для Англии не только не необходимо, но даже нежелательно. Ей нужно было только держать в своих руках пункты, господствующие над главными путями. В XVIII в. английские торговцы больше дорожили двумя вест-индскими островками, чем всей Канадой. Во времена парусных судов эти островки господствовали над морскими путями, соединявшими Европу со всеми американскими портами. Там же, где Англия приобрела действительно крупные владения, т.е. в Индии и Канаде, это было сделано главным образом потому, что здесь приходилось бороться за каждый опорный пункт с постоянной соперницей — Францией, так что для укрепления позиций был необходим обширный тыл... На протяжении XIX в. из этих торговых станций и портов выросла Британская империя. Между 1800 и 1850 гг. площадь империи утроилась. К 1919 г. она утроилась еще раз». Однако эти новые территории уже не представляли интереса для британских переселенцев.
Основным субъектом действия в английской модели колонизации является некое «общество», «сообщество» (все равно, религиозное или торговое). Каждое из них так или иначе воспринимало религиозно-ценностные основания Британской империи (и к торговым сообществам, как мы видели, это относится в полной мере). Но поскольку в британской идеологеме империи понятия «сообщество» и «империя» синонимичны, то — в данном контексте — сами эти сообщества превращались в мини-империи. Не случайно Ост-Индскую компанию называли «государством в государстве», не случайно лорд Дж. Керзон называл Индию империей в империи. Каждое «сообщество», которое, в конечном счете, исторически складывалось не в силу каких-либо исторических причин, а потому, что такой способ действия для англичан наиболее комфортен (таков «образ коллектива» в картине мира англичан), и каждое из них все более замыкалось в себе, абстрагируясь как от туземного населения, так и от метрополии. И каждое из них тем или иным образом проигрывало внутри себя альтернативу «сообщество — империя». Оно отталкивалось от идеологемы «сообщество», «привилегированное (аристократическое) сообщество», «сообщество белых людей» и переходило к понятию «империя аристократов».
Создавалась структура взаимосвязанных мини-империй. Единство этой структуры вплоть до конца XIX века практически выпадало из сознания англичан, оно не было принципиально важным. Субъектом действия были «мини-империи» (будь то сельскохозяйственные поселения, торговые фактории или, позднее, миссионерские центры), и их подспудное идеологическое обоснование обеспечивало их мобильность, а, следовательно, силу английской экспансии.
Между этими «мини-империями» и «центром», именовавшим себя Британской империей, существовало постоянное непреодолимое противоречие: «центр» стремился привести свои колонии («мини-империи») к «единому знаменателю», а колонии, самодостаточные по своему внутреннему ощущению, противились унификации, восставали против центра, отделялись от метрополии юридически. Впрочем, хотя отделение Соединенных Штатов вызвало в Британии значительный шок и появление антиимперский идеологии «малой Англии», но это ни на миг не снизило темпов реального имперского строительства, в результате чего сложилась так называемая «вторая империя».
Сама по себе колониальная система, структура «мини-империй» имела, по существу, только пропагандистское значение. В известном смысле прав русский геополитик И. Вернадский, который писал о Британской империи, что «по своему внутреннему устройству и по характеру своего народа эта страна может легко обойтись без той или другой колонии, из которых ни одна не сплочена с нею в одно целое и каждая живет своей особенной жизнью. Состав британских владений есть скорее агрегат многих политических тел, нежели одна неразрывная целостность. Оторвите каждое из них, и метрополия будет существовать едва ли не с прежней силой. С течением времени она даже приобретет новые владения и старая потеря почти не будет для нее заметна. Так, у некоторых животных вы можете отнять часть тела, и оно будет жить по-прежнему и вскоре получит, взамен оставшейся под вашим ножом, другую часть».
За невидимым барьером
Сколь прочны и многолюдны были британские колонии, основанные когда-то на слабозаселенных землях, столь же труден был для англичан процесс интериоризации земель, имеющих сколько-нибудь значительную плотность туземного населения. Так, английское население в Индии, не состоящее ни на военной, ни на государственной службе, к концу XIX века составляло, по одним данным, 50 тысяч человек, по другим — приближалось к 100 тысячам. И это при том, что начиная с 1859 года, после подавления мятежа, британское правительство проводило политику, направленную на привлечение британцев в Индию, а на индийском субконтиненте имелись нагорья, по климату, растительности и относительной редкости местного населения вполне пригодные для колонизации, во всяком случае, в большей степени подходящие для земледельческой колонизации, чем «хлопковые земли» Средней Азии, активно заселявшиеся русскими крестьянами. Английский чиновник Б.Ходгсон, прослуживший в Индии тридцать лет своей жизни, писал, что индийские Гималаи могут стать «великолепной находкой для голодающих крестьян Ирландии и горных местностей Шотландии». Еще более остро стоял вопрос о британской колонизации горных районов, Гималаев, в том числе в связи с возможной угрозой Индии со стороны России. «Колонизация горных районов Индии, — писал Х. Кларк, — дает нам преимущество, которое никогда не будет нами потеряно. Колонизация дает нам возможность создать милицию, которая будут поддерживать европейский контроль над Индией и защищать ее границы на севере и северо-востоке. Английское население в миллион человек сделает бунт или революцию в Индии невозможной и обезопасит мирное население, сделает наше господство незыблемым и положит конец всем планам России».
Одним из таких районов был Уттаракханд, включающий в себя провинции Гарваль, Кюмаон (близкую по этническому составу населения) и небольшое протекторатное княжество Тери-Гарваль. Все эти земли попали под британское владычество в результате Непальской войны в 1815 году. Местность эта, расположенная на склонах Гималаев, представлялась британским путешественникам райским уголком, напоминающим «роскошный сад, где все, что произвела земля Европы и Азии — или даже всего мира — было собрано вместе. Яблони, груши, гранаты, фиговые и шелковичные деревья росли в огромных количествах и в самых великолепных своих формах. Ежевика и малина соблазнительно свешивались с уступов обрывистых скал, а наша тропа была усыпана ягодами земляники. И в какую сторону ни посмотри — цветущий вереск, фиалки, жасмин, бесчисленные розовые кусты в полном цвету», — восторгается Т.Скиннер в «Экскурсиях по Индии», вышедших в свет в 1832 году.
Однако поведение британцев-колонистов в Гималаях выглядит не вполне логичным с прагматической точки зрения и объяснимым только если рассматривать его в свете британской модели колонизации. Британцы избегали колонизировать территории со сколько-нибудь значительным местным населением, а если и прибегали к этому, то создавали целую громоздкую систему, препятствующую их непосредственным контактам с местным населением. Так, англичане давали самые идиллические характеристики жителям Гималаев.
Но вопрос остался на бумаге. Для того, чтобы жить в Гималаях, требовалось вступить в прочные отношения с местным населением. Последнее по своему характеру британцам было даже симпатично. Англичане давали самые идиллические характеристики жителям Гималаев. Монахи и аскеты, нашедшие себе убежища в снежной суровости высоких гор, стали основными персонажами европейских описаний Гималаев. В отличие от обычной индийской чувственности, путешественники находили здесь величайшее самообуздание, столь импонировавшее викторианцам. Гималаи в представлениях англичан были местом преимущественно романтическим. Жизнь крестьян описывалась так же преимущественно в идиллических тонах. Обращалось внимание на их необыкновенно чистые и прекрасно возделанные угодья.
Однако британское население, состоявшее главным образом из чиновников лесного ведомства, жило в поселках, приближаться к которым местным жителям было строжайше запрещено, словно поставлен был невидимый барьер. И когда в Гарвале — одной из местностей Гималаев — действительно возникают европейские поселения, британцы поступают с этими романтическими горами точно так же, как в это же время с романтическими горами своей родины — горами Шотландии: стремятся вырубить естественные лесные массивы и засадить горные склоны корабельными соснами. Действия британцев могли бы казаться чисто прагматическими, если не учитывать, что тем самым они лишили себя одного из немногочисленных плацдармов для британской колонизации Индии, вступив в затяжной конфликт с местным населением. В результате британские поселения Гарваля так никогда и не превысили общую численность в тысячу человек.
Англичане и абстрагировались от местного населения, и создавали для себя миф о загадочных жителях Гималаев, и воспевали чудесную природу края, и признавали практически только хозяйственное ее использование. Их восприятие как бы раздваивалось. В результате, осознавая и возможность, и желательность крестьянской колонизации района Гарваля, британцы не решались к ней приступить.
Между британцами и местным населением словно бы всегда стоял невидимый барьер, преодолеть который они не могли. Так, еще во времена колонизации Америки «угроза, исходящая от индейца, приняла для пуританина природно-тотальный характер и в образе врага слитыми воедино оказались индеец-дикарь и породившая его дикая стихия природы... Пуританский образ индейца-врага наложил свой отпечаток на восприятие переселенцами пространства: оно для них активно, это пространство-“западня”, полное подвижных и неожиданных препятствий»25 .
Британцы создавали себе в своих владениях узкий мирок, в который не допускались никакие туземцы и который должен был бы воспроизводить английское общество в миниатюре. Однако психологическую неадекватность этого ощущения обнаруживает тот факт, что, прожив несколько лет в таких колониях, англичане, от колониальных чиновников до последних бродяг, чувствовали, попадая назад в Англию, еще больший дискомфорт. Те, кто волей судьбы оказывался перед необходимостью более или менее близко соприкасаться с не-европейцами (чего англичане избегали), приобретали себе комплекс «аристократов» и тем по существу обращались в маргиналов в английском обществе. Ничего подобного не знает история никакого другого европейского народа.
Любая новая территория, где селится англичанин, в его восприятии — «чистая доска», на которой он творит свой собственный мир по своему вкусу. Это в равной степени относится и к колонизации Америки, и к созданию Индо-Британской империи. Так, «пуритане, несмотря на свои миссионерские претензии, рассматривали Америку как свою собственную страну, а ее коренных жителей, как препятствие на пути своего предопределения как американцев. Будучи пионерами, осваивавшими богатую неразвитую страну, первые американцы верили в свою способность построить общество, отвечающее их желаниям». Аналогичным образом и «индийская “tabula rasa” представлялась во всех отношениях в высшей степени подходящей, чтобы устроить там общество на свой собственный манер»26 .
Внешне это восприятие может напоминать «дикое поле» русских, но имеется одно очень существенное различие. Русские осваивают «дикое поле», вбирают его в себя, не стремясь ни ограничить его, ни устранить встречающиеся на нем препятствия. Русские как бы игнорируют конфликтогенные факторы, связанные с новой территорией, и не прилагают никаких усилий, чтобы устранить их возможное деструктивное действие. Эти конфликтогенные факторы изначально рассматриваются не как внешние трудности, а как внутренние, от которых не уйдешь, но которые не подлежат планомерному устранению, а могут быть сняты только в более широком контексте деятельности народа. Англичане же, если они не могли избежать самого столкновения с тем, что порождает конфликтность — а сам факт существования туземного населения уже является для англичан конфликтогенным, ведь туземное население так или иначе препятствует реализации собственно английских представлений, — то они стремились поставить между собой и местным населением барьер.
К чему приводило наличие психологического барьера между англичанами и коренным населением колоний? Эдвард Спайсер в книге «Циклы завоевания» описывает как из «политики изоляции» постепенно развивалась концепция резерваций, воплотившаяся в отношениях с индейцами Северной Америки. Изначально эта концепция выразилась в том, что с рядом индейских племен были подписаны договоры как бы о территориальном разграничении. Но существенным в этих договорах для англичан было не определение территориальных границ (напротив, они изначально игнорировали эти границы), а то, что в результате самого акта подписания договора индейское племя превращалось для англичан в некоего юридического субъекта, через что отношения с ним вводились в строго определенные и ограниченные рамки. Очевидная бессмысленность наделения индейцев статусом юридического лица, при том, что никакие права де-факто за ними не признавались, параллельно навязчивым желанием англо-американцев придерживаться даже в случаях откровенного насилия определенных ритуалов, свойственных международным отношениям, указывает на то, что внешний статус индейцев имел в глазах колонистов самостоятельную ценность. Он давал возможность экстериоризировать туземный фактор, отделить его от себя и тем самым получить возможность абстрагироваться от него.
Такие сложные психологические комплексы, казалось бы, должны были остановить колонизацию. А между тем англичане создали империю значительно более прочную, чем, например, испанцы, хотя последние прикладывали к созданию империи больше сознательных усилий. Значит ли это, что разгадка — в коммерческих способностях англичан?
«Империя — это торговля», — говорил Дж. Чемберлен. И действительно, значительная доля справедливости есть в той точке зрения, что Британская империя является «коммерческой комбинацией, деловым синдикатом»27. Но этого объяснения недостаточно, ибо как психологически могли сочетаться эта гипертрофированная самозамкнутость англичан и гигантский размах их торговых операций, заставлявший проникать их в самые удаленные части земли и чувствовать там себя полными хозяевами?
Т. Маколи сетовал на то, что англичане вовсе не интересуются Индией и «предмет этот для большинства читателей кажется не только скучным, но и положительно неприятным». Пик английской завоевательной политики на Востоке по времени (первая половина XIX века) совпал с пиком антиимперских настроений в Англии, так что кажется, словно жизнь на Британских островах текла сама по себе, а на Востоке, где основным принципом британской политики уже стала «оборона Индии» — сама по себе. Англичане уже словно бы свыклись с мыслью о неизбежности потери колоний и даже желательности их отпадения, как то проповедовали экономисты Манчестерской школы. Узнав о коварстве и жестокостях полководца У. Хастингса, английское общественное мнение поначалу возмутилось, однако гнев прошел быстро, и У. Хастингс был оправдан парламентским судом, ибо осуждение его по справедливости требовало и отказа «от преимуществ, добытых столь сомнительным путем. Но на это не решился бы ни один англичанин».
Между тем Дж. Гобсон, обвиняя английских империалистов во всех смертных грехах, оправдывает их в одном: «Психические переживания, которые бросают нас на защиту миссии империализма, конечно, не лицемерны, конечно, не лживы и не симулированы. Отчасти здесь самообман — результат не продуманных до конца идей, отчасти явление психической аберрации... Это свойство примирить в душе непримиримое, одновременно хранить в уме как за непроницаемой переборкой антагонистические явления и чувства, быть может, явление исключительно английское. Я повторяю, это не лицемерие; если бы противоположность идей чувствам осознавалась бы — игра была бы проиграна; залог успеха — бессознательность».
По сути, то, о чем говорит Гобсон — это типичная структура функционального внутрикультурного конфликта, когда различные группы внутри этноса ведут себя прямо противоположным образом, и левая рука, кажется, не знает, что делает правая, но результат оказывается комфортным для этноса в целом. В этом смысле показательно высказывание Дж. Фраунда о том, что Британская империя будет существовать даже несмотря на «глупость ее правителей и безразличие ее детей». Здесь мы имеем дело с выражением противоречивости внутренних установок англичан. Англичане осваивали весь земной шар, но при этом стремились абстрагироваться от всего, что в нем было неанглийского. Поскольку такой образ действия практически невыполним, колонизация волей-неволей связана с установлением определенных отношений и связей с внешним неанглийским миром, то выход состоял в том, чтобы не замечать само наличие этих связей. Для англичан Британских островов это означало не замечать наличие собственной империи. Действовать в ней, жить в ней, но не видеть ее. Так продолжалось до середины XIX века, когда не видеть империю далее было уже невозможно.
Альянс между религией и торговлей
Тем не менее, была, очевидно, некая мощная сила, которая толкала англичан к созданию и сохранению империи. При наличии всех психологических трудностей, которые несла с собой британская колонизация, абсолютно невозможно представить себе, чтобы она имела лишь утилитарные основания.
А если так, то мнение о внерелигиозном характере Британской империи ошибочно и вызвано тем, что до XIX века миссионерское движение не было значимым фактором британской имперской экспансии.
Приходится только удивляться тому, что все исследователи, за очень редким исключением, отказывали Британской империи в каком-либо идеологическом основании. «Мысль о всеобщей христианской империи никогда не пускала корней на британских островах», как об этом писал один из наиболее известных германских геополитиков Э.Обст. Но так ли это? Если миссия была неимоверно затруднена психологически, то это не значит, что ее не хотели. Не мочь — не означает не хотеть. И если стимулом к созданию империи было мощное религиозное основание, то ни из чего не следует, что внешне это будет проявляться таким уж прямолинейным образом. Имперские доминанты получали в сознании англичан достаточно причудливое выражение. Следует ожидать, что и их религиозные основания имеют сложную форму.
Справедливы слова английского историка Л. Райта, что «если мы будем объяснять, что такое Ост-Индская компания в понятиях наших дней, т.е. как корпорацию жадных империалистов, использующих религию как средство эксплуатации и своих собственных рабочих, и других народов, мы проявим абсолютное непонимание того периода». Очень многие смотрели на Британскую империю как на «торговый синдикат», но в ее истории не было ни одного периода, по отношению к которому это определение было бы справедливо. Можно лишь сказать, что Британская империя, кроме всего прочего была и «торговым синдикатом». Другой историк, А.Портер, выразился еще более категорично: «Прирожденный альянс между религией и торговлей в конце
XVI — начале XVII века оказал глубокое влияние на то, что в один прекрасный день было названо Британской империей».
Л.Райт в книге «Религия и империя» подробно разбирает эту проблему. Он отмечает, что хотя, «в отличие от испанских и португальских католических проповедников, новые протестантские миссионеры были убеждены, что они не нуждаются в государстве и его помощи», однако «влияние духовенства и его проповеди было могущественным фактором в создании общественного настроя в отношении к морской экспансии». «Сплошь и рядом духовенство яковитской Англии было настроено в духе меркантилизма. Духовенство выступало за ту же политику, что и люди коммерции». В свою очередь, торговцы и моряки верили, что они являются орудием Провидения. «Искренняя вера в Божественное предопределение не может быть поставлена под сомнение никем из тех, кто изучал религиозные основания елизаветинской Англии. Из этого не следует, что все судовладельцы и капитаны сами по себе были благочестивыми людьми, которые регулярно молились и пели псалмы; но мало кто, даже из наиболее нечестивых среди них, решился бы выражать сомнение в Божественном вмешательстве, большинство имело положительную веру в то, что Бог все видит своим всевидящим оком... Благочестивые замечания, встречающиеся в вахтенных журналах, удивляют современного читателя как нечто, совершенно не относящееся к делу... Но в начале XVII века эти комментарии были выражением настроения эпохи».
Так, например, при основании в 1600 году Ост-Индской компании отбором капелланов для нее занимался сам ее глава Т. Смит, известный как человек примерного благочестия. Он «обращался в Оксфорд и Кембридж для того, чтобы получить рекомендации... Кандидаты должны были прочитать испытательную проповедь на заданные слова из Евангелия служащим компании. Эти деловые люди были знатоками проповедей, они обсуждали их со знанием дела не хуже, чем профессиональные доктора богословия». При отборе капелланов имелась в виду и цель миссии. «Необходимость обращения язычников в протестантизм была постоянной темой английских дискуссий о колонизации»28 .
Однако, несмотря на значительный интерес общества к вопросам проповеди, в реальности английская миссия была крайне слабой. Попытаемся понять причину этого, обратившись к истории формирования концепции Британской империи.
Прежде всего нас ждут неожиданности в том, что касается английского понимания слова «империя», как оно сложилось в начале XVI века. В период между 1500-м и 1650-м годами некоторые принципиально важные концепции изменили свой смысл и вошли в общественное употребление. Это концепции «страны» (country), «сообщества» (commonwealth), «империи» и «нации». Изменение значений слов происходило главным образом в XVI веке. Эти четыре слова стали пониматься как синонимы, приобретя смысл, который, с небольшими изменениями, они сохранили и впоследствии и который совершенно отличался от принятого в предшествующую пору. Они стали означать «суверенный народ Англии». Соответственно изменилось и значение слова «народ».
Слово «country», первоначальным значением которого было «county» — административная единица, стало синонимом слова «nation» и уже в первой трети XVI века приобрело связь с понятием «patrie». В словаре Т. Элиота (1538 год) слово «patrie» было переведено как «a country». Слово «commonwealth» в значении «сообщество» стало использоваться в качестве взаимозаменяемого с терминами «country» и «nation».
С понятием «нация» начинает тесно связываться и понятие «империя». «В средневековой политической мысли «империя» (imperium) была тесно связана с королевским достоинством. Понятие «империя» лежало в основе понятия «император». Император обладал суверенной властью внутри его королевства во всех светских делах... Это значение было радикальным образом изменено в Акте 1533 года, в котором понятие «империя» было распространено и на духовные вопросы и использовано в значении «политическое единство», «самоуправляющееся государство, свободное от каких бы то ни было чужеземных властителей», «суверенное национальное государство».
Следует отметить, что бытие Англии в качестве «нации» было непосредственным образом связано с понятием «представительское управление». Представительство английского народа, являющегося «нацией», символическим образом возвышало его положение в качестве элиты, которая имела право и была призвана стать новой аристократией. «Таким образом, национальность делала каждого англичанина дворянином, и голубая кровь не была больше связана с достижением высокого статуса в обществе», — отмечает Л.Гринфилд в книге «Национализм: пять дорог к Современности».
Здесь для нас чрезвычайно важно сделать следующие замечания. «Представительское управление» при его определенной интерпретации можно рассматривать как «способ действия», атрибут, присущий полноценному человеческому сообществу, а не как политическую цель. При этом, поскольку понятия «нация», «сообщество», «империя» являются в этот период фактически синонимичными, «представительское управление» как «способ действия» следует рассматривать как присущий им всем. В этот же ряд понятий следует ввести и «англиканскую церковь». Ей так же присущ атрибут «представительское управление» — что выразилось в специфике миссионерской практики англичан. Причем данный способ действия в сознании англичан приводит к возвышению над всем окружающим миром и логически перерастает в атрибут «образа мы». На раннем этапе он трактовался как религиозное превосходство, затем как одновременно превосходство имперское («лучшая в мире система управления народами») и национальное. Затем он стал пониматься как превосходство социальное. Но каждый из этих случаев более сложен, чем это кажется на первый взгляд. Так и знаменитый британский национализм, поражавший всю Европу, в действительности далеко отстоял от того, что обычно понимают под этим понятием.
Все более глубокие корни пускает мысль о богоизбранности английского народа. В 1559 году будущий епископ Лондонский Дж. Эйомер провозгласил, что Бог — англичанин, и призвал своих соотечественников семь раз в день благодарить Его, что они родились англичанами, а не итальянцами, французами или немцами. Дж. Фоке писал в «Книге мучеников», что быть англичанином означает быть истинным христианином: «английский народ избранный, выделенный среди других народов, предпочитаемый Богом. Сила и слава Англии необходима для Царствия Божия». Триумф протестантизма был национальным триумфом. Идентификация Реформации с «английскостью» вела к провозглашению Рима национальным врагом и исключением католиков из английской нации. Епископ X. Латимер первым заговорил о «Боге Англии», а архиепископ Краимер связал вопросы вероучения с проблемой национальной независимости Англии и ее национальных интересов.
Итак, национализм того времени определялся не в этнических категориях. Он определялся в терминах религиозно-политических. Он был связан с идеями самоуправления и протестантизма (англиканства). Эти два последних понятия также были непосредственным образом связаны с понятием «империя», то есть самоуправления в религиозных вопросах. Сошлюсь еще раз на Л.Гринфилда: «Протестантизм был возможен в Англии, только если она была империей. А она была империей, только если она была нацией… Когда английское духовенство думало о Новом Свете, оно мечтало об обширной Протестантской империи». Таким образом, мы видим, что британская империя имела религиозную подоплеку, столь же интенсивную, какая была у Российской империи.
Культ империи
В чем же состояла суть английской религиозной миссии?
Легко понять, почему проповедь протестантизма в его английском варианте была затруднена. Ведь английский протестантизм был тесно переплетен с понятием «нация», «национальная церковь». Британская империя несла с собой идею самоуправляющейся нации. Именно поэтому, очевидно, английские купцы, националисты и меркантилисты проявляли значительную осведомленность в вопросах теологии. Однако только в XIX веке появились идеи, позволяющие распространять понятие национальной церкви на другие народы. Был провозглашен отказ от «эклесиоцентризма», т.е. «от установления по всему миру институциональных церквей западного типа». Г. Венн и Р. Андерсон разработали концепцию самоуправляющейся церкви. Идея состояла в необходимости отдельной автономной структуры для каждой туземной церковной организации. «Одна из основных целей миссионерской активности должна быть определена в терминах “взращиваемой церкви”»29. Однако эта стратегия подразумевала по сути «выращивание» скорее нации, чем церкви, что создавало, в свою очередь, новые проблемы.
Последнее обстоятельство должно было вызвать определенный перенос понятий и акцентов. Действительно, именно в это время в сознании англичан все более отчетливо проявляется представление, что они всюду несут с собой идею свободного управления и представительских органов, что в целом коррелировало с концепцией самоуправляющейся церкви. Однако в это время наблюдается рост расистских установок, чего почти не было раньше. Так, слово «ниггер» стало употребляться в отношении индийцев только с 40-х годов XIX века. Английский историк, Е.Баркер, утверждая, что англичане в Индии не «индизировались», уточняет, «в отличие от первых завоевателей». Для завоевателей же (Клайва и других) индийцы были недругами, но отнюдь не презренной расой. В записках и мемуарах английских офицеров, служащих на вечно неспокойной северо-западной границе, тоже выражается отношение к индийцам более нормально. (Да и трудно иначе, если служишь долгие годы бок о бок.) Фельдмаршал Робертс вспоминает о случаях, когда английские офицеры, абсолютно верившие своим подчиненным, узнав об их предательстве (мятеж 1857—1858 годов), пускали себе пулю в лоб, или о старом полковнике, клявшемся жизнью в преданности своих солдат и рыдавшем, видя как их разоружают, т.е. оказывают недоверие и тем самым оскорбляют.
Среди многих викторианцев возникало ощущение, что «вестернизация — это опасное занятие. Возможно, не-европейцы вовсе не были потенциальными английскими джентльменами, которые лишь подзадержались в своем развитии, а расой, чуждой по самому своему существу»30 .
«Представительское самоуправление» было осознано как цель имперского действия... Целью действия (ценностной доминантой) было провозглашено то, что до сих пор было условием действия, атрибутом человека, без чего человек просто не был полноценным человеком. Перенесение данной парадигмы в разряд целей вело к ее размыванию и угрожало самой парадигме империи в сознании англичан. Признание новых целей не могло произойти безболезненно, оно требовало изменения «образа мы». Поэтому данная цель одновременно и декларировалась, и отвергалась в качестве цели практической. Дж. Морли, статс-секретарь по делам Индии, заявил в 1908 году: «Если бы мое существование в качестве официального лица и даже телесно было продолжено судьбою в двадцать раз более того, что в действительности возможно, то и в конце столь долгого своего поприща я стал бы утверждать, что парламентская система Индии совсем не та цель, которую я имею в виду».
Выходом из психологического тупика оказывается формирование идеологии Нового империализма, основанием которой стала идея нации. В ней атрибут «представительского самоуправления» относится только к англичанам, которые и признавались людьми по преимуществу. До сих пор такой прямолинейности не было. Британский национализм в качестве идеологии развился как реакция на извечные психологические комплексы англичан в качестве колонизаторов.
Создание великой Британской империи в Азии стало восприниматься как романтический подвиг мужества, а не как деловое предприятие. В своем выступлении в Кристальном дворце 24 июня 1872 года Бенджамин Дизраэли сказал: «Англичане гордятся своей огромной страной и желают достигнуть еще большего ее увеличения; англичане принадлежат к имперской стране и желают, если только это возможно, создать империю». Он не произнес ничего нового, а просто констатировал факт. С середины XIX века империя была осознана как целостность и данность. «Из конца в конец Англии во всех слоях английского общества почти поголовно увлечение политической теорией-мечтой об Англии, разросшейся на полмира, охватывающей весь британский мир в одно крепкое неразрывное целое, в огромную мощную, первую в мире империю», — пишет В.Устинов в книге «Об английском империализме».
Именно в это время на Британских островах империализм становится окончательно философией истории и для кого-то превращается в настоящий культ, так что «гордому англичанину... в словах “имперское верховенство Британской империи” слышится нечто призывное к его сердцу, ласкающее его слух»31 .
«Бремя белого человека»
Параллельно с развитием культа империализма шел другой процесс, который начался не на Британских островах, а с Британской Индии. Там возникла идеология «бремени белого человека», сыгравшая важнейшую роль в модификации английской этнической картины мира.
Британцы в Индии — это особая порода людей — викторианцы. Типичный представитель эпохи царствования королевы Виктории — это самоуверенный подтянутый человек, не знающий ни в чем слабинки, крайне дисциплинированный, с гипертрофированным чувством долга, прекрасно воспитанный джентльмен, придерживающийся в своей жизни самых строгих правил и семейных традиций, религия которого сводится к нескольким исключительно нравственного характера заповедям. «Викторианский период, который обычно ассоциируется с подъемом в обществе христианских ценностей, в действительности не был эпохой веры. Может быть, правильнее было описать его как эпоху отсутствия веры... период, ознаменованный стремлением к разрушению веры. Викторианская эпоха, не будучи эпохой веры, была тем не менее эпохой большой нравственной серьезности, культа хорошего поведения. Это была как бы секулярная религия»32.
Британскую Индийскую империю создавали люди именно такого типа и помимо прочего «империя была для них средством нравственного самовоспитания». Этот тип человека воспевался и романтизировался в имперской литературе. Возникал своего рода культ «воинственной энергии, суровой и по отношению к себе, и по отношению к другим, ищущий красоту в храбрости и справедливость лишь в силе»33 .
Этот дух героического империализма и зарождался в Британской Индии тогда, когда в Англии наблюдалось отсутствие веры в империю и отсутствие интереса к ее дальнейшей судьбе, и уже потом, в последней трети XIX века «драма нового империализма была разыграна в тропических лесах, на берегах величественных рек, среди песчаных пустынь и на ужасных горных перевалах Африки. Это был его [нового империализма] триумф и его героическая трагедия»34. Индия же виделась «раем для мужественных людей», стоически переносивших все трудности и опасности. Здесь и складывалась та идеология, которую Киплинг выразил в своем знаменитом «Бремени белого человека».
И эти гордые англичане как будто на самом деле ощущали себя слугами покоренных народов. По существу, они творили в Индии «свой» мир. Среди них были такие люди, как Томас Маколи и С.Травелайен, стремившиеся «полностью переустроить индийскую жизнь на английский манер. Их энтузиазм был в буквальном смысле безграничен; они надеялись, что уже в пределах одного поколения высшие классы Индии примут христианство, будут говорить по-английски, освободятся от идолопоклонства и активно вольются в управление страной»35 . Конечно, разным англичанам этот «свой» мир представлялся по-разному.
С идеологией «бремени белого человека» была связана, с одной стороны, доктрина о цивилизаторской миссии англичан, их призвании насаждать по всему миру искусство свободного управления (и в этом своем срезе данная идеология приближается к имперской цели-ценности), а с другой — верой в генетическое превосходство британской расы, что вело к примитивному национализму. Причем эти две составляющие были порой так тесно переплетены, что между ними не было как бы никакой грани, они плавно переливались одна в другую. Их противоположность скорее была понятна в теории, чем видна на практике.
Воплощением слитых воедино противоречий явилась фигура Сесиля Родса, деятеля уже Африканской империи и друга Р. Киплинга. Для него смысл Британской империи состоял в том благодеянии, которое она оказывает человечеству, обращая народы к цивилизации, однако непоколебимо было и его убеждение, что англичане должны извлечь из этого обстоятельства всю возможную пользу для себя. Родсу принадлежит знаменитая фраза: «Чистая филантропия — очень хороша, но филантропия плюс пять процентов годовых еще лучше». Философские взгляды С. Родса так описываются в одной из его биографий: если существует Бог, то в истории должны быть Божественные цели. Ими является, вероятнее всего, эволюция человека в сторону создания более совершенного типа людей. Поскольку Родс считал, что порода людей, имеющая наилучшие шансы в эволюции, — это англо-саксонская раса, то делал заключение, что для служения Божественной цели следует стремиться к утверждению господства англо-саксонской расы. Если так мог всерьез считать Родс, то и слова лорда Розбери о том, что Британская империя является «величайшим мировым агентством добра, которое когда-либо видел свет», не следует считать обычным лицемерием.
Идеология «бремени белого человека» фактически примеряла различные составляющие английского имперского комплекса: национальное превосходство, самоотверженное служение религиозной идее, насаждение по всему миру искусства свободного самоуправления и романтика покорения мира. Это новая интерпретация имперской идеологии, где вновь религиозная, национальная, имперская и социальная составляющая выступают в единстве. Парадигма же «представительского самоуправления» вновь занимает место не ценности — «цели действия» (целью действия теперь является втягивание мира в англий-скую орбиту), а «способом действия», а именно, способом покорения мира. Эта идеологема находит свое выражение в мандатной системе, примененной на практике после Первой мировой войны. Ко второй половине XIX века в Британской империи наблюдался переход от непрямого, сохраняющего значительные элементы автономии управления колониями, к прямому централизованному управлению. Но уже к началу XX века доминирующим принципом британской имперской практики становится протекторатное правление. Это было серьезной модификацией английской картины мира.
Формы имперского управления
Попробуем сравнить между собой практику двух империй. Мы привыкли считать, что для Российской характерно прямое управление, а для Британской — протекторат. На практике все было сложнее (или, если хотите, проще).
В Британской Индии наблюдалась очевидная тенденция к прямому и унитарному управлению. Еще в начале XIX века исследователь Британской империи шведский генерал-майор граф Биорнштейн писал, что вероятнее всего «субсидиальные [протекторатные] государства будут включены в состав владений [Ост-Индской] компании по мере того, как царствующие ныне государи перестанут жить». И действительно, к семидесятым голам XIX века из 75883 кв. миль, образующих англо-азиатский мир, 30391 кв. миля находилась под прямым управлением. И с течением времени «тенденция сводилась к более решительному и энергичному контролю метрополии над аннексированными территориями; протектораты, совместные управления и сферы влияния превращались в типичные британские владения на манер коронных колоний»36 .
На протяжении всего XIX века наблюдалась явная тенденция к авторитаризму. Так, Джон Марли, статс-секретарь по делам Индии, в речи, произнесенной в 1908 году в Палате лордов, заявил: «Если бы мое существование в качестве официального лица и даже телесно было продолжено судьбою в двадцать раз более того, что в действительности возможно, то и в конце столь длинного своего поприща я стал бы утверждать, что парламентская система для Индии совсем не та цель, которую я имею в виду». Р. Киплинг был безусловным сторонником жесткого авторитарного управления Индией, которое он сравнивал с локомотивом, несущимся полным ходом: никакая демократия при этом невозможна.
В то время именно данные идеи в значительной мере определяли политику англичан в Индии, хотя наряду с ними существовали и цивилизаторско-демократические идеи, которые с начала ХХ века стали проявляться все более отчетливо, а после Первой мировой войны превратились в доминирующие. Но, конечно, понадобилось широкое антиколониальное и антибританское движение, чтобы Индия добилась независимости.
Британская Индия представляла собой почти особое государство, где большинство дел не только внутренней, но и внешней политики находилось в ведении генерал-губернатора Индии. Ост-Индская компания была чем-то вроде государства в государстве, обладала правом объявлять войны и заключать мир. Но и после упразднения компании в 1858 году, в компетенцию индийского правительства, как перечисляет И.И.Филиппов в книге «Государственное устройство Индии», входило «поддержание мира и безопасности в морях, омывающих индийские берега, наблюдение за движением морской торговли и тарифами своих соседей, течением событий на границах Афганистана, Сиама, Тонкина, Китая, России и Персии, защита владетелей островов и приморских областей в Персидском заливе и на Аравийском полуострове и содержание укрепленных постов в Адене».
Со своей стороны, Туркестан представлял собой тоже достаточно автономное образование, находясь под почти неограниченным управлением туркестанского генерал-губернатора, которого «Государь Император почел за благо снабдить политическими полномочиями на ведение переговоров и заключение трактатов со всеми ханами и независимыми владетелями Средней Азии»37 . Так же, как и англичане, русские в Средней Азии «оставляли своим завоеванным народам многие существенные формы управления и жизни по шариату», при том, что на других окраинах империи система местного самоуправления и социальная структура унифицировались по общероссийскому образцу. И если еще при организации Киргизской степи «родовое деление киргиз уничтожалось» (в скобках заметим, что киргизами в литературе того времени именовались просто тюрки-кочевники), точнее, игнорировалось при образовании уездов и аулов, то уже в Туркестанском крае — «крупные родовые подразделения совпадали с подразделениями на волости, — родовые правители были выбраны в волостное управление и недовольных не оказалось»38 .
Россия в Средней Азии попробовала и протекторатную форму правления (в вассальной зависимости от нее в различное время находились разные азиатские ханства, российским протекторатом была Бухара). Более того, русские усвоили себе и чисто английские способы действия в зонах влияния, в частности, «“аксиому”: нация, занимающая у нас деньги — нация побежденная», и добились экономического преобладания в Персии путем разумной тарифной (я имею в виду мероприятия гр. Витте) и транспортной политики, и даже завязали экономическую борьбу с Англией в Персидском заливе. Все это происходило, конечно, под аккомпанемент жалоб на свою полную неспособность к торговле: «Бухара, Хива, Коканд больше ввозят в Россию, нежели получают из нее, выручая разницу наличным золотом... Торговля с Персией тоже заключается большей частью в пользу иранцев… Какая уж тут борьба с Англией, когда мы с киргизами и бухарцами справиться не можем». Все эти стенания приводятся в книге С. Южакова «Англо-русская распря».
Однако в русской печати появлялись и совершенно новые, металлические нотки. Так, Р.Фадеевв «Письмах с Кавказа к редактору Московских ведомостей» пишет: «Ни одно европейское государство, имеющее владения на Востоке, не относится нигде к азиатским подданным, как к собственным гражданам. Иначе быть не может. Европейские подданные составляют самую суть государства, азиатские же — политическое средство для достижения цели». Короче, одни мы такие глупые, что прежде всего любым туземцам на любой окраине даем права нашего гражданства, после чего уже не можем драть с них три шкуры.
К счастью, эти сентенции, совершенно убийственные для русской имперской психологии, особого резонанса не получают. Что же касается экономической стороны колонизации, то аргументы и англичан, и русских схожи, а высказывание Дж. Сили на этот счет просто великолепно: «Индия не является для Англии доходной статьей, и англичанам было бы стыдно, если бы, управляя ею, они каким-либо образом жертвовали ее интересами в пользу своих собственных». В России не прекращаются сетования по поводу того, что все окраины, а особенно Средняя Азия, находятся на дотации. Правда, однако, то, что Россия в XIX веке делала в Средней Азии большие капиталовложения, не дававшие непосредственной отдачи, но обещавшие солидные выгоды в будущем; в целом, кажется, экономическую политику России в Средней Азии следует признать разумной. Но вернемся к нашему сравнению.
Русские совершенно сознательно ставили своей задачей ассимиляцию окраин: «Русское правительство должно всегда стремиться к ассимилированию туземного населения к русской народности», т.е. к тому, чтобы «образовать и развивать [мусульман] в видах правительства, для них чужого, с которым они неизбежно, силой исторических обстоятельств, должны примириться и сжиться на всегда». Дело доходило до того, что мусульманам платили деньги, чтобы они отдавали детей в русские школы. На совместное обучение русских и инородцев, т.е. на создание русско-туземных школ, при первом генерал-губернаторе Туркестана К.П. фон Кауфмане делался особый упор, причем имелось в виду и соответствующее воспитание русских: «туземцы скорее сближаются через это с русскими своими товарищами и осваиваются с разговорным русским языком; русские ученики школы также сближаются с туземцами и привыкают смотреть на них без предрассудков; те и другие забывают племенную рознь и перестают не доверять друг другу... Узкий, исключительно племенной горизонт тех и других расширяется», — такую предполагаемую идиллию описывает И.К.Остроумов в книге «К истории народного образования в Туркестанском крае». Туземные ученики, особенно если они действительно оказывались умницами, вызывали искреннее умиление. Тем более «в высшей степени странно, но вместе с тем утешительно видеть сарта [таджика], едущего на дрожках, либо в коляске, посещающего наши балы и собрания, пьющего в русской компании вино. Все это утешительно в том отношении, что за материальной стороной следует и интеллектуальная»39 . Не утешительным было только то, что туземных учеников в русско-туземных школах считали единицами, ассимиляция почти не происходила, русские и туземцы общались между собой почти только лишь по казенной надобности, а, как отмечается в «Сборнике документов и статей по вопросу образования инородцев», выпущенном в 1869 году, «в местах, где живут вместе русские и татары, все русские говорят по-татарски и весьма немногие татары говорят по-русски».
При этом русские живут на новозавоеванных территориях под мощной защитой правительства. Е.Марков в книге «Россия в Средней Азии» приводит записи рассказов переселенцев: «Нас ни сарты, ни киргизы не обижают, ни Боже мой! Боятся русских!.. Мы с мужем три года в Мурза-Рабате на станции жили совсем одни, уж на что кажется степь глухая... А никогда ничего такого не было, грех сказать. Потому что строгость от начальства. А если бы не строго, и жить было бы нельзя!.. Промеж собой у них за всякую малость драка». То же рассказывают мужики, волей судьбы оказавшиеся близ Ашхабада: «Здесь на это строго. Чуть что, сейчас весь аул в ответе. Переймут у них воду дня на три, на четыре, — хоть переколейте все, — ну и выдадут виновного. А с ним расправа коротка... Дюже боятся наших». Так что русские, по существу, оказывались, хотели они того или нет, привилегированным классом, к которому относились с опаской и контактов с которым избегали.
Точно так же и «англичане в Индии, высокого ли, низкого происхождения, были высшим классом». Стиралась даже разница между чиновниками и нечиновниками, минимизировались сословные различия — все англичане в Индии чувствовали себя аристократами, «сахибами». Стремясь как можно более приблизить свою жизнь в Индии к жизни в Англии, они как бы абстрагировались от туземного общества. Общение с туземцами даже по долгу службы и даже для тех, кто прекрасно владел местными языками, было обременительной обязанностью. Литература пестрит примерами не просто пренебрежительного, а прямо вызывающе хамского отношения англичан к индийцам, полного игнорирования их чувств. Причем, как отмечает в работе «Иллюзия постоянства. Британский империализм в Индии» Ф.Хатчинс, «это чувство превосходства базировалось не на религии, не на интеллектуальном превосходстве, не на образованности, не на классовом факторе... а исключительно на принадлежности к национальной группе» и «на вере в святость Соединенного Королевства». Английский чиновник, будь он даже образцом честности (коррупция в Британской Индии вообще была невелика), был абсолютно непреклонен, если дело касалось требования какого-либо социального равенства между англичанами и туземцами. У англичан было четкое сознание, что управление — их призвание и без них в Индии воцарится хаос, не было «и тени сомнения относительно высшей компетентности англичан во всех вопросах управления, совершенно независимо от климатиче-ских, расовых и других условий40.
Эта вера в свое превосходство была столь поразительной, что генерал Снесарев писал: «Они, мне кажется, просто лицемерят... Они не могут усомниться в даровании народа, который создал санскрит, наметил основы грамматики языка, дал миру цифру и музыкальную гамму».
Результаты вопреки намерениям
Из всего уже сказанного напрашивается вывод: мы хотели ассимилировать жителей Средней Азии, однако удалось это слабо, англичане не хотели ассимилировать индийцев, но это до какой-то степени происходило само собой. Итоговый результат оказывался примерно одинаковым.
Вообще парадокс этих двух частей двух империй (Средней Азии и Индии) состоял в том, что в них на удивление не удавалось именно то, к чему более всего стремились и, напротив, как-то само собой получалось то, к чему особого интереса не проявляли. Мы уже говорили, что англичане считали себя наделенными особым талантом управления. Однако их неудачи в Индии часто объясняли именно негодной организацией управления, которое туземным населением переносилось с трудом. Де Лакост заявляет: «Туземцы англичан не любят. Причина заключается в английском способе управления страной». Русские привычно жаловались на «наше неумение управлять инородцами», однако, по мнению того же де Лакоста, «среднеазиатские народности легко переносят русское владычество».
Англичане сплошь и рядом говорили о своей цивилизаторской миссии. В России, конечно, никаких подобных мыслей возникать не могло. Однако, что касается Англии, то «положение, будто незыблемое правило нашего правления всегда заключается в воспитании наших владений в духе и принципах этой теории [представительного самоуправления], есть величайшее искажение фактов нашими колониальными и имперскими политиками, которое только можно придумать», — заявляет Джон Гобсон. Индийские мусульмане с большим удивлением узнают, что мусульмане в России имеют своих представителей в Государственной Думе — «на другой же день в газете "Пайса-Ахбар" была помещена заметка о нашей Думе и о присутствии в ней представителей-мусульман»41 . Более того, случалось так, что благодаря юридическому и фактическому равноправию на некоторых инородческих окраинах Российской империи складывалось фактическое самоуправление, а Великое княжество Финляндское имело самоуправление легально.
О техническом развитии регионов империи англичане говорили очень много. Техницизм был стержнем политической мысли Киплинга. Для русских эта тема второстепенна, однако успехи в данной области у русских и англичан примерно одинаковы. С удивительной скоростью Россия строит железные дороги к своим южным рубежам. Англичанин Вигхейм посвящает целую главу описанию того, что Россия сделала для развития Закавказья: «Только сравните Ереван с Табризом или Эрзрумом и разница будет сразу же очевидна». Т.Мун, исследователь из Колумбийского университета, в книге «Империализм и мировая политика» между прочим пишет: «Под русским владычеством туркмены перестали заниматься разбоем и кражей рабов и в большей или меньшей степени перешли к оседлому быту, занявшись земледелием и хлопководством. Другие расы прогрессировали еще больше. Русские железные дороги дали возможность сбывать скот, молочные продукты и миллионы каракулевых барашков из Бухары. Но самым важным нововведением было, конечно, развитие хлопководства».
С другой стороны, для России существенно было то, что она, мыслившая себя преемницей Византии, должна была стать великим Православным царством. Однако она практически совсем отказывается от проповеди. «У русских миссионеров нет; они к этому приему не прибегают. Они хотят приобрести доверие покоренных народов, не противоречить им ни в их верованиях, ни в их обычаях», — пишет все тот же де Лакост.
В книге «Россия и Англия в Средней Азии» М.Терентьев с гордостью рассказывает о том, что некий афганец, близко знакомый и с англичанами, и с русскими, говорил: «Каждое воскресенье англичане выходят на базар доказывать, что их Хазрети-Исса (Христос) больше нашего Пейгамбера (пророка) и что их вера настоящая, а наша ничего не стоит... Пейгамбера всячески поносят, кормят его грязью... Вы, русские, этого не делаете, слух об этом дошел и до Индии — все вас за это хвалят». То же и в своих собственных владениях: «честный мусульманин, не переступающий ни одной йоты наших гражданских законов, на наш взгляд, лучше плута христианина, хотя бы тот и соблюдал все точки и запятые религиозных установлений». Более того, «до сих пор мы не только не допускали проповеди Слова мусульманам, но даже отвергали все просьбы туземцев, которые хлопотали о принятии их в Православие. Благовидным предлогом отказа служило незнание просителями русского языка, а следовательно, и невозможность огласить неофита Словом Истины».
Чем объяснить подобную политику? Приводилось несколько причин: во-первых, проповедь вызывает враждебность мусульманского населения, во-вторых, раз туземцы не знают русского языка, христианские истины не могут быть переданы им адекватно и мы будем только плодить ересь. Во всем мире миссионеры изучали туземные языки и никому не приходило в голову, что это туземцы должны учить родной язык проповедника; сами русские, приняв православие от греков, в подавляющем большинстве своем греческого языка не знали, Евангелие было переведено для них на славянский и здесь как-то обошлось без ересей! Короче, пусть мусульмане поживут в России лет сто, пообвыкнутся, а там уж видно будет. Татары жили в России сотни лет, обвыклись, но в XIX веке по отношению к ним сложилось убеждение, что «сколь абсурдно пытаться заставить татар изменить цвет глаз, столь же абсурдно пытаться заставить их поменять свою религию». Более того — среди народов, которые были мусульманами больше по названию и которых не интересовала религия, российская администрация сама укореняла ислам. Это уже явно выходило за границы простой веротерпимости и смахивало на какое-то помрачение. Вот и великое Православное царство!
У англичан было наоборот. Как писал известный немецкий геополитик Эрих Обст, «идеей крестовых походов, которая имела такое большое значение на континенте, Англия почти совершенно не была затронута. Мысль о всеобъемлющей христианской империи никогда не пускала корни на Британских островах». В Индии «первой реакцией имперских деятелей была оппозиция активности христианских миссионеров... Ост-Индская компания, англо-индийские чиновники, британские министры в большинстве своем противодействовали проповеди христианских миссионеров»42 . Так, в 1793 году «миссионер Вильям Керей и его спутники были высланы из Индии... Миссионерская работа была объектом нервозного внимания со стороны Калькуттского правительства и миссионеры без лицензии от директоров [совета директоров Ост-Индской компании] депортировались из Индии»43 . Только начиная с 1813 года миссионерам было разрешено свободно проповедовать в Индии. Таким образом, миссионерское движение формировалось вне рамок имперского комплекса. Не только имперская администрация стала в оппозиции к миссионерам, но и эти последние не очень благоволили к порядкам, установленным империей и, в конечном счете, долгое время, как пишет И.Гобсон, «британских миссионеров вовсе не обуревало желание вмешиваться в политические и коммерческие вопросы... Они стремились спасти души язычников и нисколько не стремились продвинуть британ-скую торговлю вперед или освятить дух империализма».
Итак, первоначально миссионерство не было связано с имперской программой. Это естественно, если учесть, что устроителям Британской Индии — викторианцам, согласно мнению Ф.Хатчинса, «трудно было принять евангельское убеждение, что христианство предполагает связи, которые могут объединить все человечество. Викторианцы либо потеряли свою собственную веру в христианство, либо обратили христианство в запутанный код поведения, который, конечно, не был приемлем для всего человечества». Тем не менее, определенные успехи христианских миссионеров были налицо. В 1816 году в Калькутте появилась первая школа, открытая миссионерами. С годами таких школ становилось все больше. И хотя миссионерская деятельность оставалась слабо связанной с правительством (что не мешало где-то с середины века активно использовать миссионеров в качестве английских политических агентов), в конце столетия королева Виктория произносит красивую фразу, что «империя без религии — дом, построенный на песке». Тем самым христианство становится как бы официальной религией Pax Britanica.
В конце концов в начале XX века в Индии насчитывалось более 300 тысяч индийцев-христиан. Это число, конечно, не велико, но в сравнении с тем, что среди российских среднеазиатских подданных христианами становились единицы, и оно представляется значительным. Причем, напомним, что англичане действовали в этом случае вопреки собственным принципам туземной политики, коль скоро прочность их власти во многом зиждилась на религиозной вражде между мусульманами и индусами.
«Нас гонит какой-то рок…»
Итак, империя делала вовсе не то, что намеревалась. По меткому замечанию Джона Сили, «в Индии имелось в виду одно, а совершалось совершенно другое». Не случайно в конце XIX века одни англичане превратили империализм «в настоящий культ», а другие задавались вопросом, который Сили в книге «Расширение Англии» проговаривает вслух: «О чем хлопочут англичане в Индии, зачем берут на себя заботы и ответственность, сопряженные с управлением двумястами миллионами населения Азии?», и не находя на него ответа, продолжает: «Невольно напрашивается мнение, что тот день, когда смелый гений Клайва сделал из торговой компании политическую силу и положил начало столетию беспрестанных завоеваний, был злосчастным для Англии днем».
Действительно, с середины XVIII века Англия ведет почти непрестанные войны на Востоке. Англия находится в почти постоянном страхе перед «русской угрозой» и фактически провоцирует нарастание этой угрозы. Англичане, стремясь преградить России путь в Индию, оккупируют Кветту, в ответ на что Россия занимает Мерв и оказывается вблизи Герата. Закручивается порочная цепочка событий. Вся английская политика на Востоке зацикливается на обороне Индии. «Не было ни одного события на Среднем и Ближнем Востоке, в котором заботливость Англии за свою колонию не проявилась бы в том или ином виде, чаще в дурном и отвратительном», — пишет генерал Снесарев, имея, в частности, в виду английскую поддержку турецкого деспотизма над христианскими народами, оправдание и подстрекательство турецких зверств ради поддержания неделимости Турции как буфера на пути в Индию, что в самой Англии вызывало негативную реакцию общественного мнения. Англия, по сути, делала то, что делать не хотела, и начинала ощущать, что ее ведет какой-то рок.
Тема рока доминирует и в русской литературе о завоевании Средней Азии. Евгений Марков в книге «Россия в Средней Азии» пишет: «Вместе с умиротворением Каспия началось роковым образом безостановочное движение русских внутрь Туркестана, вверх по реке Сыру, а потом и Аму-Дарье, началась эпоха завоеваний в Центральной Азии, — остановившихся пока на Мерве, Серахсе и Пяндже и переваливших уже на Памир — эту “крышу мира”... Нас гонит все какой-то рок, мы самой природой вынуждены захватывать все дальше и дальше, чего даже и не думали никогда захватывать». Указывая на стихийность российского продвижения в Азию, генерал Снесарев утверждает, что хотя оно и имело более организованный характер и закреплялось регулярной военной силой, «по существу оно оставалось прежним, и разницы между Ермаком и Черняевым нет никакой». «Инициатива дела, понимание обстановки и подготовка средств, словом все, что порождало какой-либо военный план и приводило его в жизнь, — все это находилось в руках среднеазиатских атаманов, какими были Колпаковские, Черняевы, Крыжановские, Романовские, Абрамовы, Скобелевы, Ионовы и многие другие. Петербург всегда расписывался задним числом, смотрел глазами и слушал ушами тех же среднеазиатских атаманов».
Это продвижение вообще не было направлено на какую-то определенную цель, а шло по пути наименьшего сопротивления. «Преграды на северо-западе и юге заставили народную энергию искать другого исхода и других путей; русскому народу оставалась Азия, и он рванул в нее по всем возможным направлениям... Это движение не направлялось на какой-либо фонарь, вроде Индии или Китая, а просто туда, где прежде всего было легче пройти», — свидетельствует Е.Марков. При этом в русском обществе интерес к Средней Азии отсутствовал точно так же, как в Англии интерес к Индии. Как отмечает А.Е.Снесарев, «Мы, русские, в сто раз лучше и основательнее знаем каждое маленькое местечко Италии, Швейцарии, Германии или Франции, ничем не касающееся наших государственных и народных интересов, чем свое собственное многоценное и крайне любопытное приобретение в Средней Азии, к тому же в смысле новизны, оригинальности и выразительности культуры несравненно более привлекательное».
Тому року, который гнал в дебри Азии и русских, и англичан, генерал Снесарев дает одно и то же название — «стремление к власти». В чем-то генерал, по-видимому, прав. Но это не может объяснить всего размаха событий. Не снимает вопроса: зачем? Для англичан вопрос этот оставался мучительной проблемой на долгие времена. Разные авторы разных веков давали на него разные ответы. Многообразие точек зрения характерно и для XX века. Ч.Лукас в качестве причин создания Британской империи называл высокие моральные ценности, филантропию, а также соображения национальной безопасности. Т.Смит видел основную причину расширения пределов империи в политических расчетах, амбициях государственных деятелей и в давлении внешних обстоятельств. Р.Хаэм объяснял экспансию переизбытком у англичан энергии, при том, что сознательно они никакой империи не желали, Г.Вильсон — постоянной необходимостью обороны, а Д.Юзуаг подчеркивал главенствующее значение экономических факторов. Но концы с концами не сходились. Количество работ, доказывающих, что Британская империя была выгодна лишь финансовой олигархии, и работ, столь же убедительно доказывающих, что она была выгодна английскому народу, в целом, примерно одинаково. «Политические противоречия в прошлом иногда создают впечатление, что империя была делом лишь части народа, а не народа как целого... Сейчас этот взгляд представляется устаревшим»44 . Однако из всего этого вовсе не следует ответ на вопрос: чем была для англичан империя?
Англичане, не находя удовлетворительного ответа на вопрос о смысле своей деятельности в Индии, спрашивая русских, зачем делают это они, — слышали в ответ лишь сентенцию в том роде, что со стороны англичан было бы умнее об этом не спрашивать. Но это была лишь отговорка. Все яснее наступало сознание того, что «для народа, одаренного практическим смыслом и предприимчивостью, в этом до сих пор продолжающемся блуждании (в данном случае речь шла о Дальнем Востоке, но, по существу, это то же самое) есть что-то ненормальное. Ясно, что где-то и когда-то мы сбились с пути, отошли от него далеко в сторону и потеряли даже направление, по которому должны были следовать к указанной нам Провидением цели», — признает Дж.Уильямсон в книге «Стадии имперской истории».
В России — та же неясность в отношении имперских целей. Такой авторитетный эксперт, как А.Вандам, в книге «Наше положение» пишет: «По единогласному отзыву всех русских ученых и публицистов, посвящавших свои знания и силы разработке международной жизни России, Восточный вопрос всегда занимал и занимает теперь едва ли не первое место в ряду других вопросов внешней политики русского народа. Но при таком серьезном значении Восточного вопроса... было бы весьма естественным ожидать, что у нас установилось относительно этого вопроса достаточно определенное и ясное представление. Что, собственно, должно пониматься под так называемым Восточным вопросом, в чем заключается для России его смысл и историческое содержание, — точных указаний на это, а тем более ясных и определенных ответов не находится у большинства наших писателей». И это при том, что, по оценке исследователя этой проблемы С.Жигарева, Восточный вопрос был «центром, вокруг которого группируются крупнейшие факты русской истории, главным рычагом и стимулом нашего общественного развития», «вместе с Восточным вопросом изучается история развития русского национального самосознания». Становясь же перед проблемой, чем был для России Восточный вопрос, мы, по существу, ставим вопрос о том, чем была или чем мыслила себя Российская империя. В конце XIX века почти не находилось авторов, которые могли бы дать вразумительный ответ.
Обе империи, одна — в Средней Азии, другая — в Британской Индии, оказывались до странного похожи друг на друга. Результат действий русских и англичан оказывается каким-то усредненным. Это не имперский народ создавал «свой» мир, который представлялся ему «должным», не он реализовывал себя в мире, а обстоятельства подчиняли его себе. Отсюда проистекали общие трудности и общие проблемы.
Две империи: соперничество и взаимовлияние
Ту форму соперничества, что на протяжении второй половины XIX века наблюдалась между Россией и Англией, можно назвать фронтальной. По существу, складывались две огромные фронтовые линии, которые как волны накатывались друг навстречу другу и постепенно захлестывали полосу, которая все еще разделяла их. Под напором этих встречных волн вся промежуточная полоса начинает казаться некой равномерной «сплошной» средой: естественные преграды на ней на удивление игнорируются, наступление русских войск идет прямо по «крыше мира» — высоким горам Памира.
Однако в процессе конфронтации эта как бы сплошная среда получает свою организацию: игнорируются ее естественная структурность, но создается искусственная. Она заполняется специфическими буферными образованиями. При всем разнообразии последних, их функциональное значение в любом случае связано со снижением скорости распространения влияния соперничающих сил в «сплошной» среде. Таким образом, при фронтальном типе соперничества буфер имеет функции «волнореза» для одной, а иногда и для обеих сторон (пример последнего — Тибетское государство). Буферы-«волнорезы» располагались вдоль тех линий соперничества, которые сложились в ходе русско-английского противостояния.
Логика соперничества приводит и к изменению структуры внутриимперского пространства. Организация пространства Ближнего и Среднего Востока в качестве арены соперничества между Россией и Англией вела к тому, что территории, уже вошедшие в состав одной или другой империи, как бы превращались в приграничную «крепость». Несмотря на то, что для Российской империи в целом было характерно прямое управление «забранной» территорией и ее гомогенизация по отношению к прочей территории, а для Британии — протекторатная форма правления и децентрализация, тем не менее русским в Средней Азии и англичанам в Индии не удавалось реализовывать типичные для них модели. В характере управления русским Туркестаном и британской Индией имелось множество сходных черт, которые были следствием объективных закономерностей организации геополитического пространства и не имели отношения к индивидуальным этнокультурным особенностям ни русских, ни англичан.
Так, вопреки обычной российской практике «устанавливать, насколько это было возможно, одинаковый строй жизни для всех подданных царя»45 , в Туркестане, по словам Л.Костенко, автора книги «Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности», русские «оставляли своим завоеванным народам многие существенные формы управления по шариату». Более того, генерал-губернатор фон Кауфман принял себе за правило «выдержанное, последовательное игнорирование ислама» — только бы не дать местному населению повода к волнениям. Туркестан представлял собой достаточно автономное образование, находясь под почти неограниченным управлением генерал-губернатора. Местное население в свое время величало Кауфмана «ярым-падша» — полуцарь.
Очевидно, что почти непосредственная близость Британской империи влияла на русскую туземную политику. Две империи самым пристальным образом наблюдали за действиями друг друга, анализируя самым дотошным образом каждое нововведение в политике соседей, и все, что казалось разумным, перенималось, иногда даже бессознательно. Так, в Туркестанскую администрацию проникла идея подчеркнутого уважения чужих национальных и религиозных проявлений, понятая как залог стабильности империи, идея того, что русское присутствие в регионе не должно понапрасну мозолить глаза местному населению, но в случае недоразумений позволительно принимать любые самые крутые карательные меры (аналог политики канонерок) — то есть несмотря на привычные декларации, формальные права гражданства, население новоприобретенных мест не рассматривалось как вполне «свое», а постепенно приближалось по своему статусу к населению колоний. С жителями Средней Азии не мог уже возникнуть сложный, по сути своей внутренний конфликт, как, например, конфликт русских с армянами в Закавказье — отношения с местным населением упрощались и становились более одномерными.
Сюда же относится и идея жесткого государственного покровительства русским, поселившимся в новозавоеванном крае. (Эту же идею пытался осуществить кн. Голицын в Закавказье, но без успеха.) До этого русским по существу предоставлялось самим справляться со своими проблемами. Они справлялись ценой больших трудностей и потерь, но зато вступая в прямой непосредственный контакт с местным населением, самостоятельно учась находить с ним общий язык (что и было самым ценным), в результате постепенно ассимилируя его, обучая своей вере и исподволь навязывая «центральный» принцип Российской империи. При этом, практически беззащитные, русские не имели никакой возможности ощутить себя высшей расой, проявлять какой-нибудь расизм. Рассчитывая почти только на себя, они были вынуждены смиряться, уживаться с туземцами мирно, как с равными себе. И этот порой мучительный процесс освоения русскими колонистами новых территорий был с точки зрения внутренней стабильности Российской империи значительно более эффективен, сколько бы ни требовал терпения и самоограничения в своих импульсивных проявлениях. Мощная государственная защита, действительно, казалась мерой разумной, но она значительно снижала глубину интеграции и интериоризации нового «забранного» края.
В свою очередь, влияние Российской империи на Британскую (на ее индийскую часть) выражалось в том, что англичане улавливали и непроизвольно заимствовали взгляд на свои владения (на Британскую Индию; к Африканским колониям это не относится), как на единую страну, причем страну континентальную — внутренне связанную и целостную. Происходила, с одной стороны, все большая централизация Индии, а с другой ее самоизоляция (более всего психологическая) от прочих частей Британской империи. Она превращалась в государство в государстве, построенное по своим собственным принципам. «Под влиянием благоприятно сложившихся обстоятельств первая зародившаяся колония Англии в Индии постепенно расширялась и образовывала могущественное государство, которое, как отдельная империя, является присоединенной к английскому королевству, но колония эта все-таки остается для своей метрополии посторонним телом»46. Интересно также, что, по утверждению лорда Керзона, «в строгом смысле слова, Индия — единственная часть английского государства, носящая название империи».
Этот процесс представляется нам в значительной мере следствием русского влияния, постепенного психологического вовлечения двух империй в жизнь друг друга, взаимодействия имперских доминант (тем более, что русские имперские доминанты в Средней Азии тем легче могли быть усвоены англичанами, чем меньше в них оставалось собственно русской характерности, чем более испарялась религиозная составляющая русского имперского комплекса).
Однако в чем взаимовлияния не происходило, в чем каждая из империй сохраняла свою особую специфику — так это в динамике народной колонизации. На нее почти не повлияли ни особые формы управления территориями, ни геостратегические нужды.
Особенности народной колонизации
Народная колонизация Средней Азии шла своим чередом, по обычному для русских алгоритму. В своем отчете об управлении Туркестанским краем его первый генерал-губернатор К.П. фон Кауфман писал: «С занятием в первые годы лучших из местностей, назначенных для заселения, колонизационное движение в край русских переселенцев не только не уменьшилось в последние годы, но, напротив, даже возросло в своей силе, особенно в 1878 и 1879 годах». В последующие годы, когда Семиречье временно входило в состав Степного генерал-губернаторства, переселение в регион было ограничено, а с 1892 по 1899 год запрещено. «Число селений за это время почти не увеличилось (в 1899 году их считалось 30), но значительно увеличилось число душ». Если в 1882 году их было около 15 тысяч, то в 1899 году около 38 тысяч. «Значительное число самовольных переселенцев (1700 семей) пришлось на 1892 год. С 1899 года Семиречье снова было подчинено генерал-губернатору Туркестана... К 1911 году было уже 123 русских поселения»47. С 1896 по 1916 годы в районе Акмолинска и Семипалатинска поселились более миллиона крестьян-переселенцев из России.
Однако, несмотря на столь явные успехи колонизации, между русскими переселенцами и туземным населением вставал невидимый барьер; провозглашавшиеся принципы ассимиляции оставались пустым звуком. Вернее, произошла подмена принципа: место Православия занял гуманитаризм — учение, на основании которого строился национализм европейских народов. На его же основе медленно и постепенно зарождался и русский национализм, который выражался еще не прямо, не через сознание своего превосходства, а встраивался в рамки исконно русского этатизма, который, таким образом, лишался своего религиозного содержания. Собственно, русские уже и не доносили до покоренных народов того принципа, который те должны были по идее (идее империи) принять. Его уже почти забыли и сами русские государственные деятели. Система образования по Ильминскому, широко практиковавшаяся в разных уголках империи, яркий тому пример. Показательно в этой системе образования и то, что она предполагала, как бы мы теперь назвали, «интернациональное воспитание» русских. Государство перестало полагаться на колонизаторский инстинкт русских, а считало нужным их чему-то специально учить. Это, в свою очередь, означало изменение обычной туземной практики, смену экспансионистских парадигм.
Народные массы переставали быть носителями имперской идеи. Активная колонизация Средней Азии в конце XIX — начале ХХ веков не вела к ее интеграции в общеимперское здание. Имперское строительство не могло быть лишь политическим процессом, а должно было стать элементом народной жизни. Для последнего же необходимо было, чтобы комфортная для русского народа модель колонизации получила еще и актуальное идеологическое обоснование, чтобы народ сам был активным проводником основополагающих религиозных ценностей империи.
Интенсивность и прочность народной колонизации зависела не от внешних трудностей и даже не от степени напряженности отношений с местным населением края, не от экстраординарности характера управления краем, а исключительно от внутренней комфортности способа освоения той или иной территории, возможности реализовывать присущие народу алгоритмы интериоризации территории. Облегчение внешних условий переселения в «забранные» края даже снижало его прочность: колонизация «на штыках», под государственным контролем и покровительством была, конечно, безопаснее и легче, но менее прочной, чем тогда, когда русским приходилось самостоятельно заселять новые территории и самим не только адаптироваться к природным условиям, но и приноравливаться к местному населению, как бы «интериоризировать» его в качестве элемента новой территории.
Искажение или ослабление центрального принципа империи не влияло на интенсивность переселенческого потока, но делало колонизацию менее прочной, поскольку не способствовало включению местного населения в общегосударственную целостность, оставляло его как бы внешним для империи элементом. Но в свою очередь колонизация была затруднена и в регионах, представлявших особую значимость с точки зрения центрального принципа империи — это были как бы особые территории, живущие внешне по обычным, но по существу по иным законам, чем другие окраины империи.
Таким образом, народная колонизация могла способствовать процессу интеграции имперской целостности, а могла быть ему безразлична. В свою очередь эта интеграция в некоторых случаях достигалась и без сколько-нибудь значительной колонизации. Каждый из этих случаев должно изучать особо — не может быть выводов, относящихся к русской колонизации вообще. Но нет, как нам представляется, и необходимости изучать все многообразие местных особенностей каждой области. Внешние обстоятельства колонизации были относительно малозначимым фактором. Вопрос в том, чтобы понять, что колонизация является сложным процессом, имеющим свои закономерности и испытывающим сбои под влиянием определенных факторов, которые могут быть выделены и описаны.
История народной колонизации, написанная с этой аналитической точки зрения, больше даст для понимания современности, чем описание межэтниче-ских конфликтов столетней давности. Во всяком случае, именно аналитическая история народной колонизации может дать нам возможность понять, в какой мере и как именно эти конфликты были в свое время внутренне преодолены, а насколько только внешне затушены.
____________________
1 См.: Долинский В. Об отношении России к Среднеазиатским владениям и об устройстве киргизской степи. СПб., 1865.
2 Moon P.T. Imperialism and World Politics. N.Y., 1927. P. 278.
3 Paul Veyne. L’Empire romain. In: Maurice Duverger (ed.) La Concept d’Empire. Paris: Presses Univ. des France, 1980. PP. 122.
4 Там же.
5 История дипломатии. Т. I. Москва: ОГИЗ, 1941. С. 98.
6 Dimitri Obolensky. Tradition et innovation dans les institutions et programmes politiques de l’Empire Byzantin. In: Dimitri Obolensky. The Byzantine Inheritance of Eastern Europe. L., Variorum Reprints, 1982. P. XVI, 3.
7 Медведев И.П. Почему константинопольский патриарх Филофей Коккин считал русских «святым народом». // Славяне и их соседи. М.: Издание Института славяноведения и балканистики АН СССР, 1990. С. 52.
8 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. СПб., 1992. С. 225.
9 Марков Е. Россия в Средней Азии. СПб., 1891. С. 254.
10 Encausse H.C. Organizing and Colonizing the Conquested Territories // Allworth Ed. (ed.). Central Asia. A Century of Russian Rule. N.Y., L., 1967. P. 160.
11 Южаков С.Ю. Англо-русская распря. СПб., 1867. С. 57.
12 Хворостинский П. Киргизский вопрос в связи с колонизацией степи // Вопросы колонизации. СПб., 1907, т. 1. С. 91.
13 Шкапский О. На рубеже переселенческого дела // Вопросы колонизации. СПб., 1907, т. 7. С. 112.
14 Худадов В.Н. Закавказье. М.—Л. 1926. С. 2.
15 М.М. Грузино-армянские претензии и Закавказская революция. Киев, 1906. С. 27.
16 Кн. Мещерский. Кавказский путевой дневник. СПб., 1876. С. 227.
17 Липранди А. Кавказ и Россия. С. 287.
18 Витте С.Ю. Воспоминания. М., 1960, т. 2. С. 263.
19 Погожев В.П. Кавказские очерки. СПб., 1910. С. 128-129.
20 Шавров Н. Русская колонизация на Кавказе. «Вопросы колонизации», СПб., 1911, т. 8. С.65.
21 Там же. С. 141.
22 Сили Дж. Расширение Англии. СПб., 1903. С. 38.
23 Мэхэн A.T. Влияние морской силы на историю. СПб., 1895. С. 65.
24 Morot-Sir E. L’Amerique et Ie Besom Philosophique//Revue International de Philosophic Americaine. 1972. P. 5.
25 Петровская Е.В. Образ индейца-врага в истории американской культуры// Политиче-ская мысль и политическое действие. М., 1978. С. 77.
26 Hutchins F. The Illusion of Permanency British Imperialism in India. — Princeton; New Jersey, 1967. P. 144.
27 Устинов В. Об английском империализме. Харьков, 1901. С. 16.
28 Wright L.B. Religion and Empire: The Alliance between Piety and Commerce in English Expansion. 1558-1925. New York, 1968.
29 WilliansС.Р. The Ideal of Self-Governing Church: A Study in Victorian Missionary Strategy. Leaden etc., 1990. P. 92-95.
30 Hutchins F. The Illusion of Permanency British Imperialism in India. Princeton; New Jersey, 1967. P. 109.
31 Раппопорт С. И. Народ-богатырь: Очерки общественной и политической жизни Англии. СПб., 1900. С. 40-41.
32 Boel J. Christian Mission in India. P. 137.
33 Robinson R., GallagherJ. Africa and Victorians: Imperialism and World Politics. New York, 1961. P. 10.
34 Frounde J. Oceany or England and her Colonies.London, 1886.
35 Rerard Q. L’Angleterre et l’imperialisme. Paris, 1900. P. 67.
36 Гобсон И. Империализм. Л., 1927. С. 350.
37 Терентьев А.М. Россия и Англия в Средней Азии. СПб., 1875. С. 19.
38 Костенко Л. Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности. СПб., 1870. С. 32, 34, 87.
39 Костенко Л. Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности. СПб., 1870. С. 333.
40 Гобсон И. Империализм. С. 135.
41 Отчет о поездке в Индию Первой Туркестанской армии артиллерийского бригадного поручика Лосева. // Добавления к сборнику материалов по Азии. СПб., 1905. С. 50.
42 Bearce G.D. British Attitudes towards India.P. 69
43 Dodwell H. (еd.) The Cambridge History ofIndia. Vol. VI. The Indian Empire. Cambridge, 1932. P. 122-123
44 Usoigue G. Britain and the Conquest of Africa.Michigan, 1974. P. 635.
45 Suny R.F. Revange of the Past. Nationalism, Revolution, and the Collaps of Soviet Union. Stanford, Calif., 1993. P. 25.
46 Керзон. Положение, занимаемое Индией в Британской империи. Ташкент, 1911. С. 2.
47 Логанов Г. Россия в Средней Азии. // Вопросы колонизации. СПб., 1908, т. 4. С. 148-149.
Опубликовано в журнале:
«Дружба Народов» 2014, №8
Рустам Минниханов: «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова – это пример стабильности и эффективной работы»
1 сентября президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова. Главу республики сопровождали вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Равиль Зарипов и мэр города Василь Шайхразиев. Рустам Нургалиевич ознакомился с работой картонной фабрики, где завершилась модернизация картоноделательной машины (КДМ), и фабрики по производству гофротары.
Исторический проект
Модернизация КДМ – самый крупный в истории комбината инвестиционный проект. Работы по демонтажу, монтажу и пуско-наладке картоноделательной машины были выполнены за рекордно короткий срок – 45 дней.
В 2012 году на общем собрании акционеров народного предприятия было принято решение о модернизации картонной фабрики. Первым этапом проекта стоимостью 100 млн. руб. стала реконструкция размольно-подготовительного цеха фабрики. Разработчиками инжиниринга и поставщиками основного оборудования выступили такие известные компании, как «Metso» (Финляндия), «GL&V» (Швеция), «Voith» (Германия) и «O.M.C. Collareda» (Италия). Данный этап был реализован с января 2013 года по I квартал 2014 года.
Следующим этапом стала модернизация формующей и прессовой частей КДМ. Стоимость проекта составила 1,5 млрд. руб. Поставщиком основного оборудования была выбрана фирма «Аndritz» (Австрия), проектной организацией и генподрядчиком – ЗАО «Бум Техно» (г. Санкт-Петербург). Проект был реализован с 30 июня по 15 августа 2014 года.
После модернизации скорость КДМ увеличится с 470 м/мин. до 600 м/мин., объем производства картона и бумаги вырастет на 20% (со 157 тыс. тонн до 190 тыс. тонн в год). Работа в таком диапазоне скоростей позволит картонной фабрике перейти рубеж в 1,1 млрд. кв. метров в год по выпуску картона и бумаги и полностью обеспечит фабрику по производству гофротары высококачественным сырьем собственного производства.
Первые два этапа проекта по модернизации картонной фабрики были выполнены за счет собственных средств комбината.
Уникальное предприятие
– такую оценку дал президент Татарстана после знакомства с производством комбината. Перемены, произошедшие на КБК за последнее время, действительно кардинальные. Рустама Минниханова впечатлили и объем работ по модернизации картоноделательной машины, и производственные показатели, на которые выйдут картонная фабрика и комбинат в целом с запуском КДМ.
На фабрике по производству гофротары глава республики ознакомился с работой автоматической транспортной системы «Минда» и по достоинству оценил широкий ассортимент продукции, которую выпускает комбинат.
Затем Рустам Нургалиевич встретился с коллективом народного предприятия. Он отметил, что основатель комбината Сергей Павлович Титов заложил хороший фундамент: уникальное – народное – предприятие успешно работает, динамично развивается, нацелено на новые большие планы.
– Ваш комбинат был и остается примером стабильности и эффективной работы. Сегодня мы увидели на предприятии самое современное оборудование, систему бережливого производства, обсудили необходимость модернизации очистных сооружений. Вопросы своего развития вы решаете самостоятельно, за счет собственных средств, системно, и это вызывает особое уважение, – сказал Рустам Минниханов. – Руководство Набережных Челнов и Татарстана видит в вас очень серьезный потенциал, который необходим и городу, и республике, и стране в целом. Комбинат входит в десятку ведущих предприятий отрасли и занимает существенную долю на российском рынке. Сегодня выпускать продукцию непросто, а продавать ее еще сложнее, поэтому только высокоэффективное предприятие может достойно конкурировать на рынке, а вы это умеете. Хочу поблагодарить коллектив и руководство КБК за активную деловую позицию, за вклад в развитие нашей республики и Набережных Челнов. Комбинат является вторым бюджетообразующим предприятием города, и мы обязательно будем вас поддерживать.
Генеральный директор КБК Владимир Бестолков поблагодарил Рустама Минниханова за приезд и высокую оценку работы коллектива комбината. Он отметил, что 2014-й год для народного предприятия особенный – он проходит под знаком масштабной модернизации. Все это позволит увеличить объем производства, повысить качество и расширить ассортимент выпускаемой продукции. В итоге, продолжил Владимир Иванович, мы укрепим свои лидерские позиции и внесем достойный вклад в экономику республики.
«Электрон» сможет выпускать до 500 систем визуализации мирового уровня в год.
Научно-исследовательская производственная компания «Электрон» при поддержке Минпромторга России завершила разработку системы визуализации мирового уровня для ангиографических комплексов на базе плоскопанельных детекторов. Организация оснастила производство, выпустила опытно-промышленную партию и теперь готова производить до 500 систем в год.
Система визуализации является ключевым компонентом в любом рентгенодиагностическом и рентгенохирургическом комплексе, так как именно она отвечает за преобразование рентгеновского излучения в визуальное изображение, позволяющее получать диагностическую информацию о состоянии здоровья пациента. Соответственно, чем выше технические характеристики системы, тем более качественным будет изображение и выше точность диагностики и лечения.
Реализация проекта осуществлялась с августа 2011 года по заказу Министерства промышленности и торговли России в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» на условиях равного софинансирования сторон, что позволяет рассматривать данный проект как успешный пример государственно-частного партнерства.
Ключевая цель проекта была сформулирована заказчиком как выполнение НИОКР «Разработка и организация производства систем визуализации для ангиографических комплексов, отвечающих мировым стандартам качества, с целью импортозамещения».
Требования к характеристикам системы визуализации для ангиографических комплексов, а именно частота кадров, разрешительная способность, квантовая эффективность, динамический диапазон, размер рабочего поля, были определены в результате проведения сравнительного анализа наиболее прогрессивных образцов, существующих на международном рынке. За основу были взяты самые высокие параметры, однако в ходе разработки специалистам НИПК «Электрон» удалось целый ряд из них превзойти. Можно утверждать, что сегодня в России создана и готова к производству система визуализации, достигшая уровня лучших мировых аналогов, существующих на сегодняшний день на рынке, а по ряду параметров – их превышающая.
Кроме того, в рамках нового решения компания разработала программно-аппаратный комплекс, который дополняет систему визуализации специализированными медицинскими пакетами. Сосудистый пакет позволяет измерять параметры и проводить оценку патологических изменений сосудов. Данный пакет также помогает выбрать пользователю необходимый инструмент для проведения лечения. Кардиологический пакет позволяет оценивать функциональные параметры работы сердца. Дополнительные фильтры обработки позволяют накладывать на рентгеновские изображения специальные маски для лучшего отображения сосудов и их контуров.
Область применения нового изделия – использование в составе высокотехнологичного диагностического медицинского оборудования для получения динамических изображений не только для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний и в нейрохирургии, но и для профилактики и лечения онкологических заболеваний, в трансплантологии.
Благодаря созданию системы визуализации нового поколения теперь на качественно новом уровне возможно проведение таких медицинских исследований, как коронарография, аортография, вентрикулография, церебральная ангиография, периферическая ангиография, флебография, а также интервенционные вмешательства.
Работы по НИОКР выполнялись в семь этапов, результаты каждого из которых защищались на Научно-техническом совете, специально созданном Министерством промышленности и торговли России в целях реализации мероприятий в области развития химической, медицинской и фармацевтической промышленности, а также биотехнологического комплекса страны. В состав секции «Медицинская промышленность» НТС входят авторитетные специалисты в сфере здравоохранения, доктора и профессора медицинских наук, а также представители технического научного сообщества.
Таким образом, в ближайшее время НИПК «Электрон» сможет вывести на рынок ангиографический аппарат нового поколения, предложить новое изделие другим производителям медтехники, а также модернизировать установленные сегодня в ЛПУ ангиографические, рентгенохирургические и рентгенодиагностические аппараты как российского, так и зарубежного производства для получения нового уровня качества диагностической информации.
Также важно отметить, что новая система визуализации, разработанная НИПК «Электрон», уже успешно прошла проверку европейским нотифицированным органом на соответствие требованиям международных стандартов и рекомендована для получения сертификата CE.
Новинку оценил заместитель министра промышленности и торговли России Сергей Цыб: «Успешное окончание опытно-конструкторской работы и выход в серийное производство системы визуализации, соответствующей, а по некоторым параметрам и превышающей лучшие мировые аналоги, дает нам не только уверенность в успешном развитии отечественной высокотехнологичной медицинской промышленности на российском рынке и за рубежом, но и серьезно улучшает характеристики поставляемой для системы здравоохранения продукции, что в свою очередь будет способствовать более точной диагностике и лучшему лечению наших граждан. Подобные проекты по разработке и производству ключевых компонентов высокотехнологичного медицинского оборудования помогают развивать новые уникальные компетенции и имеют большой экспортный потенциал».
Как отметил генеральный директор НИПК «Электрон» Александр Элинсон, «система визуализации – это глаза и мозг любого рентгеновского аппарата, и то, что сегодня в России создано изделие, которое не уступает лучшим мировым аналогам, я рассматриваю как настоящий научно-технический прорыв. То, что это удалось именно нашему предприятию, вызывает у меня чувство гордости – за компанию, за наших сотрудников, за огромный потенциал российских инженеров, за врачей, которые принимали экспертное участие в разработке, проявляя настоящую заинтересованность в развитии именно российских медицинских технологий, за страну, которая осознает, что устойчивость ее развития – в новых технологических идеях и решениях. Думаю, подобные разработки в различных отраслях способны начать новую эпоху в развитии промышленности, вывести страну в технологические лидеры».
Справка
Научно-исследовательская производственная компания «Электрон» – лидер российского рынка в разработке и производстве высокотехнологичного медицинского диагностического оборудования, комплексных и IT-решений для здравоохранения. Осуществляет поставки во все регионы России и СНГ, а также более чем в 30 стран мира, в том числе в Японию, США, Канаду, Италию, Германию, Китай, Аргентину. Мощности компании позволяют производить около 2000 единиц оборудования в год.
Компания основана в 1989 году и на сегодняшний день является предприятием полного цикла, который включает в себя анализ потребностей рынка, научные разработки, производство, продажи, обучение и сервисное обслуживание оборудования. На территории России сервисное обслуживание оборудования НИПК «Электрон» осуществляется более чем в 80 регионах страны.
В компании внедрена система менеджмента качества, соответствующая международным стандартам ISO 9001, ISO 13485; продукция сертифицирована на соответствие требованиям Европейской директивы 93/42/EEC (имеет маркировку CE), требованиям американского (FDA) и китайского (CFDA) законодательств.
На сегодняшний день штат предприятия составляет около 600 человек, порядка трети из которых – разработчики. НИПК «Электрон» входит в топ-5 победителей рейтинга высокотехнологичных быстроразвивающихся инновационных компаний России «ТехУспех-2013».
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter