Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Лидеры стран Евросоюза обязуются к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 40 процентов от уровня 1990-х годов. Как? Предлагается довести долю возобновляемых источников в структуре энергопотребления до 27 процентов и на столько же сократить расходы энергии.
Авторы признают, что это очень амбициозная стратегия. Ее цель - "ответить на вызовы времени, остановить глобальное потепление". Но к этому документу есть вопросы. Например, насколько она окажется эффективной, если крупнейшие загрязнители атмосферы США и Китай продолжают наращивать выбросы? Во-вторых, целевые показатели по энергоэффективности и возобновляемой энергии носят необязательный характер. По сути, это документ о намерениях. Наконец, сокращение выбросов - дело дорогостоящее, и сразу встает вопрос: а кто за него заплатит? Так что в дискуссиях по поводу стратегии определись две группы: богатые и бедные. Первые - Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, Дания, Испания. Финляндия, Италия, Голландия, Португалия, Швеция, Словения и Эстония полностью поддерживают амбициозные цели по борьбе с выбросами. Бедные страны против жестких нормативов и каких-либо обязательств. Они считают, что сокращение выбросов на 40 процентов за 15 лет влетит "беднякам" в копеечку. Тем более что мир вступил в период длительного экономического спада.
Кроме того, авторы стратегии предлагают изменить систему торговли квотами на выбросы парниковых газов. Из-за спада мировой экономики образовался излишек квот, а их стоимость не превышает 4-5 евро за тонну углекислого газа. Этого недостаточно для стимулирования новых технологий. Бедные страны оговорили себе право варьировать обязательства по выбросам, а фактически они близки к нулю. И всю нагрузку возьмут на себя богатые. Ранее проводимая политика Евросоюза по борьбе с выбросами потребовала очень серьезных вложений, создав дополнительную нагрузку на бизнес, снизив конкурентоспособность европейских товаров на мировом рынке. На внутренних рынках европейских стран выросли цены на энергоносители. Словом, за амбициозные цели приходится дорого платить.
Американский краудфандинговый сервис Kickstarter - идеальное решение для тех разработчиков, которые по разным причинам не могут найти системных инвесторов. Пять самых успешных российских проектов на Kickstarter
Здесь инженеры и создатели ПО размещают информацию о собственных проектах и, если они понравятся широкой аудитории, получают деньги на их реализацию от будущих потребителей. Площадку активно осваивают и россияне.
Kickstarter объединяет на одной платформе разработчиков интересных аппаратных и программных новинок, у которых нет денег на массовое производство своего продукта, и пользователей, регулярно покупающих технологичные гаджеты, а также ПО, настольные игры, роботов - все то, что имеет какое-то отношение к инновациям. Чтобы проект получил финансирование от пользователей, разработчик концепта должен запустить кампанию на Kickstarter: выложить в Сеть исчерпывающую информацию о своем продукте и разработчиках, указать стоимость одной единицы товара и общую сумму, которую необходимо аккумулировать для его производства.
Пользователи, желающие заполучить новинку в числе первых, оплачивают ее разработку заранее. Взамен они приобретают возможность купить ее по сниженной цене в первых рядах. Если же в рамках кампании разработчикам не удается собрать запрашиваемую ими сумму, деньги мини-инвесторам возвращаются.
Всего только за 2013 г. на Kickstarter было собрано $480 млн. В прошлом году сервисом активно пользовались 3 млн человек. Спонсировать кампании взялись люди из 214 стран мира и со всех континентов, включая Антарктиду.
Подобная модель финансирования перспективных проектов выгодно отличается от традиционных венчурных инвестиций. Во-первых, разработчик берет деньги не у одного инвестора, от которого впоследствии будет сильно зависеть, а непосредственно от людей, желающих приобрести его товар. Во-вторых, пробиться в большой бизнес, собирая деньги от тысяч пользователей сервиса, намного проще, чем убедить в своей гениальности очередного толстосума. Наконец, в-третьих, Kickstarter дает "путевку в жизнь" продуктам, которые, возможно, никогда не станут производиться миллионными тиражами, но будут интересны многим потребителям, испытывающим особую страсть к инновационным устройствам и программным продуктам.
Демократичность Kickstarter наглядно проявляется в том, что здесь порой добиваются успеха неожиданные задумки. Например, Зак Браун из Огайо запустил на Kickstarter краудфандинговую кампанию по сбору денег на картофельный салат. За $20 пользователям предложили тематическое хайку, рецепт, подписанную баночку майонеза и возможность присутствовать на кухне во время приготовления блюда. Иронию пользователи оценили и суммарно выделил Брауну $60 000. Украинские разработчики всего за неделю насобирали $100 000, необходимые для старта производства Petcube. Это игрушка для домашних животных, позволяющая хозяевам через смартфон играть с питомцами.
Некоторые стартапы, получившие первичное финансирование на Kickstater, стали международными компаниями. Так, разработчики шлема виртуальной реальности Oculus Rift сначала провели успешную кампанию на этом сервисе, а затем продали свое детище Facebook за $2 млрд.
Конечно, большинство пользователей сервиса - американцы, но с недавних пор его активно начали осваивать и россияне. Более того, на этой площадке появляются интересные проекты, способные прогреметь на весь мир. Причем речь идет о проектах, которые могли бы никогда не получить нужного финансирования в России.
"Ко" решил рассказать о пяти наиболее интересных и успешных кампаниях на Kickstarter, проведенных нашими соотечественниками.
На полях Первой мировой
В прошлом году на Kickstarter появилась компьютерная игра Steam Squad от питерских разработчиков из компании Bretwalda Games. Разработчики запрашивали $50 000 на разработку игры и собрали их всего за пару дней.
Игра представляет собой варгейм, действие которого разворачивается на полях Первой мировой войны. Правда, ни на какую историческую достоверность игрушка не претендует, поскольку действие происходит в альтернативной игровой вселенной с собственной историей. Согласно ей, к 1914 г. в мире складываются три основные военные группировки: Тянксиа (Дальний Восток и Средняя Азия), Британия с ее многочисленными колониями (США, Канада, Южная и Восточная Африка), а также Священная Римская империя, занимающая большую часть территории Европы. В качестве завязки сюжета используется история с убийством посла Тянксиа в Москве новгородскими террористами. Россия, по версии разработчиков игры, к этому моменту разделена на несколько государств, принадлежащих разным военно-политическим альянсам. В результате у разработчиков получился идеальный продукт как для любителей исторических стратегий, так и для поклонников фэнтези.
Но сильнее всего игру полюбят поклонники традиционных пошаговых военных стратегий. Пользователю предлагается стать командиром военного подразделения одной из трех сверхдержав - участников военного противостояния за мировое господство. Геймерам придется выполнять настоящие боевые задачи, продумывать тактику боя на несколько шагов вперед, управлять солдатами и техникой на полях сражений. Любители компьютерных игр получили наконец игру, представляющую собой нечто среднее между такими легендарными игровыми продуктами, как "Противостояние" и Commandos.
Игра вышла сразу в трех версиях: для Windows, Mac и Linux. Нужно сказать, что разработчики, дабы привлечь внимание пользователей Kickstarter, предложили тем, кто профинансировал ее создание, массу бонусов: цифровую копию игры, доступ к бета-тестированию, а также распечатанные на 3D-принтере модели солдат из игрушки.
Отличный продукт вкупе с вниманием к деталям позволил российскому проекту получить нужный объем финансирования.
Телевизор, светись!
Дмитрий Гориловский из Санкт-Петербурга без проблем собрал на Kickstarter свыше $500 000 на массовое производство уникальной подсветки для телевизора. Успех этот выглядит более чем внушительным, если учитывать, что изначально разработчик хотел набрать $262 000. Он аккумулировал $100 000 за первый день после старта кампании.
Lightpack - это устройство, подсвечивающее изображение на экране таким образом, чтобы пользователь мог ночью при выключенном свете смотреть телевизор без вреда для глаз. В магазинах девайс должен появиться в августе по цене 2200 руб. Разработчик подчеркивает: его девайс одинаково хорошо подходит как для любителей ночного просмотра ТВ, так и для тех, кто привык засиживаться за компьютером заполночь.
Стоит заметить, что разработка русских инженеров использует открытый код. Это значит, что адаптировать ее можно к любому экрану монитора и любому телевизору. К устройствам с экранами приставка Lightpack подключается через интерфейс USB.
Девайс состоит из управляюще-коммуникационного блока, который крепится на заднюю стенку монитора или телевизора, и 10 светодиодных моделей - их нужно наклеить по периметру экрана. Максимальный размер экрана, с которым совместим Lightpack, составляет 55 дюймов.
В интервью "Ко" Дмитрий Гориловский отметил, что на 50% успех его команды на Kickstarter состоял из упорства в подготовке. "Миша Санников, продакт-менеджер Lightpack, потратил на подготовку и оформление кампании больше шести недель", - подчеркивает он. Остальные 50% стартапер списывает на везение. "Мы попали в пару ведущих изданий по гаджетам, а дальше получилась "волна", и активным пиаром на этапе кампании мы больше не занимались", - поясняет Дмитрий Гориловский.
И добавляет: "Выстреливают" в основном те, кто и без Kickstarter, а может, даже и вопреки возможной неудаче на Kickstarter полны решимости реализовать проект. Я знаю много проектов, которые были нацелены на "собрать денег на Kickstarter". И даже те немногие, кто успешно заканчивал кампанию, не смогли довести дело до выпущенного продукта".
Тем, кто собрался на Kickstarter, Гориловский дает три совета: провести основательную подготовку по оформлению странички проекта на сервисе, "отполировать" продукт еще до начала кампании, просчитать все расходы, включая поездки. "Легко продешевить и поставить маленькую цель. Одна поездка одного человека в Китай по фабрикам - это $2000-6000. Поддержка, сервис, логистика, финансы - за это все надо будет платить. Съездили три раза на этапы производства вдвоем - вот вам $20 000", - объясняет Дмитрий.
Тактические успехи
Крупнейшее в России издательство настольных игр Hobby World вышло на Kickstarter с проектом тактической настольной игры. Создатели Berserk: War of the Realms Иван Попов и Максим Истомин заявляют, что впервые идея подобной игры родилась у них двадцать лет назад, а ее первый вариант появился еще в 2003 г. Игра пользовалась в России скромным успехом: разработчикам за это время удалось выпустить около 4000 комплектов карточек.
В центре игровой вселенной находится Берсерк - мощный воин, отличающийся от других участников боевых действий слабой чувствительностью к боли и неистовой физической силой. В общем и целом речь идет о красочной настольной игре, которая по стилистике чем-то напоминает знаменитый сериал Heroes of Might and Magic.
Теперь разработчики несколько пересмотрели игровую механику, добавив в игру нескольких новых персонажей. Они надеются, что международный релиз игры сделает ее если не всемирно известной, то хотя бы популярной среди любителей настольных игр.
"Берсерк" представляет собой сражение между существами, изображенными на картах. Вначале два игрока набирают себе существ в отряд, а затем пытаются уничтожить бойцов противника, используя преимущества своих персонажей и особенности игрового пейзажа на картах. Побеждает тот, кто первым изничтожит всех существ противника. Комплект игры состоит из шести наборов по 30 карт, которые оптимально подходят как для масштабных турнирных игр, так и для домашних посиделок за бокалом вина.
В игре есть несколько вымышленных рас, так что Berserk: War of the Realms - это целая игровая вселенная, на базе которой можно создать и мультфильмы, и кино, и компьютерные игры. Но пока разработчики ограничиваются комплектом для настольной игры.
На Kickstarter проект собрал свыше $57 000, хотя изначально разработчики запрашивали всего $15 000. Стоимость одного игрового комплекта на Amazon - $49,99.
Один из организаторов кампании Hobby World на Kickstarter Денис Давыдов говорит "Ко", что для успеха на сервисе не нужно пренебрегать мелочами: важны и сам проект, и качество видео, и работа с отзывами, и рекламная кампания. "Обычные проекты могут быть успешны, оказавшись на полке магазина или будучи представленными иным подобающим им образом. Для Kickstarter проект должен быть ярким и отчаянно оригинальным, возможно, немножко с сумасшедшинкой", - заключает он. Тем, кто соберется искать деньги на Kickstarter, Давыдов рекомендует посчитать заранее все расходы. "Например, если проект производится в одной стране, а рассылается из другой страны, то перевозка из страны А в страну Б для рассылки будет стоить вполне ощутимо. Про это часто забывают, равно как и про налоги, про детальную калькуляцию стоимости рассылки, про печать экземпляров для замены брака", - объясняет Денис.
Кошелек, кошелек... Какой кошелек?
Как показывает практика, на Kickstarter отлично приживаются проекты, предлагающие производить аксессуары. Алексей Нагаль и Максим Богомолов недавно провели успешную кампанию по сбору средств на выпуск ультратонкого кошелька, по виду больше напоминающего визитницу. Несмотря на скромные размеры аксессуара, в нем легко размещаются не только деньги, но и пластиковые карты. Для того чтобы они надежно хранились в кошельке, их нужно закреплять с помощью специальной визитки.
Кошелек представляет собой две акриловые пластины, скрепленные эластичной лентой. Благодаря оригинальной конструкции вложенные внутрь карточки легко спрятать под резинку буквально одним движением. Чтобы носить в кошельке деньги, разработчики предлагают складывать их вчетверо. Victoria Wallet - идеальное решение для тех, кто ненавидит толстые кошельки.
Стоимость одного кошелька - $35. На создание партии из ста аксессуаров предприниматели намеревались собрать $800, но к этому моменту удалось привлечь уже более $21 600.
Карты, деньги...
Компания Digital Abstracts, руководителем которой является россиянин Влад Корзинин, собирала на Kickstarter деньги на печать колоды карт. Каждую из 54 карт рисовал новый художник, так что их оформление более чем изысканно. К проекту подключили мастеров кисти со всего мира: США, Германия, Чили, Мексика, Австрия, Великобритания и, конечно, Россия, так что в оформлении заметны культурные особенности разных стран. Такая колода может служить идеальным подарком.
Разработчики хотели собрать всего 3000 фунтов стерлингов, но к концу кампании смогли аккумулировать 19 949 фунтов. О проекте написали многие западные СМИ, что, вероятно, и обеспечило ему успех.
Сам Влад Корзинин в интервью "Ко" говорит, что успех на Kickstarter зависит от множества факторов, а потому предсказать, какая кампания будет удачной, а какая - нет, невозможно. При этом залогом успеха он считает "оригинальность идеи, простое и понятное описание, адекватные "вознаграждения" по адекватным ценам". "Самое главное правило - честность и открытость по отношению к участникам проекта, - резюмирует Влад Корзинин. - Они не просто дают вам денег, они принимают участие в вашем проекте, поэтому очень важны своевременное оповещение о статусе и обратная связь. Также нужно помнить, что необходим хороший маркетинг кампании за пределами Kickstarter и - в случае успеха - своевременное выполнение обязательств".
Максим Швейц
Металлургов послали на три буквы
Зарубежные рынки сбыта для российских металлургов сжимаются. Что делать?
/Rusmet.ru, Ковшевный Виктор/ НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» делает ставку в металлургии на внутренний рынок, потому что внешних рынков сбыта для России нет в перспективе ближайших лет. Мало кто задумывается, что с 2000 года по 2014 год объем производства металлов в мире вырос в 2 раза, тогда как население Земли увеличилось лишь на 16%.
Интересно, что еще в 2000 году много говорили об избытке металлургических мощностей, что вполне справедливо: никаких видимых структурных изменений в мировой экономике не произошло, чтобы был надежный фундамент для такого роста. В Европе и в большинстве развитых стран давно все построено. Вся эта история с ростом производства становится еще более захватывающей, когда посмотрим на ситуацию в металлопотребляющих отраcлях. Там даже близко нет такого роста, в ряде передовых стран есть даже спад.
Данные и визуализация Rusmet.ru
Остается Китай и еще несколько стран, в которых произошли колоссальные изменения в уровне инфраструктуры: новые морские порты, аэропорты, небоскребы, самые необычные здания, супер-дороги - автомобильные и железнодорожные путепроводы. Но они тоже построены. Что дальше? Строительство военного назначения? Да, здесь Китай тоже пошел впереди планеты всей, начав несколько лет назад строительство новых подлодок и военных кораблей и скупая в Европе передовое оборудование для производства проката из спецсталей.
В 2014 году рост производства наблюдаеся не только за счет Китая. Практически все страны и регионы, кроме стран Южной Америки, демонстрируют рост, а лидерами по темпам роста стали страны Ближнего Востока. Даже в России есть небольшой рост, правда за счет освободившегося места Украины.
Количественные изменения на мировых рынках металлов стали базой для качественных изменений, которые наступают прямо на глазах. То, что происходит сегодня, типично для любого рынка. Возьмем рынок алюминия, более 80% которого Россия экспортировала и пока еще экспортирует. Сначала Китай является крупнейшим покупателем, радуя соседние страны своими аппетитом, всеядностью и прожорливостью. Потом он становится крупнейшим производителем того, что раньше ел, и начинает с аппетитом смотреть на страны, которые были раньше его поставщиками, без стеснения выкидывая их c традиционных рынков сбыта. Государственная политика стимулирует экспорт, поэтому Русалу, как и другим нашим предприятиям, предстоит проявить чудеса изобретательности, чтобы сохранить свои позиции в Китае и других странах. Такая судьба ждет любую сырьевую компанию, потому что в будущем, несмотря на дефицит ресурсов на нашей планете, глобальная политика будет выстраиваться таким образом, что покупатели сырья будут диктовать свои цены, а не поставщики. Тогда, можно смело рассчитывать, что доля России будет неизменной, но только в таком случае наша страна становится не просто сырьевым придатком мира, а конкретно - сырьевой колонией Китая.
Другой показательный пример - рынок спецсталей, где Китай с начала 2000-х годов покупал более трех четвертей от общего объема потребления, одновременно заявляя, что уже к 2010 году станет крупнейшим производителем в мире. В 2001 году в Китае было произведено 750 тыс. т нержавеющей стали, а спустя 13 лет, в 2014 году - почти 20 млн. т.
Посмотрите, что писали тогда отраслевые издания. Это 2000-2002 гг., цитата из первого обзора Русмет по нержавеющей стали: «Продолжающийся мировой кризис перепроизводства заставил крупных японских производителей стали пересмотреть подходы к бизнесу. Проявились следующие тенденции: ... Объединение металлургических компаний и образование крупных холдингов. Цель - лучшая координация и планирование производства. Несмотря на общее падение производства рядовых сталей, производство спецсталей в Японии демонстрирует уверенный рост. Этот рост явился результатом нового подхода к рынку, при котором производители стремятся сами влиять на увеличение потребления их продукции путем активного продвижения новых материалов и развития новых рынков. Учитывая, что в странах Юго-Восточной Азии и в самой Японии повышенная вероятность землетрясений и тайфунов, японские металлурги развернули активную рекламу конструкционных сталей нового поколения. Федерация черной металлургии Японии провела серию международных семинаров по использованию новых конструкционных сталей. Одновременно было выпущено несколько англоязычных периодических изданий с целью рекламы японской конструкционной стали, технологии ее изготовления и готовых стальных изделий. Параллельно японская стальная продукция была сертифицирована по самым жестким мировым стандартам. Внутри страны были организованы регулярные семинары, пропагандировавшие более широкое использование новых сталей. Акцент был сделан на строительстве конструкций со стальными каркасами взамен устаревающих зданий, использование передвижных и легкоразборных зданий промышленного и бытового назначения, а также применении конструкционных сталей при строительстве защитных береговых сооружений. Широко пропагандировались преимущества спецсталей в автомобилестроении, кораблестроении… Даже инвестиции на исследовательские работы сокращены по всем направлениям, кроме разработки новых конструкционных подшипниковых, пружинных сталей для автомобилестроения и высокотехнологического машиностроения.»
Теперь, давайте посмотрим, что говорили в это время в России. Цитата 2002 г.: «В России в 1991-2001 гг. имело место снижение производства нержавеющей стали почти в 6 раз. В 2001 году выпуск коррозионно-стойких сталей составил почти 55% против уровня 1999 года. Во многом по этой причине потребление коррозионно-стойких сталей у нас во много раз меньше, чем в западных странах. В расчете на одного человека в год: в России-1,1 кг, а в США - 8-10, Японии, Швеции, Германии - 10-15, в Италии - более 16 кг.
В 2003 году особенно заметным станет противоречие между растущей эффективностью сбытовых структур и низким качеством российской продукции. Усилится техническое отставание российской промышленности и в области ассортимента, и в области качества. Резко возрастет конкуренция между российскими заводами, которая осложнится активным освоением российского рынка зарубежными производителями, особенно в секторе нержавеющего и сложнолегированного проката.»
На этом фоне смешно читать, как робко отстаивала тогда свои интересы Россия в переговорах об условиях вступления в ВТО. 2002 год: «Учитывая структуру отрасли российская сторона предложила исключить из перечня запрещенных субсидий кредиты под гарантию федеральных (региональных) властей на реконструкцию и реструктуризацию без увеличения объемов производства предприятиям имеющим мощности до 1 млн.т. в год, в том числе и на социальную защиту высвобождаемых работников.»
Параллельно таким переговорам, которые сводились к фразе «позвольте нам дышать», конкуренты России наращивали производство под практически беспроцентные кредиты и государственные гарантии.
Итак, 2014 год. Что мы имеем? Мировой рынок увеличился в два раза, металлургия реально обновилась. Отечественная черная и цветная металлургия сильно завязана на экспорт, потому что экспортируется 30-90% от объема производства в зависимости от типа сырья, металлов и сплавов. Медленно, но верно наступают видимые и невидимые санкции. В мире все построено еще 15 лет назад. И Китай закончил основные инфраструктурные проекты. На этом фоне неразвитость российской инфраструктуры и масштабы территории должны восприниматься как подарок, потому что на весь объем металлов, производимых в России, есть потенциальный спрос.
Западные страны, тем временем, стали активно говорить про зеленую экономику, зеленую сталь, про то, что металлы обладают замечательным свойством - их можно перерабатывать на 100%. Стали часто повторять три буквы LCA и LCI, что означает «Оценка жизненного цикла» («Life cycle assesment», «Life cycle inventory»). Суть - переработка и утилизация металлопродукции являются незаменимым звеном жизненного цикла.
Жизненный цикл металлопродукции (LCA - Life cycle assesment) - Западный подход.
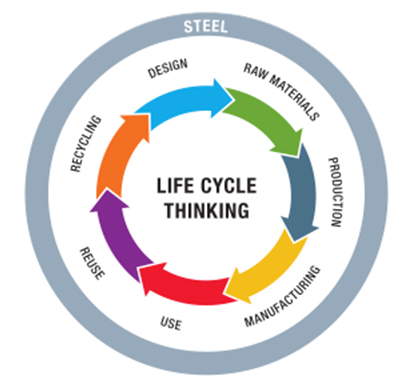
Иллюстрация с сайта Worldsteel.org
Все ли завязано на любовь к природе? Разгадка наступает, если мы изучим программы и стратегии устойчивого развития мировых автопроизводителей или других металлопотребляющих отраслей. Они, на удивление, тоже повторяют три буквы LCA, объясняя, что таким образом несут ответственность перед потребителями за качество материалов, используемых в автомобилях. Цель такой политики - привязка потребителя к себе: использовал металлоизделие, сдай его, получи скидку и возьми новое. Производители выстраивают контроль над всем жизненным циклом, уделяя серьезное внимание работе с ломопереработчиками и утилизаторами. Раньше одним из инструментов защиты своих сталепроизводителей были всевозможные техрегламенты и стандарты, именно поэтому до сих пор локализация производств комплектующих в России не выполнима в принципе. Завтра именно программы утилизации станут инструментом защиты рынка следующего поколения и базой для роста сбыта новых товаров. Из программ автопроизводителей очевидно, что уже в самое ближайшее время главная ставка в мире будет делаться на электромобили. Какой сделать стимул для покупателей, как заставить их покупать новые машины, сделанные из стали «правильных» металлургов? Сначала - вбить в голову «Замени старую машину на электромобиль - защити природу!», потом - дать скидку в качестве премии за сдаваемую машину.
Это будет завтра. Поэтому у России есть время проснуться, чтобы через 10-15 лет эту статью не цитировали, сокрушаясь об упущенном времени «Еще тогда об этом говорили, и все все понимали». Металлургическим предприятиям необходимо научиться думать по-новому, или они рискуют оказаться невостребованными и позабытыми.
Для России этот вопрос относится и к государственной власти, потому что зарубежные металлурги получают мощную поддержку от государства в виде субсидий, займов, налоговых преференций и госзаказов. Эта поддержка с первого взгляда не видна, но ее обнаружит любой исследователь, детально изучив взаимосвязи в металлопотребляющих отраслях и межгосударственные торговые потоки.
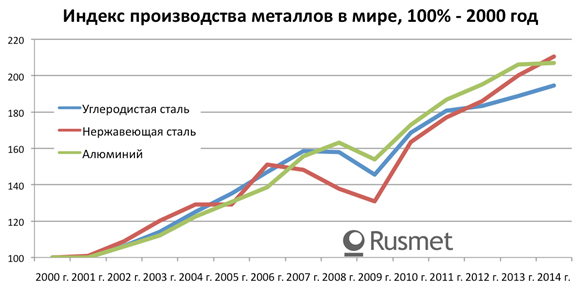

Иран презентовал новый вертолет собственного производства «Сурена» на 7-ом международном авиасалоне, который проводится в настоящее время на острове Киш, и, как заявил генеральный директор Иранской компании по обслуживанию и модернизации вертолетов Ахмед Абади, этот вертолет создан силами отечественных специалистов.
Ахмед Абади сообщил, что корпус вертолета выполнен из композитных материалов и сам вертолет спроектирован с учетом климатических условий Ирана. Он рассчитан на четыре человека и оснащен двигателем мощностью 300 л.с. Вертолет «Сурена» способен развивать скорость до 160 км/час и преодолевать расстояние в 650 км. Он может использоваться для патрулирования, обучения летчиков, выполнения других задач, а также применяться в качестве санитарного вертолета.
Следует отметить, что в 7-ом международном авиасалоне на острове Киш принимают участие более ста иранских и зарубежных компаний. На нем представлены такие страны, как Китай, Россия, Германия, Италия, Швеция, Франция, Украина, ОАЭ и Чехия. Открытие авиасалона состоялось 18 ноября, и его работа продолжится до 21 ноября.
Плохой урожай оливок в Европе в этом году вызовет рост цен на оливковое масло, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Нетипично высокая температура весной, холодное лето и сильные дожди стали причинами неурожая оливок в европейских странах, где сосредоточено производство оливкового масла – Италии, Испании, Франции и Португалии.
Так, в Италии ожидается 35-процентный спад производства, а оптовая цена оливкового масла уже выросла до 6 евро по сравнению с 2,7 евро в прошлом году. "Это худшие показатели за все время", — заявил глава итальянского Консорциума по производству оливкового масла Пьетро Сандали.
Цены растут и в Испании – там литр оливкового масла уже подорожал на один евро.
Для стран южной Европы, еще не успевших восстановиться от экономического кризиса, неурожай оливок станет довольно ощутимым ударом.
Зато Греция сможет поправить свое положение – объем производства оливкового масла здесь в этом году вырастет более чем вдвое, до 300 тыс тонн.
Глава МИД Сербии Ивица Дачич попросил иностранцев "расслабленно" воспринимать отношения Белграда и Москвы и не применять двойных стандартов к его государству.
Тем самым он ответил на вопрос журналистки албанского телеканала по поводу характера прошедших на минувшей неделе в Сербии российско-сербских военных учений и подписанного в 2013 году соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Белградом.
"Сербия — страна с военным нейтралитетом, в отличие от Албании. Сербия не входит ни в один блок или пакт, но осуществляет военное сотрудничество со всеми. У нее были учения и с США, и со многими другими армиями и силами полиции со всего мира, включая РФ. И это все знают", — заявил Дачич на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом.
Дачич отметил, что Сербия не ведет "ни русофильскую и ни русофобскую политику".
"Мы не хотим в военный союз ни с Россией, ни с НАТО. Мы военно нейтральные", — сказал Дачич.
Глава сербского МИД призвал не использовать двойные стандарты и не передергивать факты в связи с отношениями Белграда и Москвы, напомнив, что у многих стран есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве с РФ и что многие "русским продают оружие".
"Знаете, если бы у нас пел хор из России, то были бы и такого рода вопросы. Вы бы спросили, а чего это поет хор из Москвы? Это просто двойные стандарты. То, что могут делать Берлин, Париж, Рим и другие, не может малая Сербия. Расслабьтесь. Сербия не скрывается за Россией, так же и Албании не надо скрываться за другими ", — сказал Дачич.
14 ноября 2014 года в отеле Ритц Карлтон в Москве в рамках подготовки участия Российской Федерации во Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2015» прошел деловой форум «Продовольственная безопасность России: цели, задачи и перспективы» при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства РФ.
Он стал одним из ключевых этапов разработки деловой программы павильона России на «ЭКСПО-2015» в Милане. В работе Форума приняло участие более 200 делегатов.
В настоящее время тема продовольственной безопасности является одной из главных при формулировании государственной политики в области сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения. Вопросы, связанные с обеспечением продовольственной безопасности, регулярно поднимаются на самом высоком уровне. Пленарное заседание Форума по теме «Сотрудничество государства и бизнеса в области обеспечения продовольственной? безопасности» открыл приветствием от имени российской секции на «ЭКСПО-2015» директор Департамента внешнеэкономических отношении? Министерства промышленности и торговли РФ и член Оргкомитета российской секции на Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2015» Алексей Господарев:
“Я бы хотел пригласить всех вас к активному сотрудничеству в рамках «ЭКСПО-2015», чтобы внести свой вклад в успех работы российского павильона на ЭКСПО, способствуя высокому интересу со стороны других стран и всемирных организаций к российскому участию, и, как следствие, в укрепление позитивного имиджа нашей страны за рубежом”.
Андрей Волков, заместитель Министра сельского хозяйства РФ, обозначил точки роста в развитии сельского хозяйства в России, сделав особый акцент на птицеводстве и сое, как на перспективных сельскохозяйственных направлениях, которые также будут отражены в работе российского павильона на «ЭКСПО-2015».
Аркадий Злочевский, Президент Российского зернового союза, упомянул, что российское сырье пользуется спросом во всем мире, но в интересах продовольственной безопасности необходимо уделить особое внимание переработке и экспорт готовой продукции.
Арам Гукасян, исполняющий обязанности Генерального директора Объединенной зерновой компании, отметил большой потенциал развития производства продуктов питания в регионах Дальнего Востока с ориентацией экспортных потоков на Азиатско-Тихоокеанский рынок.
Его слова подтвердил Олег Рогачев, Первый заместитель генерального директора, ЗАО «Русагротранс», подчеркнув, что российский экспортный потенциал в сфере продовольствия не просто конкурентоспособен, но и имеет большой потенциальный спрос. Также он акцентировал внимание на том, что для реализации этого потенциала необходимы значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру.
Максим Протасов, Председатель Правления ассоциации “Руспродсоюз”, подробно остановился на том, что в России сегодня существует множество компаний, занимающихся оценкой производимой в стране продукции на соответствие тем или иным стандартам. Но в таком потоке, когда нет понимания объективности экспертных оценок, сложно ориентироваться как потребителям, так и представителям бизнеса. Именно поэтому создающаяся сегодня Минпромторгом России система Роскачества будет первой и единственной в стране государственной система мониторинга и добровольной сертификации качества товаров и услуг. Ее основной целью станет повышение качества и, как следствие, доверия потребителя к отечественной продукции.
В целом, все участники Форума отметили позитивную динамику решения вопросов, связанных с обеспечением продовольственной безопасности, как результат позитивного сотрудничества государственных органов власти и представителей бизнеса. Это еще раз подтверждает, что продовольственная безопасность, как одна из тем российского участия во Всемирной универсальной выставке, станет основной для формирования деловой программы российского участия. Обсуждение всех тем и вопросов, поднятых на Форуме «Продовольственная безопасность: цели, задачи и перспективы», продолжится на выставке «ЭКСПО-2015», которая пройдет с 01 мая по 31 октября 2015 года в Милане.
Ирина Чумакова. Картины Айвазовского, Кустодиева, Дейнеки, Маковского и Петрова-Водкина выставлены на "русские торги" аукционного дома Sotheby's, которые пройдут в Лондоне 24 ноября, широкой общественности полотна будут представлены 21 ноября.
Главным лотом торгов станет картина Константина Маковского "Иван Сусанин", написанная к 300-летию династии Романовых, ее оценочная стоимость составляет 1,5-2,5 миллиона фунтов стерлингов, сообщили РИА Новости в аукционном доме.
Картина Бориса Кустодиева "Бахчисарай" 1917 года оценивается в 1,2-1,8 миллиона фунтов стерлингов. Последний раз это полотно выставлялось 50 лет назад. Все годы оно находилось в коллекции одной семьи на протяжении трех поколений, отмечают представители Sotheby's.
Еще двумя топ-лотами станут полотна Ивана Айвазовского "Восход Луны над Аю-Дагом" 1856 года с так называемым "эстимейтом" в 800 000 —1,2 миллиона фунтов стерлингов и "Венеция" 1882 года с "эстимейтом" в 600 000-800 000 фунтов стерлингов.
Картина Александра Дейнеки "Вечер в колхозе" ("Чай на террасе") 1949 года выставлена на торги с оценочной стоимостью в 1-1,5 миллиона фунтов стерлингов.
Российский и советский живописец Кузьма Петров-Водкин на аукционе будет представлен работой "Купающиеся мальчики" с оценочной стоимостью в 600 000-800 000 фунтов стерлингов. Картина была написана летом 1921 года в Узбекистане и входит в "Самаркандскую серию".
На аукцион также выставлена коллекция эскизов живописца и графика Александра Яковлева.
Sotheby's, как Christie's и Bonhams, входит в тройку крупнейших международных аукционных домов. Аукционный дом MacDougall's специализируется на русском искусстве. Главные аукционы русской живописи и произведений искусства в Лондоне проводятся два раза в году — в ноябре и мае. В этом году русские торги в Sotheby's пройдут 24 и 25 ноября.
Глава итальянского МИД Паоло Джентилони заявил, что в отношениях с Россией дверь должна оставаться открытой и наряду с твердостью должен иметь место диалог.
Он подтвердил, что министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник "приняли решение не предлагать качественную эскалацию санкций" в отношении России. По словам Джентилони, "санкции являются необходимым злом", однако "по определению, они являются обратимыми".
"Наряду с твердостью должен иметь место диалог, дверь должна оставаться открытой, должны быть созданы условия для политического соглашения. Если и когда это произойдет, полагаю, по вопросу о санкциях можно будет пойти на попятный", — передают слова Джентилони итальянские СМИ.
Одной из главных причин сохранения санкций в отношении России глава МИД Италии назвал присоединение Крыма, которое в ЕС не признали. Крым вошел в состав России в марте по итогам референдума. "Если и когда дело дойдет до дискуссии об урегулировании на Украине и в регионе, на столе окажется и это, но на сегодняшний момент условий для этого нет", — приводят слова Джентилони итальянские СМИ.
Сергей Старцев.
В центре внимания иностранных медиа: манипуляции с Forex обойдутся в $4,3 млрд., BNP Paribas пора подумать о Monte dei Paschi, о чем говорит серия арестов вьетнамских банкиров.
В банковской отрасли все больше судебных разбирательств. В западных странах банки платят все более высокие штрафы, в развивающихся странах все больше банкиров оказываются за решеткой или получают смертный приговор. Казалось бы, все это должно давать надежду на оздоровление кредитных организаций. Но стоит ли на это надеяться? Например, в западных странах штрафы, взимаемые с банков за нарушения, не только растут в размерах, но и расходуются все менее прозрачно. В развивающихся странах коррупция распространена во многих отраслях, не только в банковской, так же как плохое управление и слабое регулирование. И решить эти проблемы быстро и качественно не получится.
Манипуляции с Forex обойдутся в $4,3 млрд.
На минувшей неделе было достигнуто крупное соглашение по валютным расследованиям, передает Reuters. Шесть банков – швейцарский UBS, британские HSBC и Royal Bank of Scotland, а также американские Citigroup, JP Morgan и Bank of America – согласились заплатить $4,3 млрд. британским, американским и швейцарским регуляторам за то, что им не удалось предотвратить манипуляции трейдеров на рынках иностранных валют. Расследование длилось около года; нарушения имели место в период с 2008 по октябрь 2013 года. За согласие на раннее урегулирование финансовым организациям была предоставлена 30%-я скидка.
Власти обвиняли дилеров в обмене конфиденциальной информацией о клиентских распоряжениях и в координировании операций с целью повышения размеров своей прибыли. Дилеры использовали кодовые имена для идентификации клиентов без упоминания их реальных имен и обменивались информацией в онлайн-чатах под вымышленными именами «игроки», «три мушкетера», «одна команда – одна мечта» и т.д. Трейдеры поздравляли друг друга с быстрыми прибылями.
В переговорах также участвовал британский Barclays, однако он отказался от соглашения с британскими и американскими властями в надежде достигнуть «более общего скоординированного соглашения». В США еще продолжаются расследования манипуляций на валютных рынках. Таким образом, следует ожидать новых штрафов за аналогичные нарушения, и $4,3 млрд. – не предел.
Расследования уже спровоцировали существенные изменения на рынке. Например, банки временно отстранили от работы или уволили более 30 трейдеров, запретили использование чатов и увеличили использование автоматизированной торговли.
В Financial Times вышла интересная колонка Джиллиан Тетт, посвященная соглашению по Forex. Согласно колумнисту, на минувшей неделе у некоторых британских благотворительных организаций появилась неожиданная причина для радости. Дело в том, что в прошлом британское правительство направляло часть средств, полученных от так называемых штрафов за проступки, на реализацию общественно полезных инициатив, например, на программы реабилитации для солдат. Возможно, правительство поступит так и на этот раз.
Как сказал министр финансов Великобритании Джордж Осборн: «Мы используем деньги от штрафов, наложенных на тех, кто проявил себя в нашем обществе наиболее неподобающим образом, для поддержки тех, кто показывает приверженность высочайшим ценностям». Однако подобные инициативы пока являются исключением, а не правилом. Штрафы, взимаемые в настоящее время западными регуляторами, имеют гораздо большие размеры, чем когда-либо ранее, и прозрачность распоряжения этими средствами очень низка. Это идет вразрез с требованиями политиков сделать финансы более открытыми.
По подсчетам профессора Лондонской школы экономики Роджера МакКормика, в период с 2009 по 2013 годы 12 глобальных банков мира заплатили штрафы европейским и американским регуляторам на общую сумму 105,4 млрд. фунтов стерлингов. Сюда входят взыскания за все нарушения, от недобросовестной продажи ипотечных ценных бумаг, до попыток манипулирования международной межбанковской процентной ставкой Libor. Также эти банки отложили 61,23 млрд. фунтов стерлингов на урегулирование дальнейших расследований.
Данные Управления по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority, FCA) – британского регулятора – свидетельствуют о том, что управлением с 2012 года было собрано 2 млрд. фунтов стерлингов за нарушения, включая штрафы за манипулирование валютными рынками. Традиционно регуляторы не тратили средства, полученные в виде штрафов. Однако с 2012 года FCA стало передавать эти деньги Министерству финансов за вычетом годовых расходов на содержание штата (40 млн. фунтов стерлингов), а Осборн заявил, что министерство выделит из этой суммы около 300 тыс. фунтов стерлингов на благотворительность. На что будут потрачены остальные средства, еще неизвестно. Пока они помещены в общий государственный котел.
Ситуация в США, к сожалению, еще менее прозрачна, поскольку там штрафы взимаются целым рядом различных организаций. Крупные федеральные агентства, такие как Комиссия по регулированию деятельности коммерческих банков и Комиссия по срочной биржевой торговле, передают вырученные от штрафов средства Министерству финансов США. Там они растворяются в общем бюджетном котле.
Когда государственные регуляторы и прочие органы взимают штрафы, они стремятся разделить полученные средства между жертвами, некоторыми группами сообществ, юристами, а также прокурорами, обычно в рамках частных соглашений, которые получают минимум огласки.
По мнению автора колонки, непрозрачность нежелательна. Есть множество причин наложения штрафов на банки, учитывая масштабы скандалов последних лет. Кроме того, до тех пор, пока кредитные организации не будут наказаны, общественность не почувствует торжество справедливости. Однако, по крайней мере, требуется больше общественных дискуссий по вопросу о том, как будет использоваться «штрафной котел». В конце концов одним из уроков финансового кризиса является то, что непрозрачность способствует нарушениям и злоупотреблениям.
BNP Paribas пора подумать о Monte dei Paschi
Об этом говорится в статье New York Times. В этом году, после уплаты американским регуляторам штрафа в размере $8,9 млрд., акционеры BNP Paribas, возможно, считают, что им достаточно приключений. Но если не обращать внимания на риски, то есть причины, по которым слияние с итальянской кредитной организацией может быть желательным.
Вопрос о слиянии уже обсуждался ранее. Приобретение Monte dei Paschi способно дать BNP Paribas хорошую долю итальянского банковского рынка, в результате чего местное отделение BNP перепрыгнет с шестого на третье место по объему активов в Италии. Но риски все время перевешивали возможные выгоды. Сиенская благотворительная организация, контролировавшая половину Monte dei Paschi, могла заблокировать сделку. Кроме того, значительная вовлеченность Monte dei Paschi в сделки с итальянской суверенной задолженностью могла нанести удар по капиталу, а известный в тот момент объем «плохих» активов мог быть недооцененным.
Однако теперь значимость этих барьеров снижается. Фонд превратился в миноритарного акционера кредитной организации, а итальянские власти, в особенности Банк Италии, были бы рады иностранному покупателю. Проверка качества активов, проведенная в прошлом месяце, а также планы по продаже новых акций с целью привлечения 2,5 млрд. евро оказывают укрепляющее воздействие на баланс Monte dei Paschi.
Между сетями отделений Monte dei Paschi и BNP Paribas мало пересечений, поэтому достигнуть синергии, эквивалентной 20% стоимости банка-цели, как бывает при слиянии некоторых итальянских банков, может оказаться непросто. Но и консервативная цель по синергии в 10% принесет 260 млн. евро до уплаты налогов.
Глобальное влияние BNP Paribas может снизить затраты на привлечение финансирования для Monte dei Paschi. Снижение стоимости финансирования на 20 базисных пунктов сэкономит 260 млн. евро. После налогообложения и капитализации все синергетические эффекты оцениваются в 3,4 млрд. евро – именно таков размер рыночной капитализации Monte dei Paschi в настоящий момент.
Тем не менее у инвесторов BNP Paribas есть поводы для беспокойства. Если сделка не будет тщательно спланирована, после приобретения Monte dei Paschi новый банк окажется в группе более крупных системно значимых финансовых организаций. И это повысит требования к капиталу на 0,5 процентного пункта. Попытки «набрать вес» в пострадавшей от дефляции Италии, где рост кредитования стагнирует, а объемы «плохих» долгов высоки, могут быть рискованными. Впрочем, французский банк имеет возможность отразить все это в своих условиях, и слияние вполне может оказаться стоящей сделкой.
О чем говорит серия арестов вьетнамских банкиров
Согласно Economist, для боссов вьетнамских банков тюрьма становится вполне обычным делом. В прошлом месяце по подозрению в мошенничестве был арестован Ха Ван Тхам, глава кредитной организации Ocean, одного из 37 частных банков страны. В июне 2014 года другой вьетнамский банковский олигарх Нгуен Дук Киен был приговорен к 30 годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и нелегальное кредитование. Высокопоставленные лица государственного Agribank были обвинены в различных преступлениях, а один из них был приговорен к смертной казни за растрату.
Аутсайдер может увидеть в этой волне обвинений и арестов свидетельство того, что вьетнамские банки безнадежно коррумпированы. Конечно, они страдают от плохого управления и слабого надзора. Четыре государственных банка щедро кредитовали плохо управляемые государственные предприятия. Частные кредитные организации (на которые приходится основная часть кредитования в стране) активно выдавали средства девелоперам, способствуя раздуванию мыльного пузыря на рынке недвижимости, который лопнул в 2010 году. Неудивительно, что проблемные кредиты накапливаются. Ранее в этом году международное рейтинговое агентство Moody’s опубликовало доклад, согласно которому 15% всех кредитов и инвестиций, сделанных вьетнамскими банками, представляют собой «проблемные активы», что значительно выше оценок центрального банка Вьетнама, считающего, что таких активов всего 4,7%.
Согласно некоторым источникам, все знают, что специалисты и директора кредитных отделов берут взятки за выдачу кредитов. Поэтому Евгений Тарзиманов, вице-президент Moody’s, видит в череде арестов позитивный знак того, что регуляторы и власти Вьетнама серьезно настроены по отношению к «чистке» банков. Многие местные жители отмечают, что коррупция во Вьетнаме распространена во многих других банках и во многих других отраслях. По мнению автора статьи, без здорового банковского сектора Вьетнаму будет сложно вернуться к ежегодным темпам экономического роста на уровне 7–8%, которые наблюдались в докризисные годы.
Кира Аккерман
Казахстанский рынок медикаментов оценивается в $1,5 млрд с ежегодным приростом в 5-7%. Доля иностранного присутствия достигает около 85% при 15% местного производства. Такое положение дел объясняется легкостью входа иностранных компаний на местный рынок, а также низкой развитостью местной фармпромышленности. Иностранные компании устремились на местный рынок, скупая доли в локальных фармкомпаниях.
Фармрынок Казахстана: к чему приведет зеленый свет для иностранного производителя
Сегодня можно наблюдать такую тенденцию, когда иностранные компании становятся собственниками местных производителей, выкупая контрольный пакет акций или же участвуя в процессе так называемой локализации, то есть строительстве собственных заводов на территории страны.
«Уже есть такие примеры и, наверное, в будущем будет использоваться такая модель, когда иностранные компании заходят на площадку действующего фармацевтического предприятия, входят в его капитал, приобретая его полностью или частично, таким образом, проникая на рынок. Среди таких компаний уже есть турецкие производители и компании из Польши. Российские игроки в последнее время заходят таким же образом», – говорит член правления Ассоциации поддержки и развития фармдеятельности Батырбек Машкеев.
Согласно данным, которые нам предоставили в ассоциации «ФармМедИндустрия Казахстана», иностранные компании охотно вкладывают средства в отечественный рынок. К примеру, польская компания PolPharma приобрела 51% акций от местной компании АО «Химфарм», вложив в сумме порядка $100 млн инвестиций в строительство и модернизацию, получив при этом международный стандарт GMP, который позволяет компании экспортировать лекарственные препараты в страны Европы. Турецкая компания «Нобель» выкупила Алматинскую фармфабрику, вложила более $30 млн в реконструкцию, также получив стандарт GMP. Сегодня компания планирует вложить еще 60 млн в строительство завода в индустриальной зоне в Алматы. Казахстанская компания «Глобалфарм» продала 60% своих акций самой крупной фармацевтической компании в Турции ABDI Ibrahim.
«Суммарный объем иностранных инвестиций, направленных на развитие и реконструкцию заводов и предприятий, составляет более $200 млн. Привлечение инвесторов объясняется ориентированностью отечественного рынка на экспортное производство лекарственных средств и сокращением иностранного присутствия», – говорит президент ассоциации «ФармМедИндустрия Казахстана» Серик Султанов.
Смена ориентира
Согласно данным Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в стране действуют порядка 79 предприятий, занятых в фармацевтической промышленности, также включая средних и мелких производителей. Так, более 90% всех выпускаемых в Казахстане лекарств в денежном выражении приходится на долю 6 наиболее крупных заводов-производителей.
Сегодня импортная фармпродукция включает как оригинальные препараты, так и более доступные генерики, которые поступают в страну в основном из Индии и России и других стран. Из $1,5 млрд объема казахстанского рынка около $800 млн приходится на госучастие. Таким образом, фармацевтический рынок Казахстана условно можно разделить на розничные аптечные продажи и государственные закупки.
«Рынок оценивается в $1,5-1,7 млрд, где половина – это деньги государства, вторая половина – эта средства потребителя. То есть 800 млн тратит государство на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, остальное потребитель платит из своего кармана», – объясняет Батырбек Машкеев.
По мнению экспертов Business Monitor International (BMI), основной причиной активного участия государства в этом секторе и развитие фармпромышленности через консолидацию госзакупок лекарственных средств является решение государства повысить уровень внутреннего фармацевтического рынка до 50% в натуральном выражении. На сегодняшний день эта цифра достигает пока только 30%.
«Казахстанский рынок сильно зависим от иностранных компаний. Представьте себе, 12% местного производства против 88% импорта. Это однозначная зависимость от импорта. Лекарства, которые производятся у нас, рассчитаны на внутреннее потребление. Раньше фармацевтический рынок рос на 12-15% ежегодно, сейчас же эта цифра немного меньше – до 7%. Дело в том, что у нас растет потребление лекарственных средств как со стороны государства (в рамках госзаказа – прим. ред.), так и со стороны самого населения. Хотя, если взять затраты на душу населения, то они по-прежнему на низком уровне. К примеру, в США примерная сумма затрат составляет $400-500, в Японии – $800, а у нас это $80-$100 на человека», – говорит Машкеев.
Основное присутствие за собой обозначили такие страны, как Германия, Франция и Индия с $234 млн, $130 млн и $97 млн долей импорта в 2013 году. Эксперты утверждают, что местный производственный рынок довольно консервативен. Компании, занятые в сфере производства лекарственных средств, в основном ориентированы на среднюю потребительскую корзину. Оригинальные дорогие препараты представлены странами Западной Европы и США.
По словам Серика Султанова, оригинальными препаратами пользуются около 2-3% населения, но это составляет практически 40% от всего рынка с финансовой точки зрения.
«Тут важно привести два показателя. Если говорить о денежном выражении, то более 85% – это иностранные препараты, 15% – отечественные. Если брать в натуральном выражении, то есть в таблетках и капсулах, то на рынке 37% – это отечественные препараты и более 60% – импортные. Оригинальными препаратами пользуются около 2-3% населения», – объясняет спикер.
Ключевыми экспортерами казахстанских лекарственных средств являются Кыргызстан и Туркмения. В 2013 году Казахстан поставил лекарственных средств в эти страны на сумму в $8,7 млн и $1,8 млн соответственно.
Сырьевая зависимость
Практически вся отрасль фармдеятельности сосредоточена в частных руках. Основными проблемами слабой развитости казахстанского фармрынка эксперты называют низкий уровень развитости инфраструктуры, затраты на сырье для медикаментов и отсутствие подходящего оборудования – все это является сдерживающими факторами развития местного рынка.
Казахстанские производители сильно зависимы от сырьевой составляющей производства. Местным игрокам приходится закупать сырье для производства лекарственных препаратов за границей, что делает местную фармдеятельность зависимой от всех этих факторов. Основными поставщиками сырья для производства являются Индия и Китай. Стоит отметить, что именно эти страны обеспечивают порядка 80% от всей сырьевой составляющей мирового рынка фармпроизводства.
«Во всем мире сырье для производства лекарственных средств закупают в Индии и Китае, так как это самое вредное производство, а в этих странах оно уже налажено. Оборудование для производства завозят из Италии и Германии», – объясняет Султанов.
Местные компании часто не в силах выдержать конкуренцию по отношению к иностранным компаниям, более того, отечественная составляющая, учитывая все факторы, крайне мала.
Как утверждает Машкеев, иностранным компаниям достаточно легко зайти на отечественный рынок, именно этим объясняется их присутствие на рынке. Но, по словам спикера, такая ситуация вполне приемлема для ряда многих стран, так как существуют препараты, которые не производятся на местном рынке.
«Иностранные лекарства в цене часто выше, чем местные. Казахстанский рынок нельзя назвать чисто генерическим рынком, где присутствуют только Индия, Китай или Россия. Да, мы зависимы, но ни одна страна не обходится только своими препаратами. Даже такие страны, как Германия и Швейцария, могут обеспечить себя лишь на 30%. Конечно, есть такие страны, как Иран, которые закрыты на 90% и им приходится самим себя обеспечивать, но это происходит по причине эмбарго, которое было наложено на страну», – говорит он.
Таким образом, рынок фармпроизводства будет развиваться за счет иностранной составляющей на местном рынке, привлекая в эту область все больше заинтересованных зарубежных компаний и инвесторов.
ФАО прочит аквакультуре успешное будущее
Мировое производство продукции аквакультуры будет увеличиваться быстрее, чем предполагалось ранее, считают специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН).
О благоприятных перспективах рыбоводной отрасли рассказали эксперты отдела политики и экономики рыбного хозяйства и аквакультуры ФАО. По словам специалистов, будут расти вложения в технологии рационального использования воды и выращивания мальков, а также в инновационные производства новых кормовых смесей. Благодаря этому ежегодное увеличение производства до 2022 г. составит 4,14% вместо 2,54%, которые прогнозировались ранее.
Как сообщает корреспондент Fishnews, самый быстрый рост рыбоводства ожидается в Африке – там он может превысить 5% в год. Однако это связано, кроме прочего, с тем, что развитие аквакультуры на континенте начинается с очень низкого базового уровня.
Рекорд производства рыбоводной продукции был зафиксирован в 2012 г. – 66,5 млн. тонн. В 2011 г. около 50% мирового экспорта водных биоресурсов общей стоимостью 127 млрд. долларов обеспечила аквакультура развивающихся стран.
Потребление рыбы и морепродуктов в мире выросло с 9,9 кг в 1970 г. до 19,1 кг в 2012 г. Этот показатель значительно различается по регионам. Так, в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке потребление ВБР на душу населения примерно вполовину меньше, чем в среднем по миру.
Итальянский производитель деревообрабатывающего оборудования Biesse Group увеличил выручку в 3 кв. 2014 г. в годовом исчислении на 15,1% до 101,6 млн евро, чистая прибыль выросла в 2,7 раза до 2,7 млн евро, об этом говорится в полученном Lesprom Network отчете группы.
Рост выручки от продаж промышленного оборудования в странах Западной Европы составил 17,6%, доля этого региона в выручке составила 28,8%. Продажи на внутреннем рынке Италии составили 10,2% выруски.
За первые 9 мес. 2014 г. рост объемов продажи оборудования Biesse в Северной Америке в годовом исчислении составил 18,8%, в Восточной Европе - 28%, Азии и Австралии - 8,3%. Доля стран B.R.I.C. в продажах составила 13,7%. Доля оборудования для обруботки древесины в продажах Biesse составила 72,0%.
Приток заказов на оборудование с начала года вырос на 20% в годовом исчислении, в 3 кв. 2014 г. рост составил 17,3%. На конце сентября портфель заказов группы оценивается в 108,2 млн евро (+33.2%).
Комментируя результаты, генеральный директор Biesse Стефано Порчеллини заявил: “Результаты первых девяти месяцев года были явно позитивными; за последние 18 месяцев мы много инвестировали в рост, несмотря на сохранявшуюся рыночную нестабильность, и результаты были достигнуты. Мы уверены в нашей способности получить такие же впечатляющие результаты за весь 2014 г."
Biesse Group прогнозирует по итогам всего 2014 г. выручку на уровне 415-420 млн евро, а EBITDA - 40-41 млн евро.
Biesse Group производит технологическое оборудование и системы для обработки древесины, стекла, мрамора и камня. Группу в 1969 г. в г. Пезаро (Италия) основал Джанкарло Сельчи. С июня 2001 г. акции Biesse S.p.A. входят в листинг секции STAR фондовой биржи Италии. В группе работает более 2860 человек.
Названы страны, где на английском говорят, как на родном
Европа доминирует первой двадцаткой Индекса владения английским языком, среди стран Азии лидируют Сингапур и Малайзия, а в Латинской Америке его хорошо знают только в Аргентине.
Четвертое издание Индекса EF EPI (Education First English Proficiency Index) — показателя уровня владения английским языком — количественно измерило, насколько представители 63 стран мира умеют изъясняться на не родном для них языке. В тестировании участвовало более 750 тысяч совершеннолетних, чьи результаты тестов были использованы для формирования рейтингов.
Первое место рейтинга заняла Дания с результатом 69,3 балла, за ней следуют Голландия (68,98 балла) и Швеция (67,80 балла). Отличные результаты жителей Северной Европы связаны, в первую очередь, со значительными инвестициями в сферу образования. Среди славян в знании английского лидирует Польша, занявшая шестое место. Сингапур и Малайзия оказались единственными представителями Азии в первой двадцатке.
Исследователи отмечают, что в 2014 году знание английского языка взрослого населения улучшилось во всем мире. Уровень знаний европейцев оказался выше, чем в других странах мира, и продолжает расти, поскольку существует прямая связь между уровнем владения языком и доходами, уровнем жизни, использованием интернета и продолжительностью обучения в школе.
EF (Education First) является крупнейшей в мире образовательной компанией, специализирующейся на организации языковых курсов. Она была основана в 1965 году, и на сегодняшний день ее 500 школ и офисов работают в 52 странах мира.
Индекс владения английским языком EF EPI 2014:
1. Дания - 69,30
2. Нидерланды - 68,98
3. Швеция - 67,80
4. Финляндия - 64,39
5. Норвегия - 64,32
6. Польша - 64,26
7. Австрия - 63,21
8. Эстония - 61,39
9. Бельгия - 61,20
10. Германия - 60,88
11. Словения - 60,59
12. Малайзия - 59,72
13. Сингапур- 59,58
14. Латвия - 59,43
15. Аргентина - 59,02
16. Румыния - 58,63
17. Венгрия - 58,54
18. Швейцария - 58,29
19. Чехия - 57,42
20. Испания - 57,18
21. Португалия - 56,83
22. Словакия - 55,95
24. Южная Корея - 53,62
25. Индия - 53,54
26. Япония - 52,88
27. Италия - 52,80
29. Франция - 52,68
36. Россия - 50,43
37. Китай - 50,15
47. Турция - 47,80
Германия названа лучшей страной мира
Во второй раз за последнее десятилетие Германия опередила США в гонке за звание «лучшая страна в мире». Это было единственное изменение, которое произошло в первой десятке рейтинга по сравнению с данными 2013 года.
За десятилетнюю историю рейтинга «Anholt-GfK Roper Nation Brands Index» Германии удалось повторить достижение 2009 года и отбить у США титул «лучшей страны мира», сообщает портал The Telegrаph. В маркетинговом исследовании компании GfK на вопросы о 50 ведущих странах мира ответили 20 000 человек из 20 стран. Респонденты должны были оценить влияние 23 различных аспектов на общее представление о благосостоянии страны. Аспекты были разделены на шесть категорий: экономика, государственное управление, культура, население, туризм и иммиграция.
"Судя по всему, немцы извлекли пользу не только из победы на Чемпионате мира по футболу, они также укрепили своё лидерство в Европе благодаря стабильной экономике и разумному руководству", - подчеркнул основатель проекта Саймон Анхольт.
США по-прежнему доминируют в следующих категориях: искусство, современная культура и учебные заведения. Однако рейтинг официального Вашингтона опустился на 19 место, когда респондентов попросили оценить категорию «мир и безопасность». Особенно резко США осудили на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.
К сожалению, в этом году Россия оказалась на 25 месте, позади Китая. Самые низкие оценки страна получила в категории «правительство».
Следует отметить, что Австралия, Канада, США, Швейцария и Швеция также вошли в первую десятку самых благополучных стран мира, а Германии британские исследователи присвоили лишь четырнадцатое место.
Топ-10 лучших стран мира в 2014 году:
1. Германия
2. США
3. Великобритания
4. Франция
5. Канада
6. Япония
7. Италия
8. Швейцария
9. Австралия
10. Швеция
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в воскресенье, 16 ноября, подчеркнула необходимость дальнейших переговоров с Россией, несмотря на разночтение в позиции по украинскому кризису, передает Deutsche Welle.
"Важно использовать любую возможность для диалога", — заявила Меркель после встречи с премьер-министром Австралии Тони Эбботтом.
Ранее 15 ноября президент России Владимир Путин провел встречу с Ангелой Меркель в рамках саммита G20, разъяснив нюансы российского подхода к ситуации на востоке Украины. Как говорится в сообщении Deutsche Welle, канцлер ФРГ отказалась раскрывать детали разговора и отметила, что на встрече обсуждалась ситуация на Украине в целом.
В рамках саммита G20 в Брисбене Путин также провел встречи с лидерами Италии, Франции и Великобритании. На всех этих встречах украинский кризис был основной темой.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля Евросоюз и США ввели санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и компаний, в первую очередь оборонных, энергетических и госбанков. В ответ Россия 7 августа на год ограничила импорт ряда товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали говядина, свинина, птица, колбасы, морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция и ряд других продуктов.
Москва неоднократно заявляла, что абсолютно непричастна к событиям на юго-востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В Москве отмечали, что все обвинения в ее адрес бездоказательны. Россия также неоднократно призывала всех внешних игроков повлиять на Киев для выполнения минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке страны.
В урегулировании украинского кризиса не может быть военного или санкционного решения, необходимо искать политические пути выхода из ситуации, заявил министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони в интервью газете Corriere della Sera.
"Военного решения не существует <…> Думаю, для всех очевидно, что наравне с твердостью необходимо держать открытыми все дипломатические каналы и искать политическое решение, чтобы гарантировать не только независимость Украины, но и статус России как великой страны", — заявил Паоло Джентилони.
По мнению министра, в отношениях с Россией необходимо сочетать твердость и умение вести диалог. "Иллюзорно думать, — заявил он, — что подобная ситуация может быть разрешена исключительно с помощью санкций".
На вопрос журналиста относительно слов главы НАТО Йенса Столтенберга, что альянс будет готов поддержать Украину, Паоло Джентилони уточнил, что Украина не является членом альянса и, по его мнению, не войдет в него в будущем, поэтому военное решение в данной ситуации неприемлемо.
Победителем конкурса детского Евровидения-2014 стал Винченцо Кантиелло (Vincenzo Cantiello) из Италии с песней Tu primo grande amore ("Ты моя самая первая любовь").
В финале конкурса, который прошел на Мальте, в городе Марса, сразились участники из 16 стран — России, Белоруссии, Украины, Грузии, Мальты, Болгарии, Армении, Хорватии, Кипра, Италии, Сан-Марино, Черногории, Сербии, Словении, Швеции, Нидерландов.
Винченцо Кантиелло родом из маленького города Сант-Априно, находящегося недалеко от Неаполя, родился 25 августа 2000 года. Винченцо уже стал победителем нескольких популярных песенных конкурсов в Италии, но главным поворотом в его карьере стало участие в Ti lascio una Canzone, самом популярном детском шоу талантов в стране, которое транслируется на телеканале Rai1. Сам Винченцо характеризует себя как очень эмоционального человека, который способен прочувствовать песню до самой ее глубины. Tu primo grande amore рассказывает о том, что для подростка означает его первая влюбленность.
Накануне финальных выступлений в субботу свои голоса молодым участникам отдали члены международного жюри фестиваля. От России оценки выставляли телеведущая Оксана Федорова, певица Юлия Началова, поэт Юрий Энтин, певица Маргарита Суханкина, музыкант Никита Пресняков и молодая певица Соня Лапшакова. А непосредственно перед началом итоговых выступлений к участникам конкурса обратилась победитель взрослого Евровидения-2014 Кончита Вурст. Она пожелала детям "удачи, веселья и как следует развлечься на сцене".
Российская участница, 11-летняя Алиса Кожикина, заняла на конкурсе 5-е место. Победительница прошлогоднего телевизионного шоу "Голос. Дети" из Курской области исполнила песню Dreamer ("Мечтатель"), текст для которой написала сама вместе с солисткой группы SEREBRO Ольгой Серябкиной, а музыку создал Максим Фадеев.
Первый конкурс детского "Евровидения" был проведен 15 ноября 2003 года. Нынешний фестиваль прошел на Мальте. Его официальным слоганом стал хэштэг #together ("вместе"). Отличительной особенностью смотра стало интернет-голосование для зрителей, которые проживают не в странах-участницах конкурса. Эти голоса будут использованы для определения победителя в номинации "Онлайн награда", чье имя будет названо позднее.
На прошлогоднем конкурсе Россию представляла 11-летняя школьница из Казани Даяна Кириллова, которая заняла четвертое место.
Елизавета Исакова.
Встреча с премьер-министром Италии Маттео Ренци.
В Брисбене (Австралия) состоялась встреча Владимира Путина с Председателем Совета министров Италии Маттео Ренци.
Итальянский Премьер-министр, в частности, интересовался у Президента России его оценкой тех встреч, которые состоялись у главы Российского государства в Пекине в рамках форума АТЭС.
Кроме того, Владимир Путин и Маттео Ренци обменялись мнениями по ситуации на Украине: выражена озабоченность ростом напряженности на юго-востоке страны.
Президент России и Премьер-министр Италии также кратко остановились на двусторонних отношениях.
Маттео Ренци пригласил Владимира Путина посетить выставку «ЭКСПО-2015» в Милане. Глава Российского государства принял приглашение.
* * *
Начало встречи с Председателем Совета министров Италии Маттео Ренци
В.ПУТИН: Уважаемый премьер-министр, добрый день!
Хочу вспомнить свою поездку в Милан и поблагодарить Вас за гостеприимность. За это время немного произошло, но, имея в виду объём наших отношений, нам всегда есть о чём поговорить. И я очень рад на полях «двадцатки» встретиться с Вами отдельно.
М.РЕНЦИ (как переведено): Спасибо, господин Президент. Я также считаю, что наша миланская встреча была важной для нас всех. В частности, эта встреча была важна для взаимоотношений между Европой и Азией, которые имеют фундаментальное, стратегическое значение и должны всё более развиваться. И, конечно, потому что это была наша первая встреча с тех пор, как я был назначен Председателем Совета министров Италии.
И я также надеюсь, что эта встреча помогла нам продвинуться вперёд по тем вопросам, которые остаются открытыми между Россией и Евросоюзом, в частности речь идёт об Украине.
Я хотел бы, чтобы дух нашей миланской встречи сопровождал наш дальнейший диалог. И я также хотел бы выразить надежду, что мы сможем увидеться с Вами во время выставки ЭКСПО, которая пройдёт в этом же городе, в Милане, в мае 2015 года.
Я хотел бы в этой связи поинтересоваться Вашими оценками тех событий, тех встреч, которые прошли за последние недели. Я знаю, что состоялись важные встречи в Пекине в рамках АТЭС. Хотел бы узнать Ваши оценки результатов, итогов этих мероприятий, а также Ваши оценки того, что касается событий на Украине и вокруг неё.
Очередной форум АТЭС, прошедший с 5 по 11 ноября в Пекине, подтвердил две связанные с ним тенденции, давно наметившиеся и прямо противоположно направленные. Первая заключается в падении роли в мировых политических процессах АТЭС самой по себе, как региональной квазиорганизации. Вторая – в росте значимости проводимых АТЭС форумов, как площадок, на которых разворачивается новая геополитическая игра. Причём “ходы” главных игроков делаются как бы параллельно с (якобы) основным форумным действом, то есть на его “полях”.
Оба эти тренда вызваны одной и той же причиной, которая представляет собой и основное содержание новой мировой политической игры. Речь идёт о всестороннем соперничестве США и Китая, сделавшем невозможным достижение основной цели формирования в 90-е годы АТЭС, которая заключалась в создании условий для общерегиональных интеграционных процессов.
Но и с альтернативным проектом “Транстихоокеанского партнёрства” (ТТП) дело пока не очень клеится. Как и прогнозировалось ранее, в ходе пекинского саммита АТЭС не удалось выполнить поставленную тогда президентом США Б. Обамой задачу подписания уставных документов ТТП.
Что касается “ходов” ведущих игроков на “полях” АТЭС, то они осуществлялись в ходе двусторонних встреч экспертов и министров, которые предшествовали финальному действу в виде бесед государственных лидеров.
Встреча В.В. Путина с Си Цзиньпином не содержала в себе какой-либо интриги, поскольку её итоги подтвердили давно установившийся плодотворный характер двусторонних отношений.
К заслуживающим особого внимания контактам на высшем уровне в ходе работы пекинского форума АТЭС следует отнести беседы Си Цзиньпина с Б. Обамой и С. Абэ, а также В.В. Путина с теми же Б. Обамой и С. Абэ.
Они различались продолжительностью и сопутствующим “антуражем”. Но для интересов России в АТР все они имели важное значение. В условиях обострения ситуации в регионе и в мире в целом значимость этих контактов обуславливалась прежде всего самим фактом их проведения.
Ибо в процессе обсуждения не могли не затрагиваться ключевые международные проблемы, которые проявляются и в системе парных взаимосвязей “США-Китай”, “Япония-Китай”, “Россия-США”, “Россия-Япония”.
США-Китай
Мнение о том, что “никакой другой фактор сегодня не оказывает столь же глубокого влияния на международную ситуацию, как отношения между США и КНР” можно считать типичным в экспертном сообществе.
Осенью 2012 г., то есть за несколько месяцев до ухода с поста госсекретаря США, Хилари Клинтон заявила о том, что сегодня “Вашингтон и Пекин пытаются сделать то, что не удавалось сделать никому за всю прошедшую историю”. В этой фразе просматривался очевидный намёк на скверную историческую традицию, которая заключается в том, что появление нового глобального игрока неизменно воспринимается действующим до этого момента геополитическим лидером в качестве вызова его ключевым интересам.
Возникающая при этом коллизия почти всегда завершалась войной катастрофических масштабов. В нынешней же ситуации наличия в арсеналах обоих ведущих мировых держав, США и Китая, ядерного оружия вполне ожидаемыми стали попытки их лидеров “обмануть” мрачную историческую традицию. Обе стороны начали посылать в адрес друг друга позитивные сигналы. С американской стороны таковыми, в частности, явились приглашение китайским ВМС принять участие в международных военно-морских учениях RIMPAC-2014 и заявление о “возможности” вхождения КНР в ТТП.
Из последних свидетельств подобных сигналов с китайской стороны можно упомянуть церемонию памяти лётчиков-добровольцев американской эскадрильи “Летающие тигры”, сражавшейся в Китае против японцев ещё до начала полномасштабной войны на Тихом океане.
Эта церемония была проведена китайским консульством в Лос-Анджелесе 24 октября 2014 г., то есть за две недели до начала работы форума АТЭС, в ходе которого была запланирована встреча Си Цзиньпина с Б. Обамой.
В самом общем виде оценка её итогов сводится к тому, что фундаментальные проблемы в двусторонних отношениях сохраняются, но продолжают предприниматься и некоторые шаги навстречу друг другу.
Япония-Китай
Растущая значимость связки “Япония-Китай”, в числе прочего, определяется и тем, что в случае углубления тренда в американской политике по уходу от конфронтации с КНР, на передний план в АТР с неизбежностью выйдет комплекс как раз японо-китайских отношений. Между тем, их состояние, выражаясь весьма мягко, “оставляет желать”. Иллюстрацией последнего является уже то, что с лета 2012 г. были прерваны какие-либо официальные контакты между обеими странами. Поэтому первоочередной проблемой двусторонних отношений, подлежавшей решению на форуме АТЭС, стало хотя бы возобновление этих контактов.
Инициатива в посылке соответствующих месседжей в адрес партнёра исходила от Японии, на которую оказывали давление США, заинтересованные в понижении уровня напряжённости в АТР. В серии зондажных поездок в КНР неофициальных (но первостепенной значимости) японских политиков, которые с мая 2014 г. проводились японской стороной, особое значение имело двукратное посещение Пекина бывшим премьер-министром Японии Ясуо Фукудой.
Выбор Я. Фукуды в качестве “парламентёра” на предварительных переговорах с китайцами, обуславливался, видимо, тем, что именно в период его премьерства (2007-2008 гг.) двусторонние отношения на короткое время приняли характер, определявшийся тогда замысловатыми выражения, типа “цветущая весна”. Однако краткосрочная “цветущая весна” в японо-китайских отношениях быстро сменилась длинной тоскливой “осенью”.
В ходе второго из упоминавшихся выше визитов Я. Фукуды в Пекин, состоявшегося 30 сентября, впервые прошла его “приятная беседа” с лидером КНР Си Цзиньпином, которая “вышла за пределы” двусторонних отношений.
Первыми же официальными контактами стали переговоры в Пекине (во время уже начавшего работу форума АТЭС) между руководителями МИД обеих стран Фумио Кисидой и Ван И, а также между членом только-что созданного Совета по национальной безопасности Японии Сиотаро Яти и Ян Цзечи – предшественником Ван И на посту министра иностранных дел КНР, занявшим более высокий пост в иерархии руководства КНР.
В ходе этих встреч было принято совместное заявление из четырёх пунктов, в соответствии с которыми стороны намерены далее действовать в целях улучшения отношений между обеими странами и в интересах региона в целом. Указанное заявление и стало базой для первой за последние три года встречи лидеров КНР и Японии.
Обозначившийся в ходе переговоров между С. Абэ и Си Цзиньпином тренд к улучшению японо-китайских отношений следует рассматривать как весьма позитивный для российских интересов. Ибо, самое последнее, чего можно было бы пожелать России, это оказаться в состоянии политического выбора между Китаем и Японией в случае дальнейшего ухудшения отношений между ними.
Однако не следует и преувеличивать значимость произошедшего на форуме АТЭС для состояния японо-китайских отношений. Речь пока идёт лишь о возобновлении официальных контактов между обеими странами и проявленном взаимном желании обсуждать проблемы, которые сами по себе никуда не исчезнут и, в отличие от зубной боли, не подлежат “заговариванию”.
Россия-США
Проблемы в российско-американских отношениях накапливались давно, и в ходе последних событий на Украине они лишь наиболее отчетливо проявились. В ходе полугодичной игры на территории этой страны каждая из сторон, видимо, только частично добилась поставленных целей.
Иного и быть не могло в условиях изначального формата игры “с нулевой суммой” двух ведущих ядерных держав. Если, конечно, не доводить логику её развития до ядерной катастрофы.
Возникает, однако, вопрос, а, собственно, во имя чего вместо вполне возможного формата “побеждают оба” был выбран упомянутый выше?
Для продолжения запущенного в 1991 г., явного провального “украинского проекта” – продукта итогов давно завершившейся холодной войны? Чтобы в очередной раз поменять декорации в двадцатилетнем цирке с уже несмешными клоунами-“украинизаторами”? Или для оживления полумёртвой НАТО, на стене штаб-квартиры которой давно проявляются известные надписи?
Но, ведь, сам Б. Обама в начале своего президентства взял курс на отказ США от неблагодарной и просто неподъёмной роли мирового полицейского. Чем и вызвал нелепые обвинения в “слабости” о стороны специфической части “политикума” США, а не от американского народа. Уставшего от бессмысленных, крайне затратных войн, практически непрерывно ведущихся Вашингтоном в последние двадцать лет.
Чтобы парировать эти обвинения Б. Обама и начал в последнее время, по примеру киношного сержанта, “делать страшные рожи”. Только-только начали вылезать из афганской засады (что и являлось одной из основополагающих целей Б. Обамы на посту американского президента), полезли в новоиракскую для борьбы с пресловутым “терроризмом”?
Не исключено, конечно, что источником новых проблем для нынешнего американского президента могут стать и горячие республиканские парни, теперь полностью захватившие конгресс. Судя по всему, некоторые из них пришли “в большую политику” без справок из псих-диспансеров.
Ничего, молодо-зелено, пообтешутся, столкнувшись с реальными, а не предвыборно-виртуальными проблемами страны. Опять же, работать надо с молодёжью.
Российской же стороне следует способствовать налаживанию диалога нынешних американских парламентариев, как с президентом США, так и с Россией. У нас были периоды вполне продуктивного взаимодействия с республиканцами.
Но самое главное, по авторскому, исключительно частному, мнению, заключается в том, что в основе отношений РФ с США не должно находиться “ядерное сдерживание”. Крайне затратное и вполне бессмысленное в условиях, когда (в отличие от периода холодной войны) основным геополитическим оппонентом США сегодня является отнюдь не Россия.
На фоне очевидного стремления главного внешнего источника американских озабоченностей (Китая) к их микшированию размахивание ядерной дубиной “посторонним” в конфликте двух нынешних “больших парней” выглядит странно. Можно “нарваться” и на презрительно-вызывающий вопрос “через плечо”: “А, собственно, господа, чем обязаны”?
“Ядерное сдерживание” тянет за собой целый шлейф псевдо-проблем, таких, например, как “проблема ПРО”. Лоббистские интересы определённой части российского ВПК надо, конечно, уважать и принимать во внимание.
Но не следует упускать из вида, что сегодня и на обозримую перспективу они составляют лишь часть (далеко не самую весомую) интересов страны. И нельзя позволять шантажировать себя бессмысленными словами-страшилками, типа “безопасность”.
Кстати, впервые с подобным шантажом во второй половине 50-х годов столкнулись в США в связи с “бомбардировочной программой” СССР. На тему “засилья ВПК” в США в 1960 г. выступил Д. Эйзенхауер за несколько дней до того, как покинуть пост президента страны. Это завещание одного из самых выдающихся американских генералов носит универсальный характер.
Военная сфера вообще не должна иметь почти никакого отношения к нынешней проблематике российско-американских отношений. Последняя обусловлена, главным образом, инертностью оценок обеих сторон окружающего политического мира, который не имеет практически ничего общего с тем, что наблюдалось в период холодной войны.
Нередкие сегодня игры с термином “холодная война” (“которая возобновляется”) просто нелепы. Этим термином обозначается совершенно конкретный отрезок новейшей истории, безвозвратно (как и всегда в истории) завершившийся уже 25 лет назад.
С известными результатами для одного из двух главных действующих лиц того периода, наследнику которого давно пора избавиться от фантомных болей. Если он не ребёнок, наказывающий пол, об который больно ушибся.
Россия-Япония
Улучшение российско-американских отношений является необходимым условием и для дальнейшего развития отношений между Россией и Японией.
Необходимо подчеркнуть, что мотивация заинтересованности Японии в развитии всесторонних отношений с Россией сегодня уже выходит за рамки так называемой “проблемы Северных территорий” и обуславливается, главным образом, стремлением не допустить превалирующего влияния Китая на РФ.
Однако в условиях усиливающейся конфронтации с Китаем, в том числе по проблемам принадлежности островов Сенкаку/Дяоюйдао, Токио пока крайне нуждается в сохранении дееспособности японо-американского Договора о безопасности 1960 г.
Поэтому обострение российско-американских отношений с началом украинского кризиса не оставляло японскому правительству шансов на то, чтобы избежать присоединения к антироссийским санкциям и осуществить запланированный на осень 2014 г. официальный визит В.В. Путина в Японию.
В этих условиях, также как и в связке “Япония-Китай”, вопрос о возобновлении двусторонних переговоров на высшем уровне приобрёл первостепенное значение для процесса размораживания и дальнейшего развития российско-японских отношений.
На официальном уровне предложение использовать форум АТЭС для организации встречи на высшем уровне прозвучало 21 сентября 2014 г. в телефонном разговоре С. Абэ с российским президентом, хотя в прессе оно обсуждалось в течение нескольких предыдущих месяцев.
Выступая в конце сентября 2014 г. по национальному телевидению, С. Абэ напомнил, что уже пять раз встречался с В.В. Путиным и “хотел бы продолжить этот диалог”. В качестве главной проблемы двусторонних отношений С. Абэ указал на отсутствие мирного договора между Японией и РФ. С целью её разрешения, по его мнению, “крайне необходимо продолжать контакты между лидерами обеих стран”.
20 октября 2014 г. в Милане на саммите “Азия-Европа” лидеры обеих стран окончательно договорились о проведении краткой встречи на полях предстоящего форума АТЭС.
Как и ожидалось, в ходе этой встречи японский премьер-министр особое внимание обратил на проблемы разрешения украинского кризиса и заключения мирного договора с Россией. В.В. Путин и С. Абэ договорились о проведении официального визита российского президента в Японию в следующем году в удобное для обеих сторон время.
Заключение
Не преувеличивая значимость двусторонних встреч на полях только–что завершившегося форума АТЭС, нельзя не отметить, что с ними могут быть связаны новые политические тренды, позволяющие осторожно надеяться на преодоление неумолимой логики исторического процесса. Когда накопление негатива в системе международных отношений приводит к её разрушению и чаще всего посредством катастрофических войн.
В последние годы этот негатив накапливался главным образом в АТР, то есть в том регионе, куда смещается центр тяжести мировой политической и экономической жизни. Сюда же перемещаются ключевые интересы России и вовсе не по причине ухудшения отношений с обобщённой “Европой”.
Скорее, наоборот. Украинский кризис, спровоцировавший это ухудшение, тормозит реализацию российского “разворота в Азию”, обусловленного объективными причинами. Поскольку отвлекает государственные ресурсы от реализации инфраструктурных проектов на востоке РФ.
В этом плане “уврачевание” язвы, образовавшейся на месте прорвавшегося украинского нарыва, в интересах не только России, но и Европы, которая сможет присоединится к Китаю в реализации российских проектов на Востоке. Не видно никаких сколь-нибудь значимых причин, чтобы к ним не присоединились и две другие мировые державы, то есть Япония и США.
Только надо торопиться с разработкой основополагающей концепции проекта развития Сибири. Иначе Индия, которая при новом премьер-министре всерьёз озаботилась созданием своей транспортно-промышленной инфраструктуры, перехватит всех потенциальных внешних соучастников-инвесторов. А, как известно, в Индии, в отличие от Сибири, круглый год тепло, и рабочая сила стоит гораздо дешевле, чем в России.
Естественно, что можно будет забыть о реализации подобных проектов, если не удастся сдержать раскрутку негативных политических процессов в АТР. В этом плане, итоги встреч лидеров ведущих мировых держав на полях последнего форума АТЭС внушают осторожный оптимизм.
Владимир Терехов, эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона, специально для Интернет-журнала «Новое Восточное Обозрение».
Отремонтировать провал: куда катится украинская металлургия
В этом году металлургическая отрасль Украины снизит выплавку стали на 5,5 млн. т, что сравнимо с потерей одного из крупных меткомбинатов
Показатели работы украинской металлургической отрасли постепенно улучшаются. Согласно данным ПО «Металлургпром», на октябрьский прирост стальной выплавки в стране - на 120 тыс. т к сентябрю, до 1,93 млн. т - прямо повлияла ситуация на метзаводах Донбасса. В Донецкой ОГА утверждают, что среднесуточный выпуск стали в первой декаде ноября в сравнении с октябрем возрос на 13%.
Стоит напомнить, что сентябрьское производство стали оказалось на одном из самых низких месячных уровней с начала 2013-го. В текущем году его среднесуточный показатель в 60,2 тыс. т превысил лишь обвальные 57 тыс. т в августе. Для сравнения: январь 2014-го отрасль отработала со средней выплавкой стали в 80,9 тыс. т/сутки.
Бой продолжается
Естественно, что первопричиной провала стали боевые действия на востоке страны, на чем сделали акцент в крупнейшей украинской метгруппе «Метинвест». Ведь, большая часть ее активов – два метзавода, коксохим, трубный завод и угольное объединение – оказались в зоне АТО. Усугублялась проблема разрушением транспортной инфраструктуры: был затруднен как подвоз сырья на предприятии, так и отгрузка конечной продукции.
Решить логистические вопросы удалось различными способами. Например, удлинили ж/д маршрут перевозки руды из Криворожья на мариупольские комбинаты: сырье перевозилось в Бердянск с последующими каботажными доставками в порт Мариуполя. В тех случаях, когда «моря рядом нет» - на Харцызском ТЗ – для обеспечения завода выбирали относительно спокойные участки железной дороги, «делая вынужденный крюк». Критически важные материалы «приходят автомобильным транспортом», отметили в компании.
«В настоящее время работают все предприятия группы, расположенные на Донбассе, однако часть из них – не на полную мощность», - сообщили UAprom в пресс-службе «Метинвеста». В частности, в ограниченном режиме функционирует ЕМЗ и его Макеевский филиал: там проблемы с поставками сырья и сбытом продукции. Два цеха Авдеевского КХЗ находятся в режиме горячей консервации, еще два загружены на 75%. По Харцызскому ТЗ отмечается нестабильна ситуация с поставками сырья и сбытом продукции. На «Краснодонугле» отгрузка товарной продукции происходит c большими перебоями, так как в регионе по-прежнему отсутствуют безопасные транспортные коридоры.
Не обошли стороной эти проблемы Алчевский меткомбинат и коксохим, принадлежащие корпорации ИСД. Метпредприятие до сих пор простаивает, как сообщили в «Металлургпроме». «Предприятие практически не функционирует, работает лишь в режиме поддержки оборудования», - по сути, подтвердили UAprom эту информацию в пресс-службе «ИСД». Прогнозировать возможный запуск комбината и детализировать решения по обеспечению его сырьем в корпорации отказались, отметив лишь, что «ситуация остается напряженной». АМК минувшей весной выплавлял порядка 380 тыс. т стали в месяц; его продолжающийся простой способен серьезно сказаться на общеотраслевых данных в последующие периоды.
Если б не было войны
За январь-октябрь Украина снизила стальной выпуск на 15% относительно тех же месяцев 2013-го - до чуть свыше 23,4 млн. т. В «Металлургпроме» прогнозируют: в целом по нынешнему году предприятия выплавят 27 млн. т. Это будет означать падение в пределах 20% против итога-2013. Если прогноз окажется верным, то за год Украина потеряет более 5,65 млн. т в стальной выплавке. Хотя в начале 2014-го наши металлурги намеревались превысить результат 2013-го (32,67 млн. т стали) минимум на 1,8 млн. т.
По прогнозу ГП «Укрпромвнешэкспертиза» (УПЭ), в 2014-м в стране будет выплавлено до 27,5 млн. т стали при том условии, что пущенный в октябре Енакиевский МЗ вернется к нормальной мощности. «Но даже, если не учитывать производственные и логистические негативы от конфликта на востоке страны, Украина в текущем году объективно сократила бы выпуск стали. Пусть и не в таких заметных объемах, как с учетом влияния военных действий», - отметил начальник аналитического отдела УПЭ Павел Перконос. По его словам, со II полугодия-2014 фиксируется ощутимый спад в экспортных поставках украинской стальной продукции, произведенной еще до обострения конфликта на Донбассе.
Основную причину этого аналитик усматривает в конкуренции со стороны китайских металлургов. Последние, воспользовавшись снижением цен на железорудное сырье (более чем на 40% с начала 2014-го по ноябрь, и порядка 17% за третий квартал – прим. Авт), нарастили сбыт своей стали на важных для нашей предприятий рынках – на Ближнем Востоке и в Северной Африке. «Китайцы смогли предложить цены заметно ниже, разница начала достигать $15-20 на тонне не в нашу пользу», - рассказывает Павел Перконос. Другой отрицательный фактор – в сокращении продаж сортового проката а РФ. Отчасти на этом сказалась политическая напряженность во взаимоотношениях стран. Но немалую роль сыграла и заметная девальвация рубля, что ухудшило возможности ценовой конкуренции для украинских металлургов.
Вице-президент консалтинговой компании RCG Александр Сирик соглашается: «В последние месяцы конкуренция на внешних рынках заметно обострилась. Очень активен Китай». По данным RCG, если в среднем по 2013-му КНР ежемесячно экспортировала около 5 млн. т металлопродукции, то в сентябре 2014-го данный показатель превысил 8 млн. т. «Это в четыре раза больше объемов, которые традиционно поставляет Украина на международный рынок. Причем конкуренция идет преимущественно с дешевым готовым прокатом», - конкретизирует собеседник UAprom. И приводит такие ценовые сравнения. В последнюю неделю украинская квадратная заготовка предлагается на экспорт по 450 $/т (FOB, порты Черного моря), сляб - 460, г/к рулон - 500 $/т. Китайская катанка при этом стоит -420 $/т, арматура – 410 (а это уже продукты переработки заготовки), г/к рулоны – 475 $/т.
Вперед, в прошлое
Ключевой негатив в украинском стальном спаде-2014, понятно, остается «за войной». Последняя, во многом, и выбила нашу страну из глобального ТОП-10 металлургических держав по результатам августа-сентября. Вернется ли туда Украина по итогам всего года?
«На самом деле, по трем кварталам страна все еще занимает десятую позицию в рейтинге Worldsteel, только в последние месяцы уступив свое место Италии», - комментирует Александр Сирик. Но подчеркивает: для того, чтобы остаться в этой десятке по году в целом нужно выплавлять больше, чем Италия – около 30 млн. т/год, или 2,5 млн. т/мес. Ступенькой выше располагается Бразилия; для превышения ее отметки в рейтинге в год выпускать необходимо уже 34,8 млн. т стали.
В «Металлургпроме» о таких показателях пока не упоминают. Достижимым итогом декабря здесь считают выплавку пока на октябрьском уровне – порядка 1,9 млн. т стали.
Сергей Кукин
Папа римский Франциск разрешил установить бесплатные душевые кабины для бездомных в Ватикане, сообщает итальянское издание La Stampa.
Идея возникла после того, как бездомный из Сардинии Франко отказался принять приглашение на ужин от архиепископа, отвечающего за раздачу милостыни неимущим, Конрада Краевского. Причиной отказа бездомный, который прожил на улице около десяти лет, назвал исходящий от него неприятный запах.
По словам архиепископа, ему все же удалось уговорить бездомного поужинать с ним. "Мы пошли в китайский ресторан, и во время трапезы он объяснил, что в Риме всегда можно найти еду, но отсутствует место, где можно помыться", — сообщил священнослужитель.
Слова бездомного так тронули Краевского, что он озвучил инициативу по созданию бесплатных душевых кабин внутри общественного туалета прямо под колоннадами на площади Святого Петра.
Архиепископ Конрад Краевский, который известен тем, что помогал бездомным на протяжении многих лет, был назначен папой римским Франциском уполномоченным по раздаче милостыни.
Интерес к русскому языку в современном мире продолжает расти, что объясняется не только искренним желанием многих людей узнать о том, что происходит в России, но и стремлением развивать сотрудничество с нашей страной, заявила РИА Новости глава Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), президент Российской академии образования и СПбГУ Людмила Вербицкая.
"Сейчас именно тот момент, когда русский язык пользуется большим интересом за рубежом и популярность его растет. Объясняется это в том числе вполне прагматическими, практическими причинами: люди хотят ездить в Россию, заниматься там бизнесом, а для этого нужно знать русский язык", — отметила один из ведущих российских лингвистов. По ее мнению, санкции, которые были введены в отношении России рядом стран, на популярность русского языка вряд ли повлияют.
Вербицкая приняла участие в проходящем на севере Италии фестивале русского языка и культуры под названием "Петербургские встречи в Мерано".
Программа этой масштабной культурной акции ориентирована на всех, кто интересуется русской культурой, но прежде всего на студентов, школьников и преподавателей русского языка. Именно для них лучшие специалисты Института русского языка и культуры Филологического факультета СПбГУ читают здесь лекции, ведут мастер-классы и семинарские занятия по программе "Русский язык как иностранный". По итогам четырехдневных занятий лучшие участники образовательных программ получат специальные сертификаты.
В рамках "Петербургских встреч в Мерано" Вербицкая прочитала публичную лекцию на тему "Русский язык сегодня" и выступила на семинаре "Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы". Интересные наблюдения известного ученого-лингвиста вызвали большой интерес как среди соотечественников, проживающих в северной Италии, так и у местных русистов.
В свою очередь Вербицкую заинтересовал опыт итальянской автономной провинции Больцано (Южного Тироля), официальными языками которой являются немецкий и итальянский. Она, в частности, обратила внимание на обязательность экзаменов по обоим языкам для всех госслужащих автономной провинции.
"Я уже более десяти лет добиваюсь того, чтобы все люди, которые понимают, что их речь может оказать влияние на речь окружающих, сдавали экзамен по культуре речи. Это, в частности, должно относиться к членам российского правительства, Совета Федерации, депутатам Госдумы. Это должно быть обязательно. Ведь у нас на Руси так уж повелось: как говорят там, наверху, так и правильно. Поэтому очень важно, чтобы речь этих людей была нормативной", — сказала в беседе с РИА Новости Вербицкая, которая является зампредседателя Совета при президенте РФ по русскому языку.
Фестиваль "Петербургские встречи в Мерано" организован комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, Межрегиональным общественным фондом "Центр Национальной Славы", Фондом святого апостола Андрея Первозванного, Русским центром им. Н.И.Бородиной в Мерано при участии МАПРЯЛ. Сергей Старцев.
В Каире закончена реставрация одной из старейших церквей Египта - коптская церковь Пресвятой Девы Марии Аль-Муалляка. На церемонии открытия присутствовали премьер-министр страны Ибрагим Махляб и глава египетских коптов-христиан папа Александрийский Тавадрос (Феодор) II.
Коптская церковь Пресвятой Девы Марии Аль-Муалляка - это часть коптского монастыря Святого Георгия, расположенного в Старом городе. Предание гласит, что в ней спасались от царя Ирода Иосиф и Мария с младенцем Иисусом, а в 60-х годах XX века над храмом наблюдалось публичное явление Богородицы.
Нет точной даты основания церкви: доподлинно известно, что она существовала в конце VII века, однако косвенные источники указывают на то, что ее основание можно отнести к III-IV веку н.э. Есть одно упоминание времен правления коптского патриарха Иосифа (831-849 гг.), связанное с разрушением верхней части церкви по приказу правителя Египта. Этот же источник говорит, что первая реставрация храма относится к X веку.
С XI по XIV века храм служил официальной резиденцией коптских патриархов, здесь проходили важнейшие церковные синоды.Название Аль-Муалляка (с арабского «подвешенная») возникло от того, что церковь была возведена на воротах римской крепости, и визуально она словно парит над ней.Здание имеет форму византийской базилики и не имеет куполов. Церковь претерпела многочисленные разрушения и реконструкции и к XIX веку превратилась в обширный храм с четырьмя приделами (вопреки трем классическим), которые посвящены Богородице, Св. Иоанну Крестителю, Св. Георгию и эфиопскому патриарху Св. Текле Хеменута.Интерьер церкви поистине уникален: убранство храма включает настенную живопись XI-XIII веков византийских и коптских мастеров, алтарные преграды XIII-XIX веков, расписные кивории XIII-XVII веков, мраморную кафедру XI века. Всего насчитывается более ста икон, старейшая из которых датируется VIII веком. Иконостас XII-XIII веков вырезан из ливанского кедра и богато инкрустирован слоновой костью.
В 2003 году Высший совет по древностям Египта, рассмотрев различные реставрационные школы - итальянскую, французскую, польскую, российскую, принял решение пригласить российских мастеров для работы в церкви Пресвятой Девы Марии.
На реставрацию святыни ушло более пяти миллионов долларов.Ежедневно храм посещет до трех тысяч человек, и правительство не могло закрыть святыню на период реставрации. В связи с этим был составлен график, который позволил одновременно вести и восстановительные работы, и церковные службы.
Преодолев множество организационных и технических трудностей, церковь Пресвятой Девы Марии Аль-Муалляка предстала перед посетителями во всей красе культурного наследия.
Названы лучшие города мира для развлечений
Лучшим городом для приятного времяпрепровождения был признан Берлин. На втором месте оказался Лондон. А «бронзу» взял Париж.
Такие выводы содержатся в рейтинге компании GetYourGuide, которая проанализировала 17 различных сайтов, включая TripAdvisor, Yelp и Time Out, и объединила эти результаты в исследование под названием «The Ultimate Fun City Ranking». В исследовании принимали участие 1 800 городов мира, в нем были изучены качество ресторанов, баров, развлечений для взрослых, а также стоимость пива и время закрытия заведений, сообщает Daily Mail.
При этом в разных категориях были выявлены свои «звезды». Так, по доступности цен на пиво лидировал Берлин, по качеству баров – Токио, по качеству клубов – Лондон, по развлечениям – Нью-Йорк, по возможностям для шопинга – Токио, по развлечениям для взрослых – Бангкок, по спортклубам – Буэнос-Айрес, а по музеям – Москва.
ТОП-10 лучших городов для развлечений:
1. Берлин
2. Лондон
3. Париж
4. Нью-Йорк
5. Токио
6. Гамбург
7. Рим
8. Вена
9. Барселона
10. Стамбул
Миланский информационный центр открылся в Москве
Миланский информационный центр InfoPoint Milano открылся в ЦУМе в рамках проходящих с 9 по 13 ноября Дней Милана в Москве.
Итальянская делегация во главе с мэром Милана Джулиано Пизапиа и послом Итальянской Республики в России Чезаре Рагальини провела презентацию выставки «Экспо-2015», которая пройдет в Милане с 1 мая по 31 октября. Темами выставки станут рациональное использование природных ресурсов, архитектура, инновации, культура питания, кулинарные традиции и гражданское общество.
Милан – экономическая, деловая и финансовая столица Италии, отметил в своем выступлении на церемонии открытия министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин. Он подчеркнул, что Италия стала четвертым партнером Москвы по объему взаимного товарооборота. В рамках Дней Милана в Москве будет подписан меморандум о развитии двустороннего сотрудничества, который станет основой для развития и расширения прочных взаимовыгодных связей между двумя городами в различных сферах, сказал министр.
Дж. Пизапиа выразил уверенность, что информационный центр поможет привлечь как можно больше российских посетителей на всемирную выставку в Милане. «Я надеюсь, что Милан станет мостом между народами, странами, цивилизациями, и мой сегодняшний визит подтверждает, что такой мост между Москвой и Миланом уже существует», - сказал мэр.
«Для меня, посла Италии в России, предмет особой гордости то, что такое крупное международное мероприятие, как выставка «Экспо-2015», пройдет именно в Милане. Я хотел бы особо отметить, что Россия стала одной из стран, которые обеспечили наибольшую поддержку Италии в проведении и организации всемирной выставки», - заявил Ч. Рагальини. Он отметил, что российский павильон вошел в десятку крупнейших павильонов этой выставки и выразил особую признательность Правительству Москвы, мэру Москвы Сергею Собянину и министру Правительства Москвы Сергею Черёмину за поддержку и помощь в проведении Дней Милана в Москве.
Выставка «Экспо-2015» пройдет в Милане с 1 мая по 31 октября. Заявку на участие в ней подали представители 144 стран. На выставке будет построено более 50 уникальных национальных павильонов. Москвичи могут познакомиться с программой всемирной выставки как в открывшемся Миланском информационном центре в ЦУМе, так и на фотовыставке «Милан – город «Экспо-2015», организованной в эти дни в Столешниковом переулке.
Зарубежный опыт создания и развития систем утилизации транспортных средств
В КНР более 93% подлежавших утилизации автомобилей попали на черный рынок, в Германии - 15-20%...
/Владимир Перекальский, Михаил Родионов, НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»/ Деятельность по переработке отходов, образующихся в результате утраты транспортными средствами своих потребительских свойств, можно рассматривать как одно из наиболее перспективных направлений формирования ресурсной базы производства металлов, пластиков, стекла и ряда других материалов на основе вторичного сырья, ведь мировой автопарк стремительно растёт и обладает значимыми резервами потенциального сырья. По словам Питера Купера, представителя компании «Авторециклинг Нидерландов» (АRN – Auto Recycling Nederland), мировой автопарк можно оценить в 1,25 млрд. машин со средним весом в 1016 кг – а это:
792 млн. тонн стали и чугуна,
110 млн. тонн цветных металлов (не включая свинец),
113 млн. тонн пластиков,
44 млн. баррелей нефти,
12 млн. тонн свинца,
а также стекло, резина и другие материалы, годные для вторичной переработки.
Число автомобилей, которые нужно будет утилизировать в Российской Федерации в ближайшие годы весьма велико, что позволяет говорить о необходимости создания крупной национальной системы утилизации. Эта система, несомненно, будет создана. В её основу лягут существующие мощности, но кроме них понадобятся существенные инвестиции в новые предприятия для создания индустрии, способной комплексно перерабатывать автомобили, включая резину, пластики, стекло.
Сегодня утилизационная отрасль в России развита слабо. Во многих зарубежных странах ситуация совершенно иная. Так, например, в США ежегодно на утилизацию поступает 14-15 миллионов легковых автомобилей, переработку которых осуществляет более 200 предприятий. Данные заводы обслуживает более 10 тысяч мелких компаний, которые занимаются разборкой автомобилей. Всего же в отрасли автоутилизации в США занято более 40 тысяч человек, а ежегодный объем производства оценивается в 4,5 млрд. долл. Во Франции переработкой старых автомобилей занимается около 40 шредерных заводов, а их обслуживанием - около 3 тысяч предприятий. В Великобритании непосредственно утилизацией занимается 37 заводов, в Германии – около полусотни.
Во время экономического кризиса 2008-2009 годов Россия, опираясь на опыт многих зарубежных стран, провела программу утилизации, направленную на стимулирование национальной автомобильной индустрии. Аналогичные программы работали в Германии, США, Китае, Великобритании, Франции, Японии, Италии, Словакии и ряде других стран. Их результаты во многом схожи.
На время проведения программы утилизации спрос на автомобили существенно рос, однако, как только программы заканчивались, наблюдалось резкое и значительное падение спроса на протяжении продолжительного времени, что практически нивелировало стимулирующий эффект программы. Наиболее успешными можно признать утилизационные программы в США и Германии, однако и эти страны не миновало последующее снижение спроса на автомобили.
Для поддержки автомобильной отрасли в кризис применялись и другие меры. Так в КНР, где авторынок в 2009 году вырос на 48%, правительство снизило налог на покупку автомобилей с двигателем менее 1,6 л и транспортный налог, выделило около 1,6 млрд. долл. США на субсидии при утилизации старых автомобилей, а также разработало новую систему автокредитов для стимулирования продаж.
В США государство выделило 3 млрд. долл. на утилизацию, и более 670 тысяч автовладельцев получили 3500-4500 долл. на покупку новой машины плюс налоговый вычет на сумму не более 49,500 тыс. долл.
В Бразилии и Индии, где рынок также остался на плаву, снизили транспортный налог и отменили налог на покупку автомобилей.
Приведем еще ряд интересных и важных наблюдений из истории программ автоутилизации в разных странах.
Утилизационная программа в Германии стартовала в 2009 году. Выплата автомобилисту от государства составляла 2500 евро. Следует отметить, что во многих европейских странах автомобилистам давали в полтора-два раза больше. К участию в программе принимались автомобили не позже 1999 года выпуска. Кроме того, автомобиль должен был являться собственностью сдающего его владельца не менее, чем один год. Процесс получения утилизационного бонуса в Германии был четко отлажен. Заявитель должен направить (можно даже по электронной почте) в соответствующую службу документ, подтверждающий факт утилизации старого автомобиля. После этого ему выдавался купон, с которым он в течение полугода мог получить скидку (упомянутые 2,5 тыс. евро) на приобретение нового автомобиля.
Порядка 9 млн. человек воспользовались программой. Во время проведения программы удалось не только удержать рынок, но и добиться его роста. Несмотря на то, что спрос на новые машины был достаточно велик, это были, в основном, марки, произведенные за пределами самой Германии. Такие немецкие компании, как Volkswagen, Audi, BMW и Mercedes-Benz не воспользовались предоставленной программой утилизации возможностью и не получили большой выгоды от продажи своей продукции за время действия данного предложения.
Как только программа была отменена, рынок резко начал проседать. Если в январе сокращение продаж составило лишь 4,3%, то уже в феврале они рухнули почти 30%. Причем сильнее всего падение коснулось самого бюджетного сегмента - малолитражных компактных автомобилей, которым программа утилизации оказывала максимальную поддержку.
И как бы ни превозносили (или ни ругали) желание и умение наших соотечественников обойти закон или найти в нем лазейки, но в славящейся муштрой и дисциплиной Германии как минимум 15–20% (!!!) «утилизированных» автомобилей попали на черный рынок. Изрядная часть этого «лома» оказалась в Польше и, надо думать, оттуда двинулась и далее. Согласно анализу внешней торговли, за 6 месяцев 2009 года поляки купили в Германии 314 000 подержанных автомобилей, 44% из которых были старше 10 лет. Сколько из них было «подарками от немецких утилизаторов», так и не удалось установить. Многие немецкие утилизаторы закрывали глаза на нелегальную переправку машин в другие страны: ведь эти «убитые» (по немецким, конечно, меркам!) авто будут ездить не по их автобанам…
В США программа утилизации была запущена в конце июля 2009 года. Утилизационная премия составляла от 3500 до 4500 долл., причем одним из основных критериев, от которых зависел размер премии, была топливная эффективность покупаемого нового автомобиля. В США также действует аналогичная европейской схема с продажей некоторых комплектующих утилизируемых автомобилей.
На программу был выделен 1 млрд. долл., который был почти мгновенно исчерпан (уже на 30 июля 2009 года), после чего было выделено ещё 2 млрд. долл. Организации, способствовавшие разработке программы: ACEEE, CAP Action Fund, SmartTransportation.org. Основной закон, регламентирующий программу: CARS Act ("Consumer Assistance to Recycle and Save Act", H.R. 1550).
Стали, полученной путем переработки в 2009 г. в США, хватило бы на изготовление 13 млн. новых автомобилей. В результате программы средняя топливная эффективность автомобильного парка увеличилась на 58% (с 15,8 до 24,9 миль на галлон).
Программа имела существенное влияние на стимулирование автомобильного рынка США в период кризиса (примерно 360 тыс. дополнительно проданных автомобилей за два месяца!). Однако, в последующие месяцы наблюдался существенный спад продаж, что снивелировало положительный эффект от программы.
В целом, процедура переработки отслуживших свой срок автомобилей в странах ЕС стандартна: автомобили собираются, а их бывшим владельцам выдается соответствующий сертификат. При этом часть комплектующих можно продавать.
Так, в Италии с конца февраля 2009 года за сдачу в утиль автомобиля старше 9 лет полагалась компенсация от 1,5 тыс. до 5 тыс. евро (размер зависисел от того, какой автомобиль будет куплен: чем машина экологичнее, тем больше компенсация). Первая программа утилизации в Италии завершилась в декабре 2008 года.
Во Франции размер премии составлял 1 тыс. евро, еще 700 евро полагалось тому, кто примет решение купить автомобиль с низким уровнем вредных выбросов (ниже 120 г СО2 на километр).
В Словакии за сдачу в утиль 10-летней машины полагался бонус в размере 2 тыс. евро.
В Великобритании с середины мая 2009 года до марта 2010 года действовала акция, в рамках которой за замену автомобиля в возрасте 10 лет и старше полагался бонус в размере 2 тыс. фунтов. Правительство решилось выделить на эту акцию 300 млн. фунтов.
В Испании с начала мая 2009 года выплачивают премию в размере 2 тыс. евро тем, кто оправляет на переработку свои старые автомобили.
В Японии при сдаче старой машины и покупке новой с низким уровнем вредных выбросов можно было получить бонус до 3 тыс. долл. США.
Существенной проблемой утилизационных программ многих стран (в частности Германии, Китая, России и других), стало попадание машин, подлежащих утилизации, и запасных частей из них на чёрный рынок.
Не менее 15–20% подлежавших утилизации автомобилей в Германии попало на черный рынок, а затем - в Польшу и страны Северной Африки.
Согласно докладу Китайской национальной ассоциации по переработке ресурсов из 7420 тыс. автомобилей, подлежавших утилизации по достижении предельного срока службы, лишь 500 тыс. были списаны и уничтожены в соответствии с законом.
Чаще всего такие автомобили используются в качестве нелицензированных такси, учебных машин или просто попадают к людям, которые не могут позволить себе новый автомобиль. При этом машины продают без документов и регистрации. Подобный оборот старых автомобилей и запчастей наносит существенный экономический ущерб производителям автомобилей и серьёзно бьёт по их имиджу.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для поддержки отечественного автомобилестроения и утилизационной отрасли программа утилизации ВЭТС и программа обновления автопарка не должны ограничиваться коротким временным интервалом. Любой автовладелец должен иметь возможность в любое время сдать свой подержанный автомобиль и получить взамен скидку на приобретение нового. Такая перманентная программа позволит сдержать колебания спроса на новые автомобили, особенно снижающегося после отмены (завершения) действующих программ, и позволит поддерживать возраст автопарка страны на оптимальном с точки зрения безопасности, экологии и экономики уровне.
В то же время, в случае необходимости, у власти остаётся возможность дополнительно проводить программы ограниченного срока действия, нацеленные на обновление автопарка и/или на достижение новых качественных его характеристик (как, например, программа США, нацеленная на повышение топливной эффективности).
Очевидно, что при создании и развитии в России крупной национальной системы утилизации транспортных средств, способной комплексно перерабатывать автомобили (включая резину, пластики, стекло), необходимо учитывать мировой опыт.
В некоторых странах, автомобильная промышленность которых хорошо развита, система утилизации транспортных средств самостоятельно создавалась автопроизводителями.
Так, в Германии подобная система была организационно сформирована на основании добровольных мер, описанных в соглашении автопроизводителей, и процедур, регламентируемых законодательством в этой области. Система утилизации (сеть предприятий по сбору и утилизации транспортных средств) была создана отдельными автопроизводителями самостоятельно. Специальный координирующий орган национальной системы утилизации в Германии отсутствует, поэтому отдельные организации берут инициативу этой работы на себя. Например, специальная проектная группа компании BMW разработала всеобъемлющую концепцию вторичного использования деталей автомобилей, которая, в частности, учитывает необходимость утилизации уже на стадии проектирования транспортного средства. Все детали автомобиля, которые должны быть рециклированы после демонтажа, маркируются специальным знаком, означающим пригодность к переработке, а также им присваивается кодовый номер, указывающий на вид используемого сырья.
Во Франции совместное предприятие RENAULT и компании, работающей в сфере обращения с отходами, создало развитую сеть станций демонтажа транспортных средств и предприятий по переработке отходов, образующихся в результате утраты транспортными средствами своих потребительских свойств. Основная функция этого СП - осуществление координации между всеми участниками системы авторециклинга: государственными структурами, автопроизводителями, дилерами, автовладельцами, страховыми компаниями, магазинами запчастей, разборщиками, переработчиками, и др. Предприятию, помимо прочего, принадлежат 16 шредерных заводов, на которых осуществляется переработка 40% вышедших из эксплуатации транспортных средств во Франции.
В других странах организацией системы утилизации транспортных средств занимается специально созданная национальная управляющая компания. Примером могут служить Нидерланды, где системой авторециклинга управляет компания ARN, 100% акций которой принадлежат фонду Auto&Recycling, который создавался при непосредственном участии правительства и автопроизводителей. ARN эффективно сотрудничает с большим количеством партнеров: различными компаниями, научными центрами, институтами, другими заинтересованными сторонами. Созданная компьютеризированная административная система контроля, в которую заносятся данные от различных участников всей системы утилизации транспортных средств в Нидерландах, в том числе точные данные относительно количества и качества материалов, которые компании приняли и переработали, позволяет ARN эффективно следить за процессом утилизации на всех его этапах. ARN сотрудничает с 12 шредерными компаниями в Голландии, Бельгии и Германии. Также ARN является национальным центром знаний в области вторичной переработки в секторе утилизации транспортных средств. Она обладает более чем 15-летним опытом управления цепочками вторичной переработки и экспертными знаниями в области утилизации материалов. ARN активно использует и распространяет накопленную информацию, в частности для консультирования органов власти и компаний в Нидерландах и других странах по целому ряду вопросов, касающихся проектирования, организации и управления технологическими цепочками в области вторичной переработки. Кроме того, ARN осуществляет реальные проекты в сфере утилизации транспортных средств и повышения экологической безопасности, в том числе и за рубежом.
Таким образом, можно перечислить финансовые механизмы обеспечения утилизации транспортных средств:
разовая оплата сбора за утилизацию, производимая владельцем при сдаче отслужившего автомобиля компании-утилизатору;
разовая оплата, производимая владельцем при покупке нового автомобиля (дополнительный экологический сбор на утилизацию), которая перечисляется производителю автомобиля или в специальный фонд;
периодическая оплата владельцем в виде ежегодного сбора за утилизацию (например, при прохождении техосмотра транспортного средства) дополнительно к оплачиваемому налогу за владение транспортным средством;
разовая оплата сбора за утилизацию, отчисляемая производителем автомобилей или импортёром при первой продаже нового автомобиля;
на производителей или импортёров автомобилей возлагаются конкретные обязанности по участию в системе авторециклинга в отношении произведённых ими моделей (организация сбора отслуживших автомобилей, оплата переработки определённых компонент, предоставление специальной документации по утилизации);
комбинация различных механизмов, формирующая в стране систему авторециклинга.
Перейдём к рассмотрению основных особенностей систем утилизации транспортных средств, сформировавшихся в разных странах мира. По разным оценкам автопарк США составляет около 240 млн. автомобилей, стран Евросоюза (28 стран) – более 270 млн., Японии – 75 млн., Канады – 21 млн., России – свыше 40 млн. Ежегодно снимается с учёта (утилизируется): в США – 13-14 млн. автомобилей (12 млн.), в Евросоюзе – до 15 млн. (10 млн.), в Японии – более 5 млн. (5 млн.), в Канаде – более 1,5 млн. (1,5 млн.).
В мире сложились две основные модели систем утилизации транспортных средств – «американская» (США и Канада) и «европейская» (Евросоюз и Япония). Первая основывается на коммерческом подходе и делает основную ставку на самоокупаемость, вторая – на регулятивном подходе и делает основную ставку на экологию.
К основным особенностям американской системы можно отнести:
Продажу старых либо разбитых автомобилей на аукционах;
Объединение разборки и рециклинга;
Получение основного дохода от продажи запчастей;
Наличие крупного экспортного рынка подержанных запчастей;
Продажу каркасов автомобилей шредерам;
Высокую цену хранения и захоронения отходов, локальные экологические программы как стимулы для повышения уровня переработки;
Полную самоокупаемость.
К основным особенностям европейской системы можно отнести:
Возложение ответственности за утилизацию на автопроизводителей (импортеров);
Создание производителями собственных сетей по сбору и утилизации, заключение договоров с переработчиками;
Бесплатную передачу автомобилей на утилизацию;
Требования к собственникам автомобилей по их сдаче на утилизацию;
Получение значительной части дохода от продажи запчастей;
Наличие отраслевых стандартов и нормативов по уровню утилизации, высокая степень правового регулирования отрасли;
Вертикальную интеграцию, целевые государственные дотации, требования правительств и отраслевых ассоциаций как стимулы для повышения уровня переработки;
Финансирование за счет отчислений автопроизводителей (импортеров), возможность государственных дотаций.
Базовая Директива 2000/53/ЕС по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств регламентирует для всех стран ЕС единые принципы и положения:
Ответственность производителя за сбор и утилизацию ВЭТС;
Выполнение норматива вторичной переработки 85% и норматива утилизации 95% от массы автомобиля (Директива 2005/64/ЕС);
Утилизация автомобиля бесплатна для последнего владельца;
Обязанность автопроизводителя использовать менее токсичные вещества;
Обязанность автопроизводителя составлять инструкцию демонтажа и утилизации автомобиля;
Обязательная сертификация предприятий авторециклинга;
Система требований к организации сбора и утилизации ВЭТС;
Требования по соблюдению норм экологической безопасности;
Правила выдачи сертификата об утилизации автомобиля.
Ряд американских учёных, специалистов в рассматриваемой области, провели исследование и пришли к выводам о том, что утилизация является критически важной деятельностью для автомобилестроения США. При отсутствии экономически стабильной инфраструктуры утилизации, вышедшие из эксплуатации транспортные средства начинают накапливаться, что влечёт за собой экологические угрозы и дополнительную нагрузку на автомобилестроение с точки зрения использования первичных ресурсов.
Даже в условиях существенного увеличения уровней разборки и рециклинга пластиков, количество отходов шредерной переработки на один автомобиль будет продолжать расти. В связи с этим, достижение европейской и японской цели по 95% уровню утилизации транспортных средств не представляется возможным без фундаментальных изменений. Чтобы сохранить свою рентабельность, разборщикам вышедших из эксплуатации транспортных средств, вероятно, придется достичь существенно более высокой степени демонтажа. Кроме того, многие учёные и эксперты сходятся во мнении, что для достижения 95% уровня утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств в США (и других странах, использующих американскую систему рециклинга), необходимо вмешательство государства (через регулирование и поощрение), как в Европе и Японии.
Итак, исходя из результатов анализа мирового опыта создания и развития систем утилизации транспортных средств, можно говорить о том, что возможно относительно быстрое привлечение финансирования в отрасль путем отчислений со стороны импортеров и автопроизводителей. Кроме того, при достаточно высокой стоимости сжигания и захоронения отходов, достаточном спросе на вторичное сырьё и определённой поддержке государства, комплексная переработка автомобилей (включая резину, пластики, стекло, аккумуляторные батареи, масляные фильтры) становится рентабельной.

Барак Обама – не реалист
Во что превращается прагматизм без стратегии
Пол Сондерс – исполнительный директор Центра национальных интересов и один из издателей журнала The National Interest
Резюме Администрация Обамы ускорила опасные изменения в системе международных отношений, которые бросают вызов лидерству Соединенных Штатов и порядку, который США и их союзники выстроили после Второй мировой войны
Статья опубликована в журнале The National Interest, сентябрь-октябрь, 2014 г.
Можно ли назвать Барака Обаму реалистом во внешней политике? До недавнего времени и сторонники, и противники президента отвечали на такой вопрос утвердительно, и сам он это не оспаривал. Напротив, Белый дом подчас агрессивно насаждал образ невозмутимого и железного президента-прагматика, разборчивого при принятии жестких решений, будь то внутренние или внешние вопросы. Однако, выступая в мае в Вест-Пойнте, Обама окончательно отмежевался от своих прежних взглядов, заявив, что, «по мнению некоторых экспертов, называющих себя реалистами, не нам следует разрешать конфликты в Сирии, на Украине или в Центрально-Африканской Республике». Он назвал соответствующую точку зрения неадекватной и не отвечающей «требованиям настоящего момента».
Если поверить президенту Обаме на слово и не считать его реалистом, а оснований для этого хватает, то продолжительное заигрывание его администрации с идеей внешнеполитического реализма и особенно с «прогрессивными реалистами» слева заставляет задать два важных вопроса. Во-первых, почему президент и его советники не возражали против широко распространенного и давно внушаемого всем мнения относительно его реализма? И во-вторых, что заставило их изменить свою позицию?
Чтобы с уверенностью ответить на эти вопросы, необходимо оказаться зрителем первого ряда в Бункере экстренного общественного реагирования Белого дома, который, как легко можно представить себе, расположен неподалеку от Президентского центра чрезвычайных операций, где принимаются самые важные решения. И все же нетрудно понять, почему имидж внешнеполитического реалиста так манит президента и его помощников по общественным связям – ведь он придает флер интеллектуальной и политической легитимности желанию сосредоточиться на «государственном строительстве внутри США», которое часто высказывает Обама. Точно так же этот образ помогал оправдывать уход от решения сложных и отнимающих много времени международных проблем – особенно тех, что унаследованы от администрации Джорджа Буша. Хотя нынешняя власть демонстративно открестилась от данного наследия, во многих отношениях она негласно продолжила работу, начатую Бушем-младшим.
Хотите уйти из Ирака? Объявим Азию нашим главным внешнеполитическим приоритетом, поскольку она важнее в стратегическом плане. Нужно вывести войска из Афганистана? Мы сделали там все что могли. Надеетесь, что мы больше не будем ввязываться в войны на Ближнем Востоке? Давайте вести переговоры с Ираном и использовать Конгресс в качестве предлога, чтобы не решать проблемы Сирии. Понятно, что такая политика – соблазн для американцев, разочарованных дорогостоящим выбором Буша.
Однако операция Белого дома по наведению мостов с широкой американской общественностью оказалась в итоге не до конца продуманной. Администрация не сумела доходчиво объяснить, почему в Ливии она была готова применить силу, а в Сирии нет, особенно после того как президент Башар Асад перешел «красную черту» Обамы, применив химическое оружие.
Репутация президента как осмотрительного политика, которую тщательно создавали, превращается во все большую помеху после его реакции на аннексию Крыма Россией – решительной на словах, но слабой на деле. Внезапная уязвимость Ирака перед воинствующей группой, называющей себя «Исламское государство», и попытка ответа со стороны американской администрации осложнили ситуацию еще больше. Под вопрос поставлен быстрый уход США из Ирака в 2011 г. и нелепая политика, нацеленная на подрыв стабильности по одну сторону сирийско-иракской границы при одновременном ее сохранении по другую сторону. Президенту и его команде нужно было подыскать новое рациональное обоснование проводимого курса. Объяснить, при каких обстоятельствах администрация намерена применять силу, а при каких нет, а также дать отпор критике сторонников интервенции в адрес его подхода, подаваемого как «реалистичный». Отсюда речь в Вест-Пойнте, в которой президент пренебрежительно отозвался о «тех, кто называет себя реалистами», и неуклюжая попытка задним числом определиться с критериями использования военной силы и других внешнеполитических инструментов.
Реализм и прагматизм
Была ли внешняя политика администрации Обамы реалистичной хотя бы когда-то? Вопрос непростой, поскольку требуется сначала определить, что такое реализм. Но и ответ на него найти проще, чем на многие другие – ведь в отличие от скрытых мотивов (и засекреченных программ) действия администрации на виду у всего мира.
Главная причина, по которой критики и сторонники Обамы долгое время считали его реалистом, – это в целом прагматизм его команды. Но реализм – нечто большее, чем прагматизм; смешивание этих двух понятий – одно из самых фундаментальных и устойчивых заблуждений при обсуждении внешней политики. Реализм – это прагматизм, проистекающий из сознания анархии и хаоса в международных отношениях, связанный с глубоким осознанием американской мощи и преследующий стратегию национальных интересов. Обама – не реалист, поскольку его политика обычно начинается и заканчивается прагматизмом и даже оппортунизмом. Похоже, он слишком свято верит в нормы международного права и при этом плохо понимает принципы применения и ограничения силы, проявляя минимальную заинтересованность во внешней политике, не говоря уже о международной стратегии.
Неоднократные попытки Обамы противопоставить XXI и XIX век показывают его чрезмерную приверженность правилам и нормам в обстановке международной анархии, где не существует высшего правоохранительного органа, уважаемого всеми странами (и он не желает брать на себя роль судьи, суда присяжных и исполнителя приговоров от имени Соединенных Штатов, к чему стремятся многие неоконсерваторы). На протяжении последних двух десятилетий международные правила и нормы действительно получили импульс к развитию, но происходило это отнюдь не линейно и не поступательно. В обстановке международной анархии правила и нормы имеют смысл лишь в той мере, в какой они соблюдаются главными игроками. Отсюда их неустойчивость и зависимость от интерпретации и попыток ревизии. Поскольку речь не идет о «законах», они могут лишь формировать поведение государств, но не регулировать или ограничивать его. (Сам Вашингтон, кстати, не готов принимать подобные ограничения.)
В свою очередь, глобальные нормы и правила тоже претерпевают изменения. Америка, Европейский союз, отчасти ооновская бюрократия, а также прогрессивные неправительственные объединения пытаются трансформировать их, ослабив государственный суверенитет и узаконив право применения силы. Странно предполагать, что другие страны – особенно недовольные крупные державы, такие как Китай и Россия – будут соблюдать нормы и правила, которые мы сами считаем неадекватными и пытаемся изменить. Тем более что мы часто действуем в обход норм и правил как явочным путем, так и путем создания прецедентов, отказываясь от переговоров и достижения консенсуса.
Наивно думать, что если некоторые крупные державы ставят под сомнение определенные установления, другие не будут следовать их примеру. И действовать в своих, а не в наших интересах, идет ли речь о Южно-Китайском море или Крымском полуострове. Более того, с точки зрения Пекина и Москвы Вашингтон нередко идет дальше того, о чем стороны договариваются на международном уровне, будь то в Ливии или в бывшей Югославии. По их мнению, Соединенные Штаты нарушают принципы международного права, которые они на словах поддерживают. Ведь нормы и правила субъективны, и их альтернативные интерпретации тоже имеют право на существование. В результате аргументы о «законности» заходят в тупик. И тот факт, что Сенат США до сих пор не ратифицировал такие соглашения, как Конвенция ООН по морскому праву или Римский статут об учреждении Международного уголовного суда, отнюдь не усиливает позицию Вашингтона.
Однако главное противоречие в том, что нормы и правила, сложившиеся к концу холодной войны, которые пытались изменить администрации Клинтона, Буша и Обамы, внесли колоссальный вклад в укрепление мощи и лидерства Америки, ее способности отстаивать свои национальные интересы. В конце концов, благодаря им Соединенные Штаты одержали победу в холодной войне. Поэтому попытка изменить законы, по которым живет мир, связана с риском дестабилизации системы международных отношений, дающей Америке фундаментальные преимущества в смысле сдерживания враждебных и конкурирующих держав. Реалисты в отличие от Обамы это понимают.
Отсутствие стратегии
Заявления об американской мощи еще более красноречивы. Понятно, что после Ирака и Афганистана Обама и другие американцы обеспокоены вопросом о границах применения силы. Но он пошел гораздо дальше – на беспрецедентный для президентов после Второй мировой войны отказ от применения военной силы. Наверно, самым ярким стало его шокирующее заявление в Брюсселе о том, что Россию «нельзя удержать от дальнейшей эскалации военной силой». Это не что иное, как решительный отказ от фундаментального принципа американской внешней политики последних семи десятилетий.
Сравнительно недавно Обама заявил: «Очень редко я видел, чтобы применение военной силы давало окончательный ответ». Но ответ на что? Военная сила действительно очень редко способствовала нахождению окончательного ответа в государственном строительстве, но ее часто оказывалось вполне достаточно, чтобы определить, на какую территорию может претендовать та или иная страна, и украинцы в этом убедились на собственном горьком опыте. (Говорят, физическое владение – это девять десятых права.) В сочетании с реальной передислокацией войск более решительная позиция по Украине могла бы создать достаточно безвыходную ситуацию Владимиру Путину и заставить его вести себя более сдержанно после аннексии Крыма. Заявлять о «неприемлемости» поведения Москвы и самим же связывать себе руки, «посадив» батарейки в момент наибольшего перегрева, гораздо опаснее, чем то и другое по отдельности, так как может накликать на нас новые беды.
Даже пытаясь проводить «красную линию», Обама, похоже, переоценивает свой ораторский талант и силу убеждения. Если он заявляет, что «президенту Асаду пора отойти в сторону», но ничего не предпринимает для свержения жестокого сирийского диктатора, что это, как не упование на собственное красноречие? Или он думает, что добьется реальных результатов, объявив аннексию Крыма Россией «неприемлемой»? Это либо непомерная самоуверенность, либо поразительное игнорирование последствий, вероятных в случае регулярного расхождения между словом и делом. Ни то ни другое неуместно, с точки зрения реалистичной внешней политики.
Отсутствие какой-либо четко сформулированной внешнеполитической стратегии – в каком-то смысле самый сильный аргумент, опровергающий мнимый реализм Обамы. Нередко он ищет прагматичный подход к отдельным внешнеполитическим вопросам, но в отсутствии генеральной стратегической линии его прагматизм зачастую не приводит к решению глобальных задач, стоящих перед Америкой. В то же время прагматизм Обамы политически мотивирован в своей основе, поскольку внутриполитическая борьба и репутационные вопросы часто перевешивают в его глазах непосредственный исход внешнеполитических действий. Это искажает процесс принятия решений и вынуждает проводить курс, который может казаться прагматичным, но фактически имеет мало шансов на успех и, следовательно, по большому счету беспринципен.
Взаимоисключающая политика по обе стороны границы между Ираком и Сирией – один пример. Другой – подходы к Китаю и России, чреватые риском одновременной и потому вдвойне опасной конфронтации с обеими державами, что может иметь далеко идущие и непредсказуемые последствия для Америки.
Конечно, большинство реалистов не будут оспаривать тезис о том, что «внутриполитическое государственное строительство» важно для процветания, поскольку закладывает фундамент глобальной мощи Америки. Но «государственное строительство» такого рода – цель, а не стратегия, и оно требует внешнеполитической стратегии, основанной на взаимодействии и готовности брать на себя инициативу и ответственность.
Более того, критикуя «тех, кто называет себя реалистами» и не желает участвовать в разрешении чужих проблем, сам Обама стремится как можно меньше вторгаться в мировую политику. Его реакция на вызовы безопасности обычно преследует цель сделать ровно столько, сколько требуется, чтобы избежать резкой критики внутри страны. Обама не желает слишком отвлекаться от внутриполитических проблем на международные дела. Отсюда резкое повышение активности в Афганистане перед выводом войск, «руководство из тыла» событиями в Ливии, умеренная поддержка оппозиции в Сирии, неэффективные санкции против России в качестве замены реальной политики и минимально необходимая реакция на события в Ираке. Администрация пытается облечь все это в риторику реализма, но на самом деле реализма тут очень мало ввиду отсутствия серьезной стратегии.
Упование президента на удары беспилотников в борьбе с террористами (хотя по территории Пакистана ударов стало меньше) – явная демонстрация и прямое следствие чрезмерного прагматизма его администрации, который может рикошетом ударить по Соединенным Штатам после того, как Обама покинет Белый дом, если не раньше. Понятно, что удары, наносимые с помощью БПЛА, кажутся привлекательными: если правильно управлять аппаратами, они способны убивать врагов Америки и избавлять ее от необходимости десантировать войска или даже задействовать летчиков-истребителей. Потери среди гражданского населения сводятся к минимуму по сравнению с другими вариантами действий. Вместе с тем, как убедительно продемонстрировала независимая исследовательская группа из Центра Стимпсона в Вашингтоне, широкомасштабные удары беспилотников ставят серьезные стратегические вопросы. К ним относится риск ответной реакции со стороны населения страны, по которой наносится удар, непреднамеренное нормотворчество для других держав, имеющих БПЛА на вооружении, опасность сползания к более масштабному конфликту и отсутствие четких критериев успеха. (Что касается последнего пункта, на сегодняшний день уже очевидно, что «подсчет тел» во вьетнамском стиле мало о чем говорит. Другой современный аналог – количество иракских солдат, подготовленных американскими военными – также не имеет никакого отношения к безопасности и стабильности в Ираке.) При отсутствии ясно выраженной стратегии узко сфокусированный прагматизм часто приводит к «политике малых дел», как в случае с использованием беспилотников администрацией Обамы или совершенно неэффективной реакции, например, на вовлеченность Москвы на востоке Украины. Это не реализм.
Россия и Китай
Какова же реалистичная внешнеполитическая стратегия? Она должна начаться с признания того факта, что сохранение Америкой лидерства на международной арене – без претензий на то, чтобы брать на себя непосильные финансовые расходы, с которыми не справится ни наша политическая система, ни наша экономика – лучший способ защиты национальных интересов США. В этом ключевое отличие реалистов от изоляционистов, которые в целом считают мировое лидерство слишком дорогостоящей затеей и хотят сохранить максимум средств внутри Америки. Для реалистов также очевидна разница между подлинным руководством и псевдолидерством, сопровождаемым риторикой в духе исключительности, когда лидерство декларируется, но ничего не делается для его достижения. Это отличает реалистов от многих неоконсерваторов, нередко утверждающих, что другие правительства и народы всегда поддержат нас, а если и не поддержат, это не имеет значения, поскольку Америка сильна в своей уникальности. Отстаиваемая ими политика часто дискредитирует ведущие позиции, ведет к человеческим потерям, расточению денежных средств и других ресурсов.
Реалисты подчеркивают, что взаимоотношения между ведущими державами – ключевой фактор в определении количества, масштаба и влияния международных конфликтов – нечто такое, что может иметь серьезные последствия для национальной безопасности США в век распадающихся государств и террора. Войны между странами и внутри них начинаются по разным причинам, но именно от отношений крупных держав зависит, произойдет ли эскалация конфликтов, будут они расширяться или угасать. Последнее, в свою очередь, определяется тем, станут ли крупные державы поощрять и поддерживать беззаконие, к которому стремятся группы террористов, и сколько невинных людей окажется убито, искалечено или перемещено с насиженных мест. Поэтому любые стремления к безопасности, стабильности и миру начинаются с того, насколько прочно связаны друг с другом ключевые страны.
Кроме того, поскольку Америка – главный бенефициар системы международных отношений, созданием которой она руководила, Вашингтон должен быть заряжен на ее сохранение. Для этого необходимы два условия. Первое – бережные отношения с союзниками, поддержка которых крайне важна как на системном уровне, так и при проведении конкретной политики. Второе – рабочие отношения со странами, которые не являются союзниками Соединенных Штатов, прежде всего с Китаем и Россией. Их активное противодействие нанесет наибольший ущерб мировому порядку и особым интересам США. Сюда же относится недопущение стратегического союза между Китаем и Россией – самой серьезной из возможных угроз нынешнему глобальному устройству и лидерству Америки. Сила, твердость и надежность в выполнении союзнических обязательств, реалистичная оценка интересов и целей других стран содействуют выполнению указанных условий. Относительно последнего пункта реалисты знают, что для успешной манипуляции соперниками нужен метод стимулов и санкций. Если уповать исключительно на способность заставить их расплачиваться за непримиримую позицию, вероятность конфликта возрастет; то же самое, если мы заведомо отказываемся от использования силы.
Соблюдение этих условий предполагает, что главным приоритетом реалистичной внешнеполитической стратегии будут угрозы выживанию и процветанию Америки, ее образу жизни. Речь идет о предотвращении применения ядерного или биологического оружия против Соединенных Штатов, поддержании стабильности мировой финансовой и торговой систем (включая торговлю энерго- и другими ключевыми ресурсами), обеспечение выживания союзников США и противодействие появлению враждебных крупных держав или распадающихся государств на наших границах. У Соединенных Штатов много других важных целей, но они не должны заслонять собой эти поистине жизненные интересы или достигаться в ущерб благоприятно сложившейся для Америки системе международных отношений. Лидерам США также следует ранжировать интересы в соответствии с их приоритетностью.
Администрации Обамы удалось избежать краткосрочных внешнеполитических катастроф, но она совершила ряд весьма дорогостоящих ошибок. Их последствия не столь очевидны, как результаты войн, начатых администрацией Буша, но со временем могут обернуться еще большим ущербом. Речь идет прежде всего о Китае и России. Администрация Обамы ускорила опасные изменения в системе международных отношений, которые бросают вызов лидерству Соединенных Штатов и порядку, который США и их союзники выстроили после Второй мировой войны. Как следствие, возникает угроза долгосрочному процветанию Америки и повышается вероятность серьезной конфронтации и даже войны. Это не реализм, а приближение к катастрофе.

Куда ведет прогресс?
Столкновение ценностей в современном мире
А.В. Лукин – доктор исторических наук, проректор Дипломатической академии МИД России, директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО(У) МИД России
Резюме Для мира будет характерно «столкновение ценностей», причем по одну сторону оказываются сторонники принципа абсолютных ценностей, а по другую – морального и ценностного релятивизма
С эпохи Просвещения в западной цивилизации укоренилось представление о собственном превосходстве в сочетании с теорией линейного прогресса. Согласно ей, именно на Западе (первоначально в Европе, а затем и в США) достигнут наивысший уровень развития, а остальные страны и народы находятся на различных этапах приближения к этому идеалу.
В собственном превосходстве, в принципе, уверена любая цивилизация. Создателями высшего общественного идеала считали себя древние греки, римляне, средневековые китайцы и многие другие. Однако на Западе подобная оценка в течение нескольких веков подкреплялась промышленными успехами и военной силой, благодаря чему именно западная концепция линейного прогресса надолго захватила б?льшую часть мира.
На самом Западе в эпоху Просвещения идея цивилизационного превосходства лишь изменила формы, на смену постулату о преимуществах христианства как принципиально нового учения и Запада как его носителя пришла секулярная теория общественного и экономического прогресса. В этой сфере Запад, как считалось, достиг вершины. Вместо религиозных догматов о морали и предназначении появилось стремление к благоустройству посюстороннего мира как высшей ценности на основе индустриального развития, рыночной экономики и индивидуальной свободы.
Эти представления легли в основу разных политических доктрин ХХ века – от колониализма до марксизма, от нацизма до либерализма. Несмотря на значительные различия, все они сходились в том, что мир будет един, его основу составит наиболее прогрессивная (западная) часть всемирной цивилизации, а остальные постепенно подтянутся до ее стандартов.
Со временем доминирование Запада стало сокращаться. Западные системы вооружения распространились по всему миру, и контролировать «неразвитые» регионы стало сложнее. Деколонизация привела к повсеместному росту самосознания, однако в большинстве вновь образованных государств национальная гордость первоначально выразилась в теориях догоняющего развития, все еще остававшихся в парадигме превосходства Запада. Их суть сводилась к использованию западных экономических достижений для того, чтобы совершить рывок и вступить в современный (то есть западный же) мир. Ориентация части режимов на Советский Союз не имела существенного значения, ведь сам СССР считал себя частью мировой цивилизации, лишь утверждая, что именно он как лидер социалистического содружества ушел вперед в плане общественного развития, а «мир капитализма» от него отстал.
Победа над нацизмом, которая далась западной цивилизации огромным напряжением всех сил и создала могущественного конкурента в виде Советского Союза, привела не к подрыву фундаментальной теории, но к пониманию того, что продвижение в сторону «прогресса» может встречать мощное сопротивление и требует значительных средств и усилий. Проявив достаточно государственной мудрости, лидеры победивших держав, прежде всего Соединенных Штатов, не жалели средств на консолидацию западного мира, пусть даже путем материальных издержек для собственного населения. Этот подход выразился, в частности, в плане Маршалла, который позволил ликвидировать последствия нацизма в Западной Европе и предотвратить проникновение туда сталинского коммунизма.
Борьба с Советами и их лагерем не могла подорвать уверенности Запада в линейной теории прогресса, ведь ее разделяли и коммунисты. Это был лишь спор о том, на основе каких ценностей должно строиться передовое общество. А победа в нем, достигнутая к тому же не в результате войны, а благодаря распаду коммунизма изнутри, привела к эйфории, наиболее отчетливо выразившейся в знаменитой теории «конца истории» Фрэнсиса Фукуямы. Он провозгласил окончательный успех и всеобщее признание западных ценностей и западного «прогрессивного» общественного устройства.
Подход Запада к новым государствам Восточной Европы и постсоветского пространства, освободившимся от коммунизма, определялся сочетанием этой эйфории и относительной экономической слабостью Запада. Теоретически возможны были два варианта: попытаться всерьез ассимилировать Россию и сделать ее частью западной системы или отрывать от нее как от бывшего центра враждебного мира кусок за куском, полагая, что и сама Россия в исторической перспективе никуда не денется, так как будущее за Западом. Сторонники первого подхода пытались объяснить политикам, что антироссийский курс может привести к росту враждебности Москвы, а наградой будет лишь несколько мелких государств, которые в любом случае станут частью Европы. С такими предупреждениями выступал, в частности, выдающийся теоретик американской внешней политики Джордж Кеннан, некоторые известные сенаторы и журналисты. Однако администрация Билла Клинтона, а затем Джорджа Буша пошли по второму пути: расширение НАТО и уговоры России, что приближение иностранных войск к ее границам не угрожает ее безопасности. В европейских столицах также полагали, что людям всех стран свойственно стремиться в западные союзы и объединения, верить в ценности, которые они распространяют, и, если какие-то правители пытаются помешать этому естественному движению, то рано или поздно они будут сметены волной народного протеста. К тому же на серьезное привлечение России в западную сферу потребовалось бы слишком много денег, а платить не хотелось.
Сегодня трудно сказать, мог ли иной подход привести к более позитивным, с точки зрения Запада, результатам российского транзита. Курс Клинтона–Буша значительно укрепил в Москве силы, считающие, что Россия должна стать не частью западных союзов, но независимым полюсом, центром евразийской интеграции в рамках полицентричного мира. Стал ли этот вклад решающим – уже не важно. Однако за российскими амбициями стоит не только воля отдельных личностей, но и фундаментальные различия в видении мировой ситуации.
Развитие международной обстановки в начале ХХI века показывает утопичность веры в то, что безусловное принятие западных ценностей и основанных на них политических и социальных режимов естественно для населения всего мира, независимо от культуры и исторического опыта.
Ценностные основы незападной интеграции
Западная цивилизация с позднеримского периода развивалась на христианских основах, но последние несколько веков от них постепенно отходила. Секуляризация в сочетании с либеральной идеологией привела к господству релятивистской морали, на которой до сих пор не было основано ни одно общество. Сообщества и цивилизации, несмотря на их разнообразие, всегда были сходны в одном – религиозные системы, создававшие их идейную базу, исходили из абсолютности некоторых ценностей. В разных цивилизациях они были различны, то есть эти системы порой (хотя и не во всем) отличались в трактовке того, что именно хорошо, а что плохо. Но везде и всегда человек знал, что есть нечто, что хорошо само по себе, а что плохо само по себе. Обычно критерии добра и зла формулировались в священных текстах, мифах, освященной религией традиции, передавались из поколения в поколение в рамках «священного предания».
Современная западная цивилизация противопоставила принципу абсолютных ценностей принцип релятивизма. Остатки абсолютной морали еще встречаются кое-где на Западе. Например, по традиции в американских судах коллегия присяжных, определяя вменяемость подсудимого, устанавливает, способен ли он «отличать добро от зла». Но что именно есть добро, а что зло в условиях господства релятивистской морали, если все ранее признаваемые критерии отметены как «отсталые» и «консервативные»? О том, что отрицание абсолютного критерия уничтожает и саму мораль, говорили многие мыслители, от отцов церкви до Блеза Паскаля и Федора Достоевского. Она формулируется в известной фразе: «Если Бога нет, то все дозволено». Одно из последствий описала Ханна Арендт, наблюдавшая за судом над нацистским военным преступником Адольфом Эйхманом: «Эйхман сказал: он признает, что то, в чем он участвовал, было, возможно, крупнейшим преступлением в истории, но он настаивал, что, если бы он этого не делал, его совесть беспокоила бы его в то время. Его совесть и мораль работали в прямо противоположном направлении. Эта противоположность как раз и означает моральный коллапс, произошедший в Европе».
Что конкретно понимается под ценностным релятивизмом? Приведем специфический, но показательный пример. В конце 2012 г. в Германии запретили сексуальные отношения с животными, которые были легальными с 1969 года. В поясняющей части официального документа («Проект третьего закона о поправках к Закону о защите животных» от 29.08.2012) приводится следующая мотивировка: «Сексуальные действия, осуществляемые человеком с животными, обычно наносят вред животному, по крайней мере в смысле, предусмотренном германским законом о защите животных, так как животные принуждаются к неестественному поведению». Получается, что для современного немецкого общества объяснение о том, что зоофилию следует запретить, так как она противоестественна или аморальна для человека, неубедительно. В рамках современной западной идеологии, основанной на концепции «прав человека», индивид может делать все что угодно, если его действия не затрагивают права другого. Моральных ограничений нет, есть только правовые. Причем права постепенно распространяются и на животных. Другими словами, если бы животным вред не наносился, секс с ними был бы вполне приемлем.
Это лишь частный случай общей тенденции оценивать действия и даже строить общие теории вне абсолютного критерия, который дан свыше, то есть определять человеческую справедливость и благо через человеческое, а не сверхчеловеческое. На этом принципе основаны все основные западные этические теории. Два крупнейших западных теоретика морали ХХ века Роберт Нозик и Джон Ролз, несмотря на все их разногласия (один выводит справедливость исключительно из индивидуальной свободы, другой – из некоей общечеловеческой справедливости), сходятся в главном: у морали нет трансцендентного, а есть лишь социальное основание.
Конечно, можно сказать, что секулярно-либеральная идеология – тоже своеобразная вера, и в этом смысле, по сути, основана на некоторых абсолютных ценностях. Ведь в действительности многие ее постулаты принимаются без доказательств и не выдерживают логического анализа. Например, фактически предметом веры стало положение о необходимости защиты всего объема «прав человека», как он понимается в настоящее время западной элитой. Аргументы о том, что на самом Западе содержание «прав человека» постоянно меняется, а концепция «неотъемлемых прав» еще относительно недавно подвергалась критике (например, основатель теории утилитаризма Иеремия Бентам называл естественные права «обычной чепухой», а естественные и неотъемлемые права – «риторической чепухой» или «чепухой на ходулях»), отвергаются как морально несостоятельные.
Эти и подобные аргументы находятся вне парадигмы господствующей западной идеологии, которую, подчеркивая ее политическую направленность, стоит назвать «демократизмом»: верой в «демократию» как она понимается современной западной элитой. Как и всякая идеология, она допускает дискуссии только в своих рамках, выход же за них карается полным непониманием, насмешками, а иногда и административными мерами, поддерживаемыми государством. Например, в западном университете сегодня можно свободно дискутировать о том, как сделать демократию более эффективной, но нельзя поставить вопрос о том, нужна ли она вообще. Известны случаи увольнения за ношение христианского креста на рабочем месте (такое было в Великобритании) или изгнания священников, не одобряющих гомосексуальные отношения (в Скандинавии).
Коренное отличие от идейных систем, основанных на вере, заключается в источнике догматики: это не высший непознаваемый авторитет, а некое аморфное, но вполне земное сообщество «прогрессивных сил», состоящее из политиков, журналистов, профессоров и т.д., навязывающее взгляды прочему «недостаточно развитому» населению. О механизмах этого навязывания писали многие внесистемные мыслители Запада от Карла Маркса до Ноама Хомского. Часто навязывание принимает очевидный характер (например, в вопросах смертной казни, за которую выступает б?льшая часть населения большинства стран мира, иммиграции, условий членства в ЕС, когда в некоторых странах Европы референдумы проводятся повторно, чтобы добиться «правильного» результата). В посюстороннем источнике догматики, по сути, и состоит различие между любой идеологией и религиозным подходом к миру. Но если источник не абсолютен, то и идеологемы могут меняться по мере «прогресса» общества. Религиозная же истина, открытая людям высшим существом, не подлежит обсуждению. Поэтому, например, любая традиционная церковь противится призывам либерального сообщества «меняться в ответ на вызовы времени». С религиозной точки зрения, не истину следует приспосабливать к социуму, а люди должны менять себя, приближаясь к абсолютному идеалу.
Между тем б?льшая часть населения планеты, которая, с «прогрессивной» западной точки зрения, все еще находится в плену отсталых верований, считает, что многие вещи хороши или плохи сами по себе. Западный мир, привлекающий их своим достатком и свободой, отталкивает многими явлениями, которые с точки зрения большинства моральных систем мира неприемлемы: уничтожение ролевых границ между мужчиной и женщиной, экстракорпоральное оплодотворение и суррогатное материнство, эвтаназия, гомосексуальные браки, разрешение легких наркотиков и многое другое.
Кроме того, сама фундаментальная концепция доминирующей на Западе идеологии (безусловный приоритет прав человека), сформировавшаяся в результате секуляризации теории западного христианства о «естественных правах», чужда большинству других культурных традиций. Их представители отказываются делать индивидуальные права целью общественного развития, ставить их выше достатка, общественной стабильности, гармонии и т.п. Сначала развитие, ведущее к достатку, а уж затем – индивидуальные права, говорят в Поднебесной. Во многом поэтому китайская модель развития все более популярна в сравнительно бедных странах Африки, Азии и Латинской Америки, где расширение индивидуальных прав, тем более прав различных экзотических меньшинств, отнюдь не считается приоритетом. Даже в таких вестернизированных и демократических государствах Азии, как Индия и Япония, к идеологии «демократизма» относятся с подозрением, и, не вступая в прямую конфронтацию, проводят курс на сохранение собственных ценностей.
На постсоветском пространстве, в отличие от Западной Европы, заметно религиозное возрождение, растет влияние основных конфессий. Несмотря на значительные различия, все они отвергают вышеупомянутые явления не как неподходящие людям с какой-то прагматической точки зрения, но как «греховные», то есть неприемлемые сами по себе, несанкционированные или прямо запрещенные свыше. Постсоветское большинство недовольно, что его взгляды на жизнь Запад считает отсталыми и реакционными. В этом их поддерживают религиозные деятели, пользующиеся все большим авторитетом. Ведь на прогресс можно смотреть по-разному. Если считать расширение политической свободы, освобождение от моральных уз, сковывающих личное развитие, приобретение все большего материального достатка смыслом существования человека и человечества, то западное общество идет вперед. Но ведь для верующего главным событием в жизни человечества было явление Бога, принесшего истину, жизнь земная скоротечна и страдания в ней готовят к жизни вечной, а материальные блага лишь затрудняют эту подготовку. И отход от этой истины – это регресс, возвращение к языческим временам и порядкам, с которыми христианство боролось на протяжении веков. С этой точки зрения Запад отнюдь не впереди всей планеты, а вернулся к доисторическим временам.
Конфликт ценностей
Новые центры силы образуются в самых различных регионах – в России, Китае, Индии, Бразилии и т.п. Религиозное возрождение происходит не только на постсоветском пространстве, но и в мусульманском мире и в Африке (как среди мусульман, так и среди христиан). И повсюду, несмотря на различия, интеграция чаще всего основывается на ценностях, отличных от тех, которые проповедуются современным Западом. В Китае говорят о коллективизме конфуцианства, в Индии растет роль индуизма, в Африке традиционные христиане решительно отвергают сомнительные моральные новшества, с которыми соглашаются европейские матери-церкви, в мусульманском мире вообще считают современный Запад центром греха и разврата. Даже умеренные мусульманские деятели не принимают западную цивилизацию в целом, но пытаются создать что-то свое с использованием ее достижений.
Интересны в этом плане высказывания известного теоретика исламского гражданского общества, бывшего вице-премьера, а ныне – лидера оппозиции Малайзии Анвара Ибрагима, который открыто отвергает принцип относительности морали: «Гражданское общество, к которому мы стремимся, основано на моральных принципах… Азиатское представление о гражданском обществе отходит в одном фундаментальном отношении… от социальной философии Просвещения… в том, что религия и гражданское общество несовместимы по своей природе… Религия всегда была источником большой силы азиатского общества и продолжит быть бастионом, защищающим от морального и социального упадка».
Запад теряет моральное лидерство, его силовое доминирование пока сохраняется, хотя и существенно ослабло, а материальная притягательность уменьшается с возникновением других эффективных экономических моделей, в частности китайской. Идея о том, что народам всех стран свойственно желать вестернизации и что она неизбежно произойдет, стоит только сбросить сдерживающий ее авторитарный режим, многократно показала свою порочность. Последний пример – революции в арабских странах, которые привели к власти более антизападные силы, чем свергнутые правительства. Оказалось, что Европа окружена не враждебными правителями, мешающими вестернизации, но чуждыми этой вестернизации народами.
В каком-то смысле современную ситуацию можно сравнить с миром периода эллинизма. С одной стороны, западная цивилизация (как в ту пору греческая) распространилась практически на весь мир: язык политики, экономики, культуры повсюду во многом вестернизирован (тогда – эллинизирован). С другой стороны, короткий период полного политического доминирования Запада после конца холодной войны (сравнимый с периодом единого государства Александра Македонского) на наших глазах сменяется многополярным миром, в котором образуются новые центры силы, только укрепившиеся на основе заимствования достижений доминировавшей до тех пор цивилизации, и готовые бросить вызов ранее непререкаемому гегемону.
Какой конкретно из центров силы окажется успешным, а какой все же будет поглощен Западом – пока неясно. В 1998 г. в примечательной статье «Могут ли азиаты думать?» европейски образованный сингапурский интеллектуал Кишоре Махбубани писал: «Только время покажет, смогут ли азиатские общества войти в современный мир как общества азиатские, а не копии западных». Сегодня этот вопрос стоит перед всеми потенциальными центрами силы, в том числе и евразийским. Ответ на него во многом зависит от того, смогут ли они предложить не менее привлекательные и эффективные, чем западная, но отличные от нее системы ценностей и модели развития.
В любом случае доминирующая на современном Западе идеология секулярного либерализма будет встречать все большее сопротивление и неприятие. Ведь хотя она представляет и наиболее мощную часть мира, но отнюдь не большинство крупных цивилизаций и лишь небольшую часть мирового населения. Однако очевидно, что западный центр силы – пока самый мощный, будет стимулировать объединение менее влиятельных центров для создания ему противовеса. Мы уже наблюдаем этот процесс в довольно успешной деятельности группы БРИКС, состоящей из самых разных государств, но в целом претендующей на выражение интересов незападного мира.
Конечно, кроме культурных факторов на реальную политику действует целый ряд других – геополитических, экономических, исторических. И все же, несмотря на их роль, представляется, что основным водоразделом мира будущего будет именно ценностный. Для будущего мира окажется характерно «столкновение ценностей», причем по одну сторону будут сторонники принципа абсолютных ценностей, а по другую – морального и ценностного релятивизма.
И в этом плане не так важно, кто живет в каком государстве и к какой цивилизации принадлежит. Внутри западного мира достаточно приверженцев абсолютных ценностей. Это, например, довольно мощная католическая церковь, которая не только выступает против моральных нововведений, но в последнее время устами Папы Франциска критикует экономический и социальный эгоизм западной модели общества потребления. В этом смысле Русской православной церкви, например, будет легче найти общий язык с римскими католиками, чем с собственными либералами.
Небезынтересно, что и американские крайние консерваторы в последнее время благосклонно пишут о попытках Владимира Путина отвергать некоторые крайности западной идеологии и видят в нем чуть ли не союзника. Небезызвестный Патрик Бьюкенан отмечал: «Если решающая битва во второй половине ХХ века была вертикальной, Восток против Запада, то битва ХХI века может стать горизонтальной, в которой консерваторы и традиционалисты всех стран сомкнут ряды против воинствующего секуляризма мультикультурной и транснациональной элиты».
Ни в России, ни в Китае, ни в Казахстане, ни где бы то ни было еще поборники абсолютных ценностей не хотели бы считать себя традиционалистами и консерваторами, препятствующими общественному развитию. Выступая с посланием Федеральному собранию в декабре 2013 г., Владимир Путин, ссылаясь на философа Николая Бердяева, заметил, что «смысл консерватизма не в том, что он препятствует движению вперед и вверх, а в том, что он препятствует движению назад и вниз, к хаотической тьме, возврату к первобытному состоянию».
Деление на консерваторов и либералов – чисто западное и подразумевает, пусть и подспудное, признание того, что именно Запад идет по дороге прогресса. Поэтому объединение против «воинствующего секуляризма», скорее всего, произойдет не на платформе американских консерваторов, но на основе общего понимания отдельных фундаментальных (хотя и далеко не всех) ценностей и некоторого общего подхода к миру.
Пока модели, альтернативные западным, выдвигают в основном авторитарные лидеры и системы, в которых не используются основные достижения западной цивилизации: высокий уровень политической свободы, обеспечиваемой системой разделения властей, верховенством права и т.п. Это в значительной мере лишает такие модели привлекательности. Даже не признавая политические свободы высшей целью человечества, негуманно и даже лицемерно было бы считать их и вовсе ненужными и отрицать их необходимость в качестве благоприятного условия для достижения иных, более высоких целей. Такое отрицание часто является оправданием для вечного и неэффективного правления диктаторов всех мастей и репрессий с их стороны. Поэтому идеальная незападная модель должна сочетать высокий уровень свободы с системой абсолютных ценностей. Будет ли кем-то предложена такая модель или борьба продолжится между двумя традиционными оппонентами: ценностный релятивизм плюс свобода против ценностного абсолютизма в сочетании с авторитаризмом, покажет будущее.
Прагматизм или утопия?
Причины европейского сепаратизма
О.В. Троицкая – кандидат политических наук, старший преподаватель факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова
Резюме Националистический дискурс не более чем инструмент, позволяющий мобилизовать общество на коллективное действие. Истоки сепаратизма – недовольство качеством госуправления, а цель отделения – благосостояние граждан
В сентябре 2014 г. Шотландия провела референдум о независимости. Внимание всего европейского сообщества было приковано к этому событию, поскольку его значение выходило далеко за рамки внутренних дел Великобритании. Победа сепаратистов могла создать прецедент распада развитого демократического государства посредством референдума и породить «эффект домино» в отношении других регионов Европейского союза, в которых сильны сепаратистские настроения – от Каталонии и Фландрии до Страны Басков и Уэльса. Хотя сторонники отделения потерпели поражение, уровень поддержки идеи независимости (45%) говорит о том, что проблему сепаратизма нельзя считать решенной. Этот плебисцит наряду с опросом о независимости в Каталонии в ноябре 2014 г. дают важный повод задуматься о причинах общеевропейского явления.
На первый взгляд, основной движущей силой сепаратизма является национализм. Лидеры регионов обосновывают легитимность отделения правом нации на самоопределение, активно используют дискурс противопоставления «своих» и «чужих» и рисуют светлое будущее независимой нации в противовес мрачным перспективам в составе единого государства. Тем не менее роль и механизмы влияния национализма на сепаратизм далеко не очевидны.
Если причиной конфликта является дискриминация по национальному признаку, то почему расширение прав регионов в 1970–1990-е гг., снявшее основные проблемы статуса языка, культуры и политического представительства, не ослабило поддержку сепаратизма, а наоборот, сопровождалось переходом от требований автономии к требованиям независимости в 2000-х годах? Если причиной конфликта является забота о статусе нации, то как объяснить тот факт, что все сепаратистские партии, несмотря на различия в политических программах, поддерживают интеграцию в европейские и трансатлантические институты? Зачем стремиться к суверенитету, чтобы тут же отдать его часть на другой уровень, менее подконтрольный регионам, чем уровень государства?
В свете теорий, рассматривающих национализм в качестве главного фактора отделения, это кажется парадоксальным, однако вполне объяснимо, если видеть в национализме не причину, а средство достижения целей. Как будет показано ниже, националистический дискурс не более чем инструмент, позволяющий мобилизовать общество для решения проблемы коллективного действия. Истоки сепаратизма следует искать в недовольстве качеством государственного управления, а цель отделения – в повышении благосостояния граждан.
Эволюция националистической повестки
Националистические силы Шотландии и Каталонии стали играть заметную роль в политике с 1970-х гг., однако вплоть до 2000-х гг. их повестка касалась в основном вопросов автономии. За несколько десятилетий регионам удалось существенно поднять статус в рамках соответствующих государств: утвердить свой язык и культуру в качестве официальных, добиться формирования собственных парламента и правительства и получить полномочия по большинству вопросов регионального значения: от образования и здравоохранения до транспорта и инфраструктуры.
Национализм в Каталонии стал динамично развиваться еще в начале ХХ века, однако в результате гражданской войны 1936–1939 гг., в которой каталонцы поддержали проигравшую сторону, их язык и культура подверглись репрессиям. Новый этап в развитии начался лишь после падения диктатуры Франко. В 1978 г. была принята Конституция, позволившая осуществить фактическую федерализацию с передачей власти на уровень регионов, хотя формально государство осталось унитарным. В 1979 г. принят Статут автономии, который позволил придать каталонскому языку официальный статус и сформировать в регионе собственное правительство.
Шотландский национализм долгое время сдерживался выгодами британского имперского статуса, так как шотландцы составляли значительную часть управляющего класса и военных контингентов в колониях. Опыт участия в двух мировых войнах также способствовал укреплению британского единства. Распад империи и тяготы послевоенного восстановления привели к переоценке роли союза шотландцами. Обнаружение богатых нефтяных месторождений в Северном море в конце 1960-х гг. подстегнуло местный национализм и возродило требования большего участия региона в управлении своими делами. Первый референдум 1979 г. о деволюции, впрочем, был проигнорирован центром из-за недостаточно высокой явки.
Неприязнь к британскому правительству достигла апогея во времена премьерства Маргарет Тэтчер. Неолиберальные экономические реформы консерваторов привели к закрытию многих промышленных предприятий и резкому росту безработицы в Шотландии. Популярности партии тори в регионе был нанесен смертельный удар, после которого она так и не оправилась: на выборах 2001, 2005 и 2010 гг. в Вестминстер был направлен лишь один представитель консерваторов от Шотландии. Приход лейбористов к власти в 1997 г. шотландцы поддержали во многом благодаря обещаниям автономии. Результаты второго референдума о деволюции 1997 г. позволили шотландцам сформировать собственный парламент, который начал работу в 1999 году.
Таким образом, во второй половине ХХ века регионы добились значительной автономии. Уступки центра рассматривались как естественное поведение в условиях развитой демократии, а повышение статуса и политического представительства национальных меньшинств – как разумный и цивилизованный способ разрешения противоречий.
Тем не менее в течение 2000-х гг. стали набирать силу неожиданные процессы. Националисты совершили стремительный взлет на политический олимп, завоевав к концу десятилетия большинство мест в региональных парламентах. Более того, их платформа изменилась в сторону требований полного отделения и образования собственного независимого государства.
В Испании поводом к конфликту стал вопрос о поправках в Статут автономии. В 2006 г. каталонцы предложили внести в документ формулировку о «нации», а также расширить полномочия региона в сфере финансов, иммиграции и банковского дела. В течение нескольких лет Конституционный суд Испании рассматривал это дело и в 2010 г. постановил отменить эти поправки как антиконституционные. Это спровоцировало масштабные демонстрации, в которых участвовали сотни тысяч жителей Каталонии.
В Шотландии катализатором националистической поддержки стала победа консерваторов на общегосударственных выборах в 2010 г., что позволило шотландским националистам заявить о том, что их судьбу отныне будут решать «чужеродные» политические силы, пользующиеся минимальной поддержкой в регионе. В 2011 г. Шотландская националистическая партия впервые получила большинство голосов в парламенте (69 из 129) и поставила вопрос о проведении референдума о независимости.
Данные процессы подняли ряд важных вопросов, касающихся управления межнациональными конфликтами. Возможно ли в принципе сдержать сепаратизм в многонациональных государствах посредством децентрализации? Не является ли деволюция ошибочной стратегией, лишь разжигающей аппетит националистов? Наконец, чем можно объяснить популярность идеи отделения среди широких масс населения, когда дискриминация по национальному признаку отсутствует?
Фактор национализма
Большинство экспертов и наблюдателей считают, что главную роль в усилении сепаратизма в 2000-х гг. сыграл национализм. Однако мнения относительно механизмов влияния националистического дискурса на поддержку независимости расходятся.
Одни утверждают, что в основе сепаратизма лежит естественное стремление всех наций к суверенитету. Деление человечества на нации первично, и там, где этнические и политические границы не совпадают, неизбежно возникает конфликт. Национальное меньшинство всегда будет стремиться выйти из-под контроля большинства, считая, что большинство принимает решения в первую очередь в интересах своей нации и при необходимости – в ущерб интересам меньшинства. Таким образом, потенциал конфликта в многонациональном государстве не может быть устранен окончательно, а лишь подавлен при определенных обстоятельствах – например, в условиях авторитарного правления, интенсивного экономического роста или общей внешней угрозы.
С этой точки зрения деволюция в Испании и Великобритании не могла и не может снять проблему сепаратизма. Повышение статуса нации в результате расширения автономии неизбежно способствовало усилению национального самосознания и, как следствие, росту требований независимости.
Другой подход гласит, что понятия «нация», «национальная идея», «национальные интересы» – не более чем конструкты, пустые формы, которые наполняются содержанием в зависимости от контекста и политической цели. Как правило, власть разыгрывает националистическую карту для укрепления собственной легитимности: создавая виртуальную «нацию», власть формирует субъект, от лица и во имя которого правит. Насаждение национального дискурса происходит за счет внедрения в массовое сознание мифов – упрощенных схем противопоставления своих и чужих, которые очерчивают границы сообществ и повышают привлекательность принадлежности к своей группе за счет принижения другой. Использование национализма оценивается конструктивистами в целом как негативный процесс, маскирующий отношения доминирования и подчинения и создающий потенциал конфликтности там, где его могло бы не быть. Так как любое формулирование этнической (национальной) идентичности является актом политики, радикальные конструктивисты предлагают вообще отказаться от использования категории этничности (национальности) в политике или науке.
С точки зрения конструктивизма сепаратизм в Шотландии и Каталонии не имеет объективных причин. Идея независимости отражает амбиции региональных элит, которые последовательно усиливают позиции в противостоянии с центром за счет разжигания межнациональных противоречий.
На наш взгляд, оба подхода дают упрощенную картину. Представление о нациях как об объективной данности, имеющей некие изначальные интересы, давно развенчано социальными историками и политологами. Идеология национализма получила повсеместное распространение лишь в XIX веке. Ее возникновение обусловлено становлением современного типа государства, которое испытывало потребность в унифицирующей идеологии для повышения эффективности своего контроля. Представлениям о делении человечества на нации предшествовали более длительные и устойчивые представления о делении людей по вероисповеданию, подданству, сословиям или локальному происхождению. Тем более сложно апеллировать к неким «исконным значениям» нации в XXI веке – в условиях глобализации и интеграции, породивших множество гибридных форм идентичности, основанных на смешанном происхождении, профессиональной и гендерной солидарности, гуманитарных и экологических ценностях.
Против первой версии свидетельствует и тот факт, что статус нации – не самоцель в борьбе за независимость. Повсеместно в Европе крайне правые партии, строящие свою программу исключительно вокруг вопросов статуса и «чистоты» нации – с акцентом на противодействии европейской интеграции и иммиграции – имеют ограниченную поддержку. Их успех в последние годы можно объяснить не столько «пробуждением национального самосознания», сколько проблемами европейских институтов и миграционной политики. Показательно, что итальянская партия «Северная Лига», выступившая за независимость северных регионов Италии с крайне правых позиций (евроскептицизм, снижение иммиграции), так и не смогла стать значимой политической силой и после небольшого успеха растеряла электорат. Напротив, Новый фламандский альянс (НФА), выступивший за независимость Фландрии с умеренных, центристских позиций, перетянул к себе многих избирателей крайне правой партии «Влаам Беланг» – предложив избирателям более широкую социально-экономическую повестку, чем суверенитет нации и иммиграция.
Кроме того, как уже говорилось, с точки зрения «объективных интересов нации» невозможно объяснить проевропейские устремления сепаратистов. Борьба за повышение статуса нации слишком затратна, чтобы легко жертвовать ее результатами в пользу наднациональных институтов.
Подход радикальных конструктивистов, рассматривающих процессы сепаратизма с точки зрения выгод региональных элит, также вызывает возражение. В европейских избирателях сложно увидеть послушную некритичную массу, которая словно губка впитывает все, что предлагают ей политики. Отдельные исследования показывают, что поддержка националистических партий в последнее десятилетие возросла за счет избирателей, которые имели уже сформировавшиеся национальные взгляды. Приход в политику новых лидеров и партий в 2000-е гг. лишь в незначительной степени повлиял на число лиц, подчеркивавших важность национальной идентичности, а значит, степень влияния политиков на общество не стоит переоценивать.
Следует подчеркнуть, что регионы, заявившие о желании отделиться (Шотландия, Каталония, Фландрия), представляют собой сообщества, которые на протяжении веков отличались сильным национальным самосознанием. Они были включены в состав соответствующих государств с уже сформированными институтами самоуправления и культурной спецификой. Благодаря эффективной самоорганизации они смогли сохранить свои отличия даже в условиях доминирования иной культуры и языка, фиксируя их в таких устойчивых институтах, как литература и пресса на родном языке, исторические и художественные музеи, национальные праздники, увековечивание памяти выдающихся представителей и проч. Наличие подобных институтов способствовало закреплению жестких рамок национальной идентичности, слабо подверженных субъективным интерпретациям.
Описанное выше противоречие между двумя точками зрения, известными в науке как примордиализм и конструктивизм, невозможно разрешить. Можно лишь уйти от него в сторону третьего подхода, который предложил, в частности, американский исследователь Генри Хейл в книге «Основания этнической политики», вышедшей в 2008 году. Опираясь на новейшие достижения социальной психологии и глубокие эмпирические исследовании сепаратизма на постсоветском пространстве, он указал на необходимость разграничения вопросов национальности и национальной политики. По его утверждению, представления об этнической принадлежности играют важную роль в процессе осмысления окружающего мира, закладывая основу для дальнейших действий. Однако эти представления ничего не говорят о том, какие интересы сформулируют для себя индивиды или группы и какие цели они перед собой поставят. Хейл предлагает рассматривать национализм как инструмент, помогающий решить проблему коллективного действия в достижении целей сообщества.
Проблема коллективного действия описывает ситуацию, когда индивиды могли бы выиграть от сотрудничества друг с другом, но сотрудничество не складывается, поскольку индивиды предпочитают преследовать свои узкие интересы в ущерб общим. Каждый подозревает, что другой уклонится от вклада в общее дело, переложив на него бремя, и потому решает сам уклониться от участия (т.н. проблема «безбилетника»). Иными словами, наличие общих экономических, политических или социальных интересов не всегда заставляет группу объединиться для их достижения. Микрогруппы интересов будут уклоняться от совместных действий, не веря в возможность достижения общего блага или считая, что конечные выгоды не стоят потраченных усилий.
Данная теория вполне применима к рассматриваемым нами случаям. Как мы покажем ниже, причины сепаратизма лежат в специфике взаимоотношений центра и регионов, однако проблема коллективного действия не позволяет жителям региона самоорганизоваться исключительно на основании факта своей региональной принадлежности. Во-первых, все население сложно убедить в том, что проблемы вызваны именно структурой государственного устройства и политикой центра в отношении региона, а не множеством других факторов – начиная от глобального кризиса и заканчивая заговором элит. Во-вторых, даже при общем понимании источника проблем жители региона никогда не смогут договориться между собой о единой политике в отношении центра. Некоторые группы предпочтут поставить на менее оптимальный, но более выгодный для них в краткосрочной перспективе вариант – в частности, поддержав одну из действующих политических партий, – так как посчитают, что достижение общего блага – дело слишком отдаленное и рискованное, чтобы ради него жертвовать насущными интересами.
Национализм позволяет преодолеть проблему коллективного действия в ситуации противостояния центра и региона. Националистический дискурс упаковывает взаимоотношения двух субъектов в обертку «национальных отношений», переводя их на понятный массовому избирателю язык «своих» и «чужих», доминирования и эксплуатации. Эмоциональная составляющая дискурса, взывающая к чувству справедливости и оскорбленного достоинства, обладает достаточной мобилизующей силой, чтобы заставить членов сообщества преодолеть эгоизм и солидаризироваться ради достижения общей цели.
Подводя итоги, можно согласиться с теми, кто утверждает, что национализм играет ключевую роль в процессах сепаратизма. Однако национализм не причина, а средство, которое позволяет организовать сообщество для достижения целей.
Если статус нации не является причиной отделения, возникает закономерный вопрос: что обусловило потребность в использовании такой мощной мобилизующей силы? Какие цели смогли заставить общество поверить в «мечту об отделении»?
Причины сепаратизма
В основе любого проявления сепаратизма лежит кризис легитимности правительства – представление о том, что существующие проблемы невозможно преодолеть сменой действующего правительства и что для их разрешения необходимы конституционные изменения.
Какого рода проблемы могут вызвать кризис легитимности? В бывших колониях или на постсоветском пространстве ответ был очевиден. Политика центра по отношению к национальным меньшинствам ставила под угрозу либо физическое существование сообщества (этнические чистки или насильственное перемещение), либо его символическое существование (запрет на использование языка или культурных практик). Так как смена правительства не устраняла эту экзистенциальную угрозу или не представлялась возможной, сецессия рассматривалась как единственный способ обеспечить выживание сообщества.
Кризис легитимности в европейских государствах имеет другие основания, не связанные с физической угрозой или дискриминацией. Его истоки лежат в изменении фундаментальных представлений граждан о роли государства и выдвижении новых критериев оценки качества государственного управления.
Главная причина кризиса легитимности – изменение контекста безопасности. После Второй мировой войны европейские государства вступили в один из самых долгих периодов мира в своей истории. Отсутствие военных конфликтов породило глубокое ощущение безопасности у нескольких поколений европейцев, что способствовало тому, что главная государственная функция обеспечения безопасности границ и территории от военного вторжения утратила значение. Государство стало восприниматься в первую очередь не как гарант физической безопасности, а как гарант экономического процветания.
Соответственно, потеряла смысл и модель крупного централизованного государства. На протяжении веков расширение территории означало увеличение мощи за счет природных и человеческих ресурсов, что, в свою очередь, повышало способность государства защищать суверенитет и территориальную целостность. Сегодня отсутствие военных угроз снижает значение территориального фактора и объема ресурсов, которые можно мобилизовать для ведения войн и обороны.
Единственной угрозой, серьезно затронувшей европейских граждан в последние десятилетия, стал терроризм. Однако характер террористической угрозы скорее подтверждает тезис о незначимости количественных показателей: малые и крупные государства одинаково подвержены этой опасности. Более того, крупные государства, проводящие более активную внешнюю политику, чаще рискуют стать мишенью террористов, чем малые.
Новые представления о государстве как гаранте экономического процветания, а не безопасности, способствовали переосмыслению критериев оценки государственной эффективности. Если ранее международный статус и мощь могли оправдывать проблемы экономического развития, поскольку безопасность была наивысшим общественным благом, то для сегодняшних европейских избирателей этого недостаточно. Более того, любая модель государственного устройства, содержащая структурные предпосылки к замедлению роста благосостояния, будет признана нелегитимной.
Сепаратисты приобрели огромную силу благодаря тому, что указали на реальные проблемы государственного устройства, которые приносят ощутимые издержки жителям региона. Фландрия и Каталония отдают в центральный бюджет больше, чем получают. Каталонцы утверждают, что, будучи развитым промышленным регионом, они теряют ежегодно 10% ВВП в пользу других регионов Испании. В бельгийской Фландрии более низкий уровень безработицы и более высокая производительность труда, чем в Валлонии. В целом фламандцы поддерживают политику более правого толка с опорой на частную инициативу и ответственность, в то время как валлонцы придерживаются скорее левых взглядов, считая необходимым перераспределение доходов и государственную поддержку.
Недовольство Шотландии вызвано тем, что в союзе с Великобританией она теряет доходы от добычи нефти, а также вынуждена оплачивать затраты на ядерное оружие и военное вмешательство за рубежом, в то время как приоритетами шотландцев являются построение справедливого и социально ответственного общества. Показательно, что шотландские сепаратисты считают ядерное оружие не активом, а бременем, подчеркивая экономические выгоды отказа от ядерного статуса.
Вторая глубинная причина сепаратизма связана с замедлением экономического роста в Европе и экономическим кризисом конца 2000-х гг., которые способствовали усилению конкуренции за ресурсы внутри государств.
В послевоенные десятилетия Западная Европа переживала период интенсивного роста, так называемый «золотой век». Это стало возможно благодаря внешней помощи и динамичному послевоенному восстановлению. Европейская интеграция придала дополнительный импульс экономическому развитию. Однако после кризиса 1973 г. темпы роста упали и никогда больше не вернулись к послевоенному уровню. Разрыв между европейскими странами и Соединенными Штатами стал увеличиваться, поскольку экономики ЕЭС тормозились избыточным регулированием, более низкой производительностью труда и высокими социальными обязательствами. Если в 1945–1972 гг. темпы роста составляли в среднем 4%, то в 1973–2007 гг. они снизились до 1,9% в год.
Кризис 2008–2009 гг. ухудшил ситуацию, ввергнув многие страны в рецессию. Испанская экономика, которая с 1999 по 2007 г. росла в среднем на 3,7% в год, с тех пор снизила показатели до 1 процента. В течение пяти лет после острой фазы кризиса Испания потеряла примерно 7% ВВП, безработица достигла высочайшего в Евросоюзе уровня в 30 процентов. Государственный долг Бельгии вырос до 100% ВВП, уступая только Греции и Италии.
Третья фундаментальная причина кризиса легитимности, помимо безопасности и экономики, связана с разочарованием в текущих политических институтах. В последние десятилетия опросы зафиксировали катастрофическое снижение доверия к европейским структурам. В последние годы не более трети граждан заявляли о доверии национальным правительствам и парламентам. Две трети считали, что их голос не учитывается при принятии решений на уровне Евросоюза. Данные тенденции позволили некоторым ученым говорить о феномене «разочарованных демократов» – увеличении доли граждан, поддерживающих демократический режим в принципе, но крайне недовольных конкретной работой его институтов и представителей.
Снизилось доверие и к политическим партиям, повестка которых стала слишком размытой и неясной для избирателей. Повсеместно наблюдается снижение членства в партиях. Аналитики отмечают, что партийные программы играют меньшую роль в привлечении избирателей, чем харизма лидеров и позиции по отдельным вопросам, таким как европейская интеграция, гомосексуальные браки, аборты и др. На этом фоне националистические партии значительно выигрывают за счет своей четкой идентичности и ясного послания.
В целом недоверие к традиционным политическим институтам создало благоприятную почву, на которую пали семена националистической идеологии. Предложение националистов создать менее громоздкий и бюрократизированный аппарат, который будет напрямую отвечать за состояние дел перед местным сообществом, стало выглядеть решением давно накопившихся проблем.
Подводя итоги, можно заключить, что в основе стремления к отделению лежат не националистические идеалы, а чистый прагматизм – рациональный выбор в пользу такой модели государственного устройства, которая способна обеспечить максимальное благополучие граждан. Все попытки центрального правительства воззвать к чувствам общегражданской солидарности разбиваются о холодный расчет: почему солидарность имеет разную «цену» для граждан? Почему государственная структура способствует неравному распределению ресурсов? Какое общественное благо, создаваемое единым государством, способно компенсировать издержки группы, делающей больший вклад в бюджет, чем другие? Неспособность центральных правительств сформулировать ответ на эти вопросы в терминах понятной и очевидной выгоды является главной причиной их поражения в борьбе с сепаратистами.
* * *
Понимание причин европейского сепаратизма имеет прямое отношение к поиску путей урегулирования конфликтов. Правительство Великобритании исходит из того, что главной целью сепаратистов является повышение статуса нации, и пытается ослабить их позиции предоставлением большей автономии. Правительство Испании считает, что движущая сила сепаратизма – амбиции региональных политиков, и потому пытается игнорировать требования сепаратистов и референдум в надежде на естественное затухание конфликта.
Представляется, что обе ставки приведут к проигрышу. Националистическая идеология является не причиной, а средством преодоления кризиса легитимности, который стал результатом изменения роли государства в жизни граждан. В условиях длительного мира государства постепенно утратили первичные функции обеспечения безопасности в пользу экономического процветания, что привело к переоценке эффективности государственных институтов с точки зрения их способности гарантировать гражданам максимум благосостояния. Регионы, заявившие о желании отделиться, поставили под сомнение не национальную идею, а модель государственного устройства, в которой заложены структурные ограничения для их эффективного роста.
Способность центральных правительств сдержать сецессию выглядит сомнительной. Ни предложение автономии, ни повышение издержек отделения (за счет жесткой позиции центра по поводу валюты, госдолга, собственности и др.) не воздействуют на глубинные причины сепаратизма. Его ослаблению могут способствовать лишь такие долгосрочные тенденции, как: 1) рост общего благосостояния, который снизил бы остроту проблемы распределения ресурсов; 2) изменение баланса доверия к центральному и региональному правительству – в результате падения репутации националистов или усиления популярности общегосударственных партий; 3) обострение внешней угрозы, которое снова актуализирует вопросы территориальной политики и военной мощи.

Беспокойное партнерство
Риски сотрудничества с КНР глазами российского бизнеса
Александр Габуев - китаист, член Совета по внешней и оборонной политике
Резюме В условиях западных санкций российские компании ищут новые возможности в Восточной Азии, прежде всего в Китае. Однако крупный бизнес и топ-менеджеры госкомпаний видят в возросшей зависимости от КНР и немало потенциальных рисков
В условиях западных санкций крупнейшие российские компании ищут новые возможности в Восточной Азии. Основные надежды связаны с Китаем – второй экономикой мира и самым близким политическим партнером Москвы. Несмотря на это, частный бизнес и топ-менеджеры госкомпаний видят в возросшей зависимости от КНР немало потенциальных проблем и рисков. Их минимизация потребует совместных усилий предпринимательского сообщества и государства.
Санкции на дружбу
«Есть очевидный тренд к сближению позиций с азиатскими партнерами, обусловленный и экономическими, и политическими причинами. Китай заинтересован в российском рынке. Китайские компании готовы инвестировать в комплексное освоение российских месторождений, в энергетику, инфраструктуру, автопром и авиастроение. Есть обратный интерес у российского бизнеса, и не только сырьевых компаний… Я думаю, западные санкции могут серьезно ускорить наше сотрудничество», – сообщил миллиардер Геннадий Тимченко газете «Коммерсантъ» в интервью, опубликованном 15 сентября 2014 года. Заявления бизнесмена, обладающего, если верить Forbes, шестым состоянием в России (его активы оцениваются в 15,3 млрд долларов), отражают настрой, который российская политическая и деловая элита транслирует внутри страны и во внешний мир после введения западных санкций. Начиная с апреля 2014 г., чиновники и бизнесмены не устают повторять, что развитие партнерства со странами Азии, и прежде всего с могучим Китаем, станет ответом на политику ЕС и США. Периодически руководители государства корректируют этот сигнал, утверждая, что разворот России на Восток начался задолго до украинского кризиса, однако демонстративный характер российско-китайской дружбы бросается в глаза.
Геннадий Тимченко – наиболее показательная фигура в этом процессе. 20 марта 2014 г. он попал во второй «черный список», подписанный президентом США Бараком Обамой в ответ на действия России на Украине. Уже 29 апреля Тимченко стал сопредседателем в Российско-китайском деловом совете, сменив на этой должности руководившего советом десять лет Бориса Титова. В ходе майского визита в Шанхай Владимир Путин на встрече с российскими олигархами сказал, что Тимченко теперь в его глазах – «главный по Китаю». А 4 августа в интервью агентству ТАСС бизнесмен демонстрировал, что избавился от международных карточек Visa и MasterCard и перешел на китайскую систему UnionPay: «Как санкции ввели, сразу ее оформил. Отлично работает! И принимают карту во многих местах. В некотором смысле надежнее, чем Visa. По крайней мере, американцы не дотянутся».
Будучи теперь официально главным специалистом по Китаю среди крупных бизнесменов, Геннадий Тимченко может позволить себе публично рассуждать и о рисках партнерства. «Риск проиграть более сильному конкуренту всегда есть, но мне кажется, не он должен доминировать в вопросе наших отношений. Надо учитывать перспективы, которые открывает сотрудничество с азиатскими партнерами, с точки зрения привлечения капитала и технологий. В китайском языке, как известно, понятия “риск” и “возможность” можно передать одним иероглифом. Если мы объединим наши возможности, бизнес выиграет гораздо больше, чем потеряет», – заявил он «Коммерсанту». Впрочем, столь оптимистичный взгляд разделяют далеко не все российские бизнесмены и высокопоставленные чиновники.
Китайский поворот
В последние годы тема рисков постоянно присутствовала в дискуссиях на высшем уровне о расширении торгово-экономического сотрудничества с Китаем. Во многом это объясняется наследием 1990-х гг., когда торговля с КНР не была для российского государства и нарождавшихся олигархов приоритетом. Если в 1992 г. Китай по инерции был третьим торговым партнером России (сказывался задел, созданный в результате нормализации советско-китайских отношений в конце 1980-х гг.), то уже в 1993 г. он откатился на десятое место. За десятилетие после развала СССР главными чертами экономических отношений стали контракты в сфере ВПК (во многом именно китайские заказы поддержали находившуюся в кризисе оборонную промышленность России), хаотичная приграничная торговля и попытки китайцев приобрести сырьевые активы в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом к началу 2000-х гг. КНР была лишь шестым торговым партнером РФ, товарооборот немногим превышал 40 млрд долларов в год.
После прихода Владимира Путина отношения с Китаем упорядочили. На политическом уровне достигнуты немалые успехи: в 2001 г. стороны подписали договор о дружбе, в 2004-м – дополнение к соглашению о российско-китайской границе, которое официально закрыло территориальный вопрос (РФ уступила КНР 337 кв. км спорных земель), началось оформление «мягкого альянса» во внешней политике, прежде всего – за счет совместных действий на площадке Шанхайской организации сотрудничества и голосований в СБ ООН.
Однако в экономике на сотрудничество с КНР были наложены неформальные ограничения: присутствие китайского бизнеса на Дальнем Востоке и в Сибири сокращено, заморожены планы совместных инфраструктурных проектов в Приморье, постепенно снизились объемы военно-технического сотрудничества, китайские компании не допускали к сырьевым активам и подрядным работам на мегастройках вроде саммита АТЭС во Владивостоке. В то время Москва была всерьез озабочена намерениями Пекина в отношении российского Зауралья. (Основным аргументом в пользу экспансионистских устремлений, якобы существующих у китайцев, был дисбаланс демографических потенциалов северо-востока КНР и российского Дальнего Востока.) Кроме того, Россия не желала превратиться в сырьевой придаток быстрорастущего соседа, Кремль хотел видеть страну донором технологий для большинства азиатских партнеров, включая и КНР. Наконец, Москву беспокоила проблема несанкционированного копирования российской техники, особенно вооружений. В результате, несмотря на 4,2 тыс. км общей границы и взаимодополняемую структуру экономик, объем торговли РФ и КНР никак не мог пробить планку в 60 млрд долларов. Сделки вроде контракта 2004 г. «Роснефти» с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) о поставке 48 млн тонн нефти (6 млрд долларов предоплаты от китайцев российская госкомпания использовала для покупки активов ЮКОСа) были исключением.
Изменения начали происходить в 2009 г. – в разгар мирового кризиса. Столкнувшись с дефицитом ликвидности на западных площадках, российские компании устремились за деньгами в Китай. Самой крупной стала нефтяная сделка: «Роснефть» и «Транснефть» на 20 лет заняли $25 млрд у Банка развития Китая на строительство нефтепровода в КНР – под залог поставок 15 млн тонн нефти в год. По итогам 2009 г. Китай стал первым торговым партнером России, обогнав Германию, и с тех пор удерживает эту позицию (89,2 млрд долларов в 2013 году). Несмотря на это, многие неформальные ограничения на инвестирование сохранялись. До недавнего времени китайцам не удавалось получить доли ни в одном крупном газовом месторождении, бюрократические барьеры возводились на пути создания совместных предприятий в машиностроении и автопроме (Москва опасалась, что китайские предприятия быстро захватят внутренний рынок за счет демпинга). Ограничивалось и присутствие финансовых институтов КНР в России. Например, китайские банки в отличие от западных не были допущены к розничному рынку. Даже те структуры, которые формально создавались для наращивания китайских инвестиций в экономику России (вроде совместного фонда China Investment Corporation и Российского фонда прямых инвестиций), ограничивались при вложении денег в «чувствительные» для Москвы отрасли.
Правда, уже в 2013 г. подход начал меняться. Китайской CNPC удалось купить 20% в проекте «Ямал СПГ» (контролирующий акционер – НОВАТЭК, совладельцами которого являются Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко), а «Роснефть» заключила соглашения о привлечении многомиллиардных авансов за будущие поставки нефти от CNPC и Sinopec. Новый подход объяснялся падением темпов роста российской экономики (1,3% по итогам 2013 г.) и опасениями Кремля относительно возможности финансировать долгосрочные расходы вроде майских указов президента, влияющих на лояльность избирателей.
Окончательный перелом произошел весной 2014 г. после введения санкций. По мере того как западные санкции становились комплексными (от «черных списков» США и Евросоюз перешли к запретам занимать деньги для ключевых российских банков и госкомпаний, а также к блокированию технологического сотрудничества в стратегических для России областях вроде ТЭКа), росла и потребность во внешнем противовесе. С учетом того, что Япония также объявила о санкциях (как член G7 и союзник США), а Южная Корея заняла выжидательную позицию, на роль главного спасителя России, естественно, выдвинулся Китай. Майский визит Путина в Шанхай принес около 40 соглашений, еще 38 были подписаны во время октябрьского визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Москву. Как признают высокопоставленные чиновники, с апреля 2014 г. неформальные ограничения на экспансию китайского капитала фактически сняты. Теперь Россия пытается компенсировать влияние западных санкций за счет получения от Китая рынков сбыта, инвестиций, прямых банковских кредитов, доступа к финансовым площадкам, а также критически важным технологиям. При этом и чиновники, и бизнесмены убеждены: углубление партнерства с КНР по всем этим направлениям сопряжено с проблемами уже сейчас и несет для России риски в будущем. Какие же проблемы и риски видит российская элита?
Скрытые угрозы
Главная проблема в сотрудничестве с Китаем, которую идентифицируют многие чиновники и бизнесмены – в коротком и среднем горизонте контакты с КНР не смогут целиком восполнить потери от разрыва с Западом даже при наличии большого желания со стороны Пекина. По общему признанию, Китай не готов обеспечить доступ к внешним источникам заимствований в объеме, достаточном, чтобы полностью заменить западные кредиты и возможность размещать акции в Лондоне и Нью-Йорке. КНР не удастся быстро стать для России источником критически важных технологий. А в случае, если Европейский союз сможет значительно сократить потребление российских углеводородов, китайский рынок не в состоянии заместить выпавшие доходы ни компаниям, ни бюджету. Правда, отказ Европы от российских энергоносителей в среднесрочной перспективе кажется невероятным.
Для значительной части элиты перспектива того, что главным экономическим партнером России станет КНР, связывается с целым набором специфических рисков. Часть из них являются производной от внутреннего устройства Китая, как его понимает (или не понимает) российский правящий класс. Другая часть связана с проблемами организации взаимодействия с Пекином, которая существует внутри России.
Во-первых, отечественной элите не ясны стратегические намерения Поднебесной в отношении России. В частных беседах первый и главный вопрос, который задают друг другу чиновники и бизнесмены: «Кто мы для китайцев? Чего они от нас хотят?». Многие убеждены, что долгосрочная цель Китая – колонизация России, а в основе нынешнего сближения Пекина с Москвой лежит желание в будущем поставить под контроль ресурсы Сибири и Дальнего Востока. В основе подобных представлений – достопамятный пограничный конфликт 1969 г., смутная информация о росте национализма в КНР, логика жесткого контроля над более слабым партнером, присущая многим представителям правящего класса России и проецируемая ими на китайскую элиту.
Пожалуй, один из главных факторов, который по-прежнему заставляет многих в Москве искать скрытую угрозу в желании Китая сближаться – разница демографических потенциалов в приграничных районах РФ и КНР. Если в Дальневосточном федеральном округе, занимающем 36% территории России (около 6,2 млн кв. км), проживают 6,2 млн человек (около 4,3% от всего населения страны), то в трех северо-восточных провинциях Китая (Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин) на территории 804 тыс. кв. км живут почти 110 млн человек. Подобные цифры заставляют вспомнить о концепции «желтой угрозы», популярной в конце XIX века. К тому же взгляды многих представителей элиты на Китай сформированы, как ни странно, западными авторами вроде Збигнева Бжезинского, открыто говорящего о риске колонизации китайцами зауральской России.
Страху добавляет и слабое владение статистикой о китайских мигрантах на российской территории. Хотя по данным официальной переписи 2010 г. количество китайцев не достигает 30 тыс. человек, а по экспертным оценкам (например, демографа Жанны Зайончковской из НИУ «Высшая школа экономики») составляет до 400 тыс. человек, многие бизнесмены и чиновники оперируют представлениями о «прозрачной границе» и «миллионах тайных мигрантов» за Уралом. Примечательно, что некоторые представители российской элиты в частных разговорах проецируют ситуацию в Крыму и на востоке Украины на российский Дальний Восток – якобы при расширении сотрудничества с КНР в регион неизбежно хлынет поток китайцев, которые потом объявят «народную республику» и постараются отделиться от России. Именно поэтому российские чиновники и бизнесмены столь нервозно воспринимают любые предложения китайской стороны об использовании ее рабочей силы при реализации совместных проектов.
Второй риск – отсутствие альтернатив в ходе поиска азиатских партнеров, вызванное санкциями. Нынешняя внешнеполитическая ситуация вокруг России, в том числе в Восточной Азии, дает Пекину козыри при обсуждении совместных с Москвой экономических проектов. В итоге Россия вынуждена выбирать варианты, максимально привязывающие ее к Китаю и лишающие возможности арбитража за счет сотрудничества с другими партнерами. Если до кризиса на Украине Москва обсуждала многие проекты на Дальнем Востоке не только с китайскими компаниями, но и с представителями Японии и Южной Кореи, то после санкций многие японские и корейские инвесторы отказались от проектов или взяли паузу. Как следствие, российским участникам, которым запуск того или иного проекта нужен для поддержания своего положения, ослабленного санкциями и почти нулевым ростом ВВП России, приходится ориентироваться исключительно на китайский спрос.
То же самое касается и государства. Например, если раньше Министерство по развитию Дальнего Востока, власти субъектов федерации в Дальневосточном федеральном округе старались максимально диверсифицировать круг контактов среди инвесторов из АТР, то теперь основные контрагенты – именно китайцы.
Особенно ощутимо это отражается на инфраструктурных проектах. Раньше Россия, во многом опоздавшая к бурному росту энергетического рынка АТР, стремилась наверстать упущенное за счет проектов строительства экспортной инфраструктуры на своем тихоокеанском побережье с возможностью выхода к широкому кругу клиентов (прежде всего заводы по сжижению природного газа, которые собирались строить в Приморье «Газпром» и «Роснефть»). Теперь же речь идет в основном о трубопроводах в КНР, ведь даже если Япония и Южная Корея будут готовы покупать российский СПГ, то они не смогут обеспечить кредиты на стройку или необходимые технологии из-за вероятной реакции США, а своих денег и технологий у российских компаний нет. Именно поэтому подписанный в мае 2014 г. контракт между «Газпромом» и CNPC о поставках 38 млрд кубометров газа в год в КНР по газопроводу «Сила Сибири» (ресурсной базой станут Ковыктинское и Чаяндинское месторождения) почти наверняка лишил перспектив проект «Владивосток СПГ», об отказе от которого менеджмент российской газовой монополии говорит почти как о решенном вопросе. Привязка же ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока исключительно к Китаю через наземные трубопроводы создает ситуацию, при которой Россия попадает на рынок с монополией покупателя, вольного диктовать условия.
Отсутствие диверсификации тем более опасно, учитывая весьма специфическое отношение компаний КНР к подписанным договорам – отличительные особенности юридической культуры китайцев воспринимаются российской элитой как очередной риск, проистекающий из отсутствия альтернативы.
Классический пример данного риска в российско-китайских отношениях уже продемонстрировали следующие события. В 2011 г. между «Роснефтью», «Транснефтью» и CNPC разгорелся спор о цене поставок российской нефти по отводу Сковородино – Мохэ от трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). Китайская сторона явочным порядком снизила платежи примерно на 10 долларов за баррель нефти, ссылаясь на то, что транспортное плечо от Сковородино до границы с КНР меньше, чем до конечного участка трубы в бухте Козьмино – недоплата должна была компенсировать китайцам эту разницу. «Роснефть» и «Транснефть» апеллировали к контракту, в котором четко фиксировался единый сетевой тариф на всей протяженности ВСТО, так что забирать разницу за прокачку нефти от Сковородино до Козьмино китайская корпорация была не вправе. Россияне грозили китайцам судом, однако даже в случае выигрыша перед ними маячила крайне мрачная перспектива – в случае разрыва контракта «Роснефть» и «Транснефть» остались бы с построенной на китайский кредит трубой в никуда и долгом в 25 млрд долларов на двоих, который пришлось бы возвращать живыми деньгами. В свою очередь, CNPC теряла существенно меньше, поскольку поставки нефти из России были для нее важны, но не критичны.
В итоге российским компаниям повезло: началась «арабская весна», и на фоне нестабильности на Ближнем Востоке Пекин решил не портить отношения с одной из двух стран (помимо Казахстана), поставлявших нефть в Китай по земле, а не по уязвимым морским маршрутам. И все же россиянам пришлось дать китайцам скидку в 1,5 доллара на баррель, что привело к потерям примерно в 3,5 млрд долларов на весь период действия контракта.
Еще один риск – невозможность получить финансирование в Китае на столь же выгодных условиях, что в Лондоне и Нью-Йорке. На крайнюю жесткость позиций китайских банкиров на переговорах жалуются все бизнесмены, пытающиеся найти финансирование в КНР, особенно когда речь идет о сложных и дорогих проектах с долгим сроком возврата инвестиций. Легче ситуация у стратегических госкомпаний вроде «Роснефти» и «Газпрома», которые могут рассчитывать на гарантии со стороны государства. Ситуация в финансовой сфере во многом напоминает риски, связанные с безальтернативным положением Китая как покупателя российских ресурсов, поставляемых через наземные маршруты. Теоретически потенциальным российским заемщикам будет легче избавиться от жесткого китайского займа (взяв где-то кредит на более выгодных условиях или получив поддержку государства), чем компании – бросить проект, связанный со строительством физической инфраструктуры. Но на практике из-за санкций и осторожности банкиров и инвесторов из других азиатских стран китайские финансовые институты оказываются в крайне выгодном положении – внутренних источников кредита в России на всех не хватит (банки из-за проблем с ликвидностью кредитуют все менее охотно, ЦБ печатный станок не включает, ресурсы Фонда национального благосостояния ограниченны).
Эта ситуация усугубляется сочетанием факторов, которые значительно усложняют доступ россиян к китайским деньгам. Поворот России к Китаю в свете украинского кризиса совпал с масштабной антикоррупционной кампанией в КНР, затронувшей банковский сектор. Пришедший в 2012 г. к власти генсек Компартии Китая Си Цзиньпин начал бороться со своим оппонентом, бывшим постоянным членом Политбюро ЦК КПК Чжоу Юнканом, курировавшим силовиков и энергетический сектор (в 1990-е гг. он возглавлял CNPC). Для сбора компромата на Чжоу была развернута масштабная проверка всех энергетических компаний с госучастием, а также кредитовавших их банков. В итоге многие топ-менеджеры госбанков были арестованы за выдачу невыгодных для государства кредитов, а новые руководители стараются теперь выдавать займы на максимально жестких условиях, чтобы не быть впоследствии обвиненными в неэффективном управлении госсобственностью. Российские потенциальные заемщики уже столкнулись с последствиями чисток – многие переговоры затормозились, а позиции китайцев ужесточились.
Второй негативный для россиян фактор – консерватизм китайских частных фондов и их нежелание вкладывать в Россию, связанное с традиционно слабым интересом частников к российскому рынку (основной поток инвестиций идет в развитые страны, Юго-Восточную Азию и Африку), а также с репутационными издержками. Китайцы обращают внимание как на низкие уровни России в рейтингах вроде Doing Business, так и на такие негативные прецеденты, как разгром Черкизовского рынка в Москве в 2009 г., в ходе которого китайские компании понесли многомиллиардные потери. Наконец, ограниченны и возможности использования россиянами фондовых площадок КНР. Биржи Шанхая и Шэньчжэня пока закрыты для иностранных эмитентов, их либерализация, впервые обещанная финансовыми властями КНР еще в 2007 г., постоянно откладывается. В Гонконге же у российских компаний неважная репутация из-за IPO «Русала» в 2010 г., когда после размещения котировки компании обвалились (вслед за ценами на алюминий в Лондоне). Учитывая, что размещение лоббировал тогдашний глава исполнительной власти Гонконга Дональд Цан, а значительную часть эмиссии выкупили российские госбанки (ВЭБ и Сбербанк), местные инвесторы теперь воспринимают любые IPO или размещение облигаций связанных с Россией компаний как политические акции, а потому относятся к ним настороженно.
Возможность формирования технологической зависимости от Китая тоже воспринимается в России как риск. Прежде всего эти опасения связаны с реализацией инфраструктурных проектов вроде строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва–Казань», меморандум о котором был подписан в октябре 2014 г. в ходе визита Ли Кэцяна в Москву. Документ предусматривает использование китайских технологий в обмен на предоставление финансирования, что может включать в себя, например, китайскую ширину колеи (в КНР она составляет 1435 мм вместо принятой у нас колеи в 1520 мм). Побочный риск – угроза российским производителям оборудования в случае, если китайцы будут жестко настаивать на использовании своих технологий в совместных проектах на российской территории (например, строительство электростанций), а также получат возможность возводить свои заводы в центральной России (особенно велики риски для автопрома). Специфические риски безопасности может нести и замена существующей телекоммуникационной инфраструктуры, где пока доминирует американская Cisco, на продукцию китайских компаний Huawei или ZTE. Чиновники и представители спецслужб полагают, что «закладки» американских спецслужб просто поменяются на «жучки» китайских, а отечественный технологический уровень не позволит их идентифицировать. Отдельный риск технологического сотрудничества – копирование российских технологий с последующим выходом китайцев на рынки третьих стран, где у них будет преимущество перед россиянами за счет демпинга и мер господдержки (договоры вроде подписанного в 1996 г. соглашения об охране интеллектуальной собственности пока не помогли решить эту проблему).
Враг внутри
Помимо рисков сотрудничества с КНР, связанных с внешнеполитической обстановкой вокруг России или особенностями самого Китая, российский бизнес идентифицирует проблемы взаимодействия, причины которых внутри страны. Главной считается недостаток экспертизы по Китаю как на уровне государства, так и на уровне бизнеса, а также неправительственного сектора. У этой проблемы несколько составляющих.
Во-первых, дефицит экспертизы на уровне самих компаний. В силу незначительного объема контактов до недавнего времени как государственные, так и частные корпорации ограничивались наймом переводчиков с китайского. Многие бизнесмены отдавали и эти компетенции на аутсорсинг. В результате внутри компаний не появилась критическая масса экспертов, в тонкостях владеющих особенностями работы на китайском рынке, обладающих широкими связями, глубоко понимающих систему принятия решений в КНР или правовую казуистику. Те компании, которые заняты воспитанием кадров для работы с Китаем, делают это недавно – в них не появилось топ-менеджеров со знанием китайского языка и китайской специфики. Руководство компаний не способно правильно оценить перспективы развития того или иного сектора, упуская возможности (так произошло с «Газпромом», который не воспользовался в 2000-е гг. шансом выйти на китайский газовый рынок на выгодных условиях). Кадровый дефицит непросто заполнить из-за особенностей российского китаеведческого образования: в нем традиционно уделяется большое внимание языку и освоению традиции и крайне плохо преподаются прикладные дисциплины. Как следствие, компании рискуют набирать с рынка либо экономистов с очень низким уровнем знания китайского языка, либо китаистов со слабыми компетенциями в области экономики (не говоря уже об узких отраслях) – и тех и других приходится растить внутри. Учитывая растущее значение Китая для российского бизнеса, это может стать источником проблем на переговорах, поскольку китайские компании, напротив, имеют обширные штаты специалистов по России.
Во-вторых, это неразвитость рынка внешней экспертизы по Китаю. Если глобальные компании способны привлечь для консультаций большое количество высококлассных консалтинговых структур, а также использовать компетенции западных университетов и аналитических центров для учета политических или макроэкономических рисков, то российские компании в значительной степени лишены такой возможности. В условиях кризиса финансирования после развала СССР компетенции академических и университетских специалистов, связанные с пониманием современного Китая, особенно применительно к потребностям бизнеса, были во многом утрачены. Из-за низкой приоритетности китайского направления в предыдущие годы государство и бизнес не вкладывались в развитие рынка внешней экспертизы. В неудовлетворительном состоянии и организации, призванные стать провайдерами услуг для компаний, вроде Российско-китайского делового совета (под эгидой ТПП) или существовавшего под крышей РСПП Российско-китайского центра торгово-экономического сотрудничества. Ни одна из этих структур, по признанию бизнесменов, не готова эффективно осуществлять полное и результативное сопровождение крупного проекта в КНР.
В-третьих, недостаточный уровень знаний о Китае и опыта работы с ним в госаппарате. Единственное ведомство, обладающее широким штатом китаистов – это МИД, но его сотрудники мало приспособлены к взаимодействию с бизнесом и продвижению его интересов. Китаисты в штате Минэкономразвития (ему подчинено и торгпредство) малочисленны и загружены формальной бюрократической работой. Всплеск интереса к Китаю со стороны российских корпораций практически парализовал эти структуры – бизнесмены жалуются на отсутствие помощи от дипломатов, а те в ответ сетуют на большое количество непрофильных запросов от бизнеса. На уровне же министров экономического блока и вице-премьеров, курирующих отношения с КНР, практическая экспертиза отсутствует полностью.
Дополнительная проблема – крайне сложная бюрократическая конструкция взаимодействия с Китаем, сложившаяся в российском правительстве. В отличие от работы с другими странами, где существует одна межправительственная комиссия, в российско-китайских отношениях таких форматов четыре – и все курируются вице-премьерами. Меньше всего бизнес заботит диалог по социальным и гуманитарным вопросам, который с российской стороны возглавляет вице-премьер Ольга Голодец, а с китайской – зампред Госсовета Лю Яньдун. В то же время компетенции трех других форматов пересекаются. Прежде всего существует межправкомиссия во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным (его визави – вице-премьер Ван Ян). Ведется стратегический диалог в сфере ТЭК, начатый в 2009 г. вице-премьером Игорем Сечиным (ныне – президент «Роснефти») для концентрации полномочий по энергетическим переговорам с Китаем. В 2012 г. этот формат перешел по наследству к новому куратору ТЭКа в правительстве – вице-премьеру Аркадию Дворковичу (его визави – первый вице-премьер Госсовета Чжан Гаоли). Наконец, в сентябре 2014 г. по просьбе Владимира Путина создана российско-китайская межправкомиссия по приоритетным инвестиционным проектам, которую от КНР возглавил Чжан Гаоли, а от России – первый вице-премьер Игорь Шувалов. Полномочия комиссий, как и компетенции вице-премьеров, пересекаются, а координация по китайскому направлению не налажена. Это создает проблемы для компаний, которые вынуждены согласовывать свои действия с аппаратами сразу двоих, а то и троих вице-премьеров. Вдобавок влияние на ряд проектов имеет и курирующий Дальний Восток вице-премьер Юрий Трутнев.
К победе гармонизма
Хеджирование многих из описанных рисков не под силу российскому бизнесу и отвечающей за российско-китайские связи части правительства. Прежде всего, потому что российское руководство не намерено отказываться от политики в отношении Украины. А значит, скорого примирения с Западом, которое расширило бы пространство для маневра в сотрудничестве с КНР, ожидать не приходится. Впрочем, даже в заданных жестких рамках немало пространства для того, чтобы повысить эффективность организации работы с Китаем, что позволит снять хотя бы часть проблем, беспокоящих российскую элиту.
Москве стоит выработать долгосрочную стратегию в отношении Китая и других стран Восточной Азии, основанную на фактах и реалистичных прогнозах развития ситуации в регионе, а не на предрассудках и сиюминутных интересах отдельных внутренних игроков. Следует ответить на вопрос, каковы задачи России в регионе и может ли она сейчас претендовать на что-то большее, чем роль сырьевого придатка растущих азиатских экономик. Учитывая, что структура торговли России с Китаем похожа на структуру торговли с Евросоюзом (очень грубо ее можно уложить в формулу «российское сырье в обмен на иностранные машины»), изменить состав товарооборота возможно только в результате модернизации экономики. Пока же, ограничивая китайские инвестиции в освоение сырья, Россия, скорее всего, лишает себя источников экономического роста и бюджетных поступлений, которые можно было бы потратить на развитие – например, вложившись в человеческий капитал (образование и здравоохранение). Следует проанализировать все геополитические риски, исходя из того, что Россия является ядерной державой, а в войне обычными средствами Народно-освободительная армия Китая и так уже имеет по крайней мере паритет с дальневосточной группировкой Вооруженных сил России. В нынешних условиях, вероятно, следует сконцентрироваться на вопросах миграционной политики, привлекая китайскую рабочую силу только на временной основе с условием возвращения в КНР (положительный опыт такого рода накоплен во время строительства объектов к саммиту АТЭС), и организации эффективного контроля границы.
Необходимо изучить потенциал развития китайского рынка и выбрать ниши, которые обеспечат диверсификацию российского экспорта и дадут высокий доход. Самый очевидный путь – воспользоваться ростом среднего класса и городского населения, меняющего рацион и потребляющего все больше калорий. Плодородные земли в Приморье открывают и возможности экспорта продовольствия.
Наконец, России следует обязательно диверсифицировать контакты в регионе, работая с Японией и Южной Кореей, играя на страхах российско-китайского сближения (в том числе в США), не упуская из внимания перспективы развития Юго-Восточной Азии с ее 500 млн населения и ростом потребления ресурсов.
В целях решения всех трех задач необходимо в короткие сроки нарастить экспертизу по Восточной Азии. От государства и бизнеса потребуются сравнительно небольшие инвестиции в обучение чиновников работе с Китаем и другими азиатскими странами, развитие рынка независимой экспертизы и повышение качества востоковедческого образования (в том числе за счет расширения международного сотрудничества университетов и большей интеграции бизнеса в процесс подготовки кадров). Развитие экспертных компетенций потребует времени и не улучшит в одночасье переговорные позиции России в торге с Китаем (тем более в условиях санкций). Но в будущем позволит Москве проводить более дальновидную политику в регионе, который сохранит свое стратегическое значение для будущего страны даже после примирения с Западом.

Политические лидеры как индикаторы экономического роста
Почему рынкам нужна политика, чтобы прогнозировать экономику
Ручир Шарма – возглавляет отдел быстроразвивающихся рынков и мировой макроэкономики в департаменте управления инвестициями Morgan Stanley и является автором книги "Страны, совершающие рывок: в погоне за следующими экономическими чудесами".
Резюме Инвесторы придирчивы. Они могут жестко наказывать успокоившиеся режимы и щедро вознаграждать новых руководителей, готовых решительно идти по пути перемен
Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 5, 2014 год.
Нормальный ритм политики раз за разом ведет экономику большинства стран по кругу. Цикл начинается с кризиса, вынуждающего лидеров пойти на реформы, которые стимулируют восстановление экономики. Затем лидеры успокаиваются, а экономика вновь скатывается в кризис. Схема повторяется постоянно, и лишь немногие страны решаются на преобразования в хорошие времена, а другие годами почивают на лаврах. Легко понять, почему из почти 200 экономик мира только 35 достигли статуса развитых и сохраняют его, остальные все еще остаются развивающимися, многие навсегда.
Однако с 2003 г. цикл как будто нарушился. Мировая экономика вступила в уникальный период процветания, обусловленный снижением учетных ставок, ростом торговли и повышением цен на сырьевые товары. Глобальные попутные ветры были настолько сильны, что национальным лидерам не приходилось браться за реформы, чтобы стимулировать экономический рост; плоды буквально падали с деревьев им в руки. На пике этого бума в 2007 г. почти 60% мировых экономик вышли на годовой уровень роста по меньшей мере 5 процентов. Рекордное число стран значительно превысило 35% – средний показатель периода после Второй мировой войны. Еще удивительнее, что в 2007 г. только пять экономик демонстрировали спад. Казалось, все процветали, и мировые инвесторы без разбору вкладывали сотни миллиардов долларов в развивающиеся фондовые рынки, не заботясь о различиях между, скажем, Индией и Индонезией.
В 2008 г. разразился финансовый кризис, и попутные ветры стихли. К 2014 г. доля мировых экономик, растущих темпами 5% или выше, упала с 60 до 30 процентов. Угроза кризиса и рецессии нависла мрачной тучей, заставив инвесторов стать очень разборчивыми – совершенно по-новому. Рыночные игроки обычно принимают во внимание данные об экономических перспективах – показатели роста ВВП, занятости, торговли и т.д. – и реагируют именно на них. Но в последнее время инвесторы устремили взгляд в другую сторону – на политическое руководство. Фондовые рынки от Японии до Мексики переживают бум в надежде на политические изменения, особенно при появлении новых лидеров, которые кажутся способными на экономические реформы.
Политическое руководство становится все более значимым для перспектив экономики, а связанные с ним всплески надежд на фондовых рынках случаются все чаще, особенно в этом году, богатом на выборы. Из 110 развивающихся демократий в 44, включая шесть крупнейших, в 2014 г. уже состоялось или предстоит национальное голосование. Не везде выборы воздействовали на рынки: там, где особых надежд на смену не было, как в ЮАР или Турции, рынки в основном проигнорировали кампании. Но в странах, где набрали популярность многообещающие новички, рынки пристально следили за выборами. В Индонезии так называемый биржевой «бум Джокови» начался в декабре прошлого года, когда опросы стали предсказывать грядущее президентство Джоко «Джокови» Видодо, и сохранился после его победы в июле. Аналогичная картина – «бум Моди» – наблюдается в Индии с момента, как Нарендра Моди стал кандидатом оппозиции на пост премьер-министра в сентябре прошлого года, и продолжается после его победы в мае.
Прежде инвесторы никогда так часто не называли взлеты рыночной конъюнктуры именами людей, как это делают метеорологи с ураганами. Такое случается даже в развитом мире более зрелых экономик, где политики обычно не оказывают существенного влияния на перспективы роста. Когда в феврале реформист Маттео Ренци стал премьер-министром Италии, начались разговоры о «буме Ренци».
В то же время в Латинской Америке инвесторы настолько отчаялись увидеть новые лица в политике, что конъюнктурные взлеты стали происходить уже на фоне плохих новостей для действующих лидеров. Аргентинские рынки начали расти в конце прошлого года после сообщений об ухудшении здоровья президента-популиста Кристины Фернандес де Киршнер. А в Бразилии, где правящую Партию трудящихся винят в стагфляции, фондовый рынок оживляется каждый раз, когда падает рейтинг президента Дилмы Руссеф в преддверии октябрьских выборов. В Сан-Паулу инвесторы называют это поддержкой «кого угодно кроме Дилмы».
Почему политика вдруг стала оказывать такое серьезное влияние на финансовые рынки? Ответ стоит искать в структуре модели экономического роста, который в значительной степени опирается на высокие цены на сырье, низкие учетные ставки и другие глобальные факторы прибыли последнего десятилетия. В хорошие времена многие лидеры пренебрегали необходимостью продолжать реформы и разумно инвестировать доходы. В результате их страны борются за сохранение роста. Например, в трех крупнейших государствах-экспортерах сырья – Бразилии, России и ЮАР – рост ВВП в этом году опустился до 1% или ниже, а инфляция возросла почти до 6 процентов. Это заставило инвесторов внимательно следить за признаками появления новых лидеров с новыми идеями.
Еще одна причина повышения значимости политики для рынков связана с тем, что два условия, необходимые для упорядоченной смены руководства и быстрого оздоровления экономики – свободные выборы и свободные рынки, – в последние десятилетия распространились повсеместно. С тех пор как финансовые кризисы 1970-х гг. ослабили автократические режимы, число государств, где проходят свободные выборы, увеличилось втрое – приблизительно с 40 до 120. Однако только после падения Берлинской стены многие крупные развивающиеся страны сделали следующий необходимый шаг, начав открывать фондовые рынки для иностранного капитала. Но даже после этого они не появлялись на экранах радаров мировых инвесторов еще 10 лет, поскольку развитию экономик помешали валютные кризисы 1990-х годов. Поэтому до недавнего времени рассчитывать на их подъем было просто невозможно.
Лидеры рынков
Конъюнктурные всплески случались на мировых рынках и раньше, но в значительно меньших масштабах. Анализ того, как фондовые рынки отреагировали на 140 национальных избирательных кампаний в 30 крупных демократиях за последние 20 лет, показывает, что инвесторы особенно чутко реагируют в условиях, близких к сегодняшним, когда нацеленные на реформы кандидаты приходят к власти на фоне финансового или политического кризиса и реально начинают действовать. За 20 лет такому описанию соответствовали 16 лидеров. В среднем за первые полтора года их пребывания в должности активность фондовых рынков в этих странах превосходила средний показатель по развивающимся рынкам на рекордные 40 процентных пунктов.
Четыре лидера в этой группе, пришедшие к власти после валютных кризисов конца 1990-х гг., заслуживают особого внимания, поскольку представляют самое важное поколение экономических реформаторов последнего времени в развивающемся мире. Это Ким Дэ Чжун, президент Южной Кореи с 1998 по 2003 гг.; Владимир Путин, российский лидер с 2000 г.; Луис Инасиу Лула да Силва (Лула), президент Бразилии с 2003 по 2011 гг., и Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Турции с 2003 года. Наводя порядок в погрязших в долгах экономиках, они завоевали финансовое доверие к своим когда-то отсталым государствам и заложили основу для бума 2003–2007 гг. – самого мощного и масштабного в истории стран с развивающимся рынком.
Всем четверым удалось с впечатляющей скоростью трансформировать экономику своих стран в двигатель роста. Ким Дэ Чжун использовал финансовый кризис в Азии, чтобы провести ревизию банков страны и обремененных долгами конгломератов, выплатил кредит МВФ менее чем за три года, в результате страна вышла из тяжелой рецессии 1998 г. и демонстрировала рост выше 7% в последующие четыре года его единственного президентского срока. Лула да Силва сумел обуздать расточительство правительства, что помогло взять под контроль инфляцию, в результате экономический рост поднялся с 1,5% до более 3% во время его первого срока и превысил 4% во время второго. Эрдоган осуществил аналогичные фундаментальные изменения. Ему удалось постепенно избавить Турцию от кредитов МВФ, которые страна брала практически ежегодно на протяжении 40 лет. Рост ВВП превысил 7% во время его первого срока, однако во втором замедлился до 3 процентов. Но, вероятно, самые радикальные перемены произошли в России, где Путин унаследовал экономику, которая сокращалась на протяжении пяти из предшествующих шести лет, а крах национальной валюты происходил дважды в предыдущие 10 лет. Путин не только стабилизировал рубль, но и благодаря высоким ценам на нефть вывел страну на показатели роста ВВП на уровне 7% во время двух его первых президентских сроков.
Достижения превратили всех четырех реформаторов в любимцев рынков. Восстановив экономический рост, Ким Дэ Чжун, Лула да Силва, Эрдоган и Путин способствовали подъему на фондовых рынках, который продолжался много лет, но это исключительные случаи. Однако рынки чрезвычайно нетерпеливы и отворачиваются даже от самых сильных лидеров, если те перестают обеспечивать высокие темпы роста, или от самых многообещающих новичков, если те не демонстрируют результатов в первые 12–18 месяцев у власти. Подобная судьба постигла многих президентов и премьеров, среди которых такие когда-то казавшиеся перспективными фигуры, как Фернандо Энрике Кардозо в Бразилии, Джозеф Эстрада на Филиппинах и Дзюнъитиро Коидзуми в Японии. Все они пытались провести реформы, необходимые для восстановления экономического роста, но им это не удалось, и рынки наказали их соответствующим образом.
Волна надежды
Фондовые рынки умеют улавливать признаки появления новых руководителей, способных возродить экономику, но одновременно они научились считывать признаки спада, который обычно следует за периодом роста, когда лидеры становятся слишком успокоенными и довольными собой, чтобы продолжать реформы. В последние 20 лет фондовые рынки стран с развивающейся экономикой, где к власти приходили новые руководители, обычно демонстрировали доходность на 20 процентных пунктов выше среднего показателя для развивающегося мира во время первого срока, затем приближались к среднему уровню во время второго и падали на 6 пунктов ниже среднего уровня во время третьего. Третьи сроки – редкий случай, но они показывают, как рынки могут обойтись со стареющими режимами. Последние примеры – это Эрдоган и Путин, бывшие любимцы рынков, позволившие росту замедлиться после третьего прихода во власть. И в Турции, и в России темпы роста ВВП в последние годы находились на уровне 2% или чуть выше.
Последние ожидания в связи с появлением новых лидеров обусловлены масштабами финансового кризиса 2008 г. и последовавшего за ним длительного глобального спада. Во многих странах, наиболее пострадавших от замедления экономики, тревога по поводу непосредственного воздействия финансового кризиса сочеталась с обеспокоенностью многолетним отставанием. Из-за этих опасений избиратели оказались открытыми для новых решительных политиков, а рынки – готовыми их вознаградить.
Первый из недавней серии всплесков надежд фондового рынка начался на Филиппинах в 2010 г., после того как Бениньо Акино III стал президентом, пообещав очистить страну от коррупции и долгов. Вскоре экономика превратилась из хронически отстающей в одну из самых быстрорастущих в мире. Следующей была Греция – эпицентр кризиса в еврозоне, где фондовый рынок вырос более чем вдвое, после того как Антонис Самарас стал премьер-министром в июне 2012 г. и начал реализовывать обещанные жесткие реформы, включая сокращение зарплат и рабочих мест в госсекторе. Спустя месяц, в июле 2012 г., резкий подъем произошел в Мексике после победы Энрике Пенья Ньето, вступившего в президентскую должность в декабре и пообещавшего оздоровить экономику, которую душат монополии. Также в декабре наблюдался рост на рынке Японии до и после избрания премьер-министром Синдзо Абэ, намеревавшегося провести структурные реформы и меры стимулирования, чтобы разбудить спящую экономику.
Затем произошло, вероятно, самое неожиданное. В 2013 г., несмотря на репутацию Пакистана как убежища террористов, его фондовый рынок вдруг стал одним из лучших по показателям в мире. В значительной степени это было обусловлено ожиданиями, что новый премьер-министр Наваз Шариф сдержит обещания по увеличению налоговой базы, приватизации госкомпаний, ужесточению бюджетной дисциплины, а также займется другими экономическими реформами. Пока, несмотря на продолжающиеся бои с «Талибаном», Шариф держит слово, и инвесторы вознаграждают его.
Новые реформаторы – более разнородная группа, чем их предшественники. В 1980-е гг. большинство лидеров-звезд, таких как Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер, проводили рыночные преобразования. В конце 1990-х гг. и начале этого века главной целью для Ким Дэ Чжуна, Лула да Силвы, Эрдогана и Путина было обеспечение финансовой стабильности. У новых лидеров нет четкой общей темы. В период, когда каждая страна борется за нишу в условиях жесткой глобальной конкуренции, они используют набор мер, направленных на укрепление экономики (сокращение госдолга, сбалансированный госбюджет) и создание конкурентоспособного бизнеса (устранение бюрократических препон, борьба с монополиями). На Филиппинах Акино сосредоточился на том, чтобы отмежеваться от коррумпированных и неэффективных предшественников – от авторитарного Фердинанда Маркоса и его яркой жены Имельды до Эстрады, бывшей звезды фильмов в жанре экшн, оказавшегося куда менее проворным на посту президента. Акино избегает неконкретных разговоров, зато, когда я встречался с ним в Маниле в августе 2012 г., он в деталях рассказывал о проектах водоснабжения города и вылове сардин. Его честность сразу стала сигналом грядущих изменений, и рынки воспринимают главу государства как ориентированного на результат технократа, который и нужен Филиппинам.
Абэ, напротив, обещал Японии серьезную встряску. Он буквально «зажег» рынки в первые 100 дней премьерства своим масштабным планом по стимулированию стагнирующей экономики и повышению потенциала долгосрочного роста путем преодоления бюрократических преград и обеспечения реальной конкуренции в привилегированных отраслях. Пенья Ньето пришел к власти в том же месяце, что и Абэ, но более драматично, разорвав политический договор, который помешал его предшественникам решить основные экономические проблемы Мексики, включая влияние профсоюзов и монополий. Через несколько месяцев Пенья Ньето удалось провести реформы, значительно уменьшившие влияние могущественного профсоюза учителей, а также разобраться с телекоммуникационной монополией Карлоса Слима, самого богатого человека в Мексике.
Абэ начал с простых шагов по обеспечению роста (предоставление дешевых кредитов и девальвация валюты), но пока он не перешел к более сложным реформам в сфере конкурентоспособности (упрощение приема и увольнения сотрудников корпораций, увеличение притока мигрантов). Пенья Ньето продолжает предпринимать жесткие шаги (например, открытие государственного энергетического сектора для иностранных инвесторов), но ему еще не удалось добиться роста в краткосрочной перспективе. Учитывая это, а также скептицизм по поводу долгосрочных планов Абэ и Пенья Ньето, энтузиазм рынков начал падать как по сигналу в мае, когда пошел 18-й месяц их пребывания в должности.
Но ни одного из лидеров пока не стоит сбрасывать со счетов. К середине 2014 г. Абэ, Пенья Ньето и практически все новые реформаторы руководили экономиками, которые выглядели достаточно уверенно по сравнению с основными конкурентами. Несмотря на признаки ослабления, Япония в последние два года является одной из трех наиболее быстрорастущих экономик развитого мира. Мексике еще нужно ускорить темпы, но пока она вместе с Грецией и Пакистаном входит в число немногих развивающихся стран, где в ближайшие три года ожидается увеличение темпов роста. Филиппины с 2012 г. фактически опережают другие экономики мира по темпам роста. После победы Моди оптимистично выглядят и перспективы Индии, по крайней мере на ближайший год.
Пока рано говорить, оправдаются ли эти надежды на уверенный экономический рост в долгосрочной перспективе. Но историческая схема ясна: движение на фондовом рынке действительно имеет тенденцию предвосхищать реальные изменения в экономике. Обычно текущая оценка фондового рынка той или иной страны отражает наилучший суммарный мировой прогноз перспектив ее роста в целом. И эта оценка базируется на общем массиве экономической информации, собранной местными и иностранными инвесторами. В последнее время рынки стали учитывать появление новых лидеров как знамение перемен и часто реагируют на данные опросов или новости о выборах более активно, чем на экономическую статистику. В то же время инвесторы очень придирчивы: они могут жестко наказывать успокоившиеся режимы и щедро вознаграждать новых руководителей, готовых и способных решительно идти по новому пути.

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" вводит специальные smart-тарифы на транзитных рейсах из Днепропетровска, Харькова, Львова и Одессы, предоставляя пассажирам из регионов Украины возможность приобрести билеты за полцены и сделать свои путешествия за границу еще более выгодными. Предложение действует на постоянной основе при покупке билета на территории Украины.
Планируя путешествие заранее и приобретая билеты на собственные рейсы МАУ на сайте авиакомпании www.flyuia.com, а также в собственных и партнерских офисах МАУ не менее чем за 150 дней до вылета, пассажир получает скидку на перелет в размере 50% от тарифа.
Smart-тарифы применяются при покупке билетов на рейсы из регионов Украины через Киев в Амстердам, Афины, Барселону, Берлин, Брюссель, Варшаву, Вену, Вильнюс, Дубай, Женеву, Калининград, Кишинев, Ларнаку, Лондон, Мадрид, Милан, Москву, Мюнхен, Париж, Прагу, Рим, Санкт-Петербург, Стокгольм, Тбилиси, Тель-Авив, Франкфурт, Хельсинки и Цюрих - всего 28 направлений.
"Мы в МАУ стремимся сделать путешествия авиатранспортом максимально доступными для пассажиров, - отметил Андрей Павленко, директор МАУ по продажам в Украине. - Потому постоянно проводим разнообразные акции и распродажи билетов. Новшеством этого года является введение smart-тарифов, позволяющих приобрести билет вдвое дешевле при условии раннего бронирования. На начальном этапе smart-тарифы действовали только по вылету из Киева. Теперь же "умным" предложением от МАУ могут воспользоваться и наши клиенты из регионов Украины, которые, надеемся, в полной мере оценят преимущества smart-тарифов и сделают свои путешествия с МАУ в 2015 году на 50% выгоднее".
Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" объявляет о начале распродажи 2000 билетов на собственные регулярные международные рейсы МАУ в январе-феврале 2015 года.
Условия:
Цена: от 1625* гривен (экономический класс, в одну сторону, все сборы и налоги включены);
Покупка: с 12 по 26 ноября 2014 года** на сайте МАУ www.flyuia.com;
Путешествие: с 11 января по 28 февраля 2015 года.
В рамках распродажи пассажиры могут приобрести билеты на рейсы из Киева в Амстердам, Брюссель, Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Вену, Варшаву, Женеву, Цюрих, Афины, Ларнаку, Лондон, Париж, Рим, Барселону, Прагу, Стокгольм, Хельсинки, Кишинев, Ереван, Стамбул, Тбилиси, Тегеран, Москву, Санкт-Петербург, Калининград, а также прямые рейсы из Одессы в Вену.
*Эквивалент 100 долларов США по курсу межбанка на день приобретения билета.
**Авиакомпания оставляет за собой право закончить распродажу в случае, если акционные билеты будут распроданы ранее указанного срока.
Детальную информацию о распродаже и специальных тарифах можно получить здесь.
Контакт центр авиакомпании "Международные Авиалинии Украины"
Сегодня, 12 ноября, в Йоханнесбург в торгово-экономический центр ЮАР доставлена партия тракторов и мобильных автозаправочных станций (АЗС) иранского производства. Как заявил на состоявшейся в этой связи церемонии посол Ирана в Южной Африке Мохаммед Фараджи, уже в самое ближайшее время иранские трактора начнут работать в южноафриканских центрах по благоустройству и на полях этой страны. Кроме того, ЮАР может стать важным центром по реэкспорту иранской техники в Ботсвану, Замбию и другие африканские страны.
По словам Мохаммеда Фараджи, иранская продукция отличается высоким качеством, и при этом на должном уровне обеспечивается ее послепродажное обслуживание в отличие от тракторов итальянских, американских и английских конкурентов. Именно этим объясняется желание южноафриканской стороны приобретать иранские трактора.
Инженер Никхоу, занимающийся экспортом иранских тракторов в ЮАР, на упомянутой церемонии заявил, что партия доставленной в Йоханнесбург техники включает в себя 40 тракторов разных моделей. Конечная стоимость иранских тракторов, поставляемых на южноафриканский рынок, колеблется в пределах от 20 до 38 тыс. долларов. Их цены примерно на 50% ниже цен на аналоги английского и американского производства, находящиеся в эксплуатации в ЮАР, при более высоком качестве.
Инженер Никхоу указал также на то, что в ЮАР доставлено несколько мобильных АЗС вместимостью от 18 до 30 тыс. литров бензина или дизельного топлива. На южноафриканском рынке они будут продаваться по цене около 53 тыс. долларов, и уже сейчас о своем желании закупать и эксплуатировать такие АЗС заявляют многие горнорудные предприятия, министерство транспорта, военные подразделения и службы, агропромышленные комплексы и хозяйства.
Россия и Италия развивают экономическое и культурное сотрудничество.
С 9 по 11 ноября прошли Дни Милана в Москве, посвященные расширению сотрудничества в области экономики, культуры и туризма между Россией и Италией. 10 ноября 2014 года мероприятие посетил заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов.
На торжественном приеме в посольстве Италии присутствовали мэр города Милана Джулиано Пизапиа, представители Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2015», а также руководители департаментов культуры, туризма и торговли города Милана.
В своем приветственном слове Георгий Каламанов большое внимание уделил вопросам дальнейшего развития сотрудничества России и Италии и имиджу России на международной арене: «ЭКСПО-2015» – это отличная возможность для нашей страны показать последние достижения для обеспечения продовольственной безопасности. Я уверен, что участие России – это не только имиджевый проект, но и возможность дать новый виток развития внешней политики и торговли, в том числе и с Италией».
Всемирная выставка «ЭКСПО-2015» пройдет в Милане с 1 мая по 31 октября 2015 года. Участие примут 144 государства. На выставке будет построено более 50 уникальных национальных павильонов.
Музейный комплекс мирового уровня построят столичные власти на Ходынском поле. Он станет одним из крупнейших в мире - его смогут посещать до двух миллионов человек в год, заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Москва-24».
«Новое здание Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) на Ходынском поле станет ведущей площадкой современного искусства не только Москвы, но и России». - сказал М. Хуснуллин.
По его словам, ГЦСИ и обновленный ландшафтно-архитектурный комплекс появятся в 2018 году на территории бывшего Центрального аэродрома им. М.В. Фрунзе.
Напомним, в День народного единства, 4 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественной церемонии закладки камня нового здания музейно-выставочного комплекса Государственного центра современного искусства.
Общая площадь ГЦСИ составит 46 тыс. кв. метров. Около 10 тыс. «квадратов» в новом здании запланировано для размещения постоянной экспозиции, 5 тыс. «квадратов» - для временных выставок.
В 2016 году рядом со строящимся центром современного искусства будет обустроен парк «Ходынское поле» площадью 40 га. Летом 2014 года был назван победитель открытого международного конкурса на архитектурную концепцию парка - им стало итальянское бюро LAND Milano Srl. Победителем открытого конкурса на разработку концепции здания ГЦСИ стало ирландское бюро Heneghan Peng Architects.
«Государственный центр современного искусства и развитие всей территории Ходынского поля - образец применения международной практики проведения открытых конкурсов на разработку архитектурной концепции. ГЦСИ и парк «Ходынское поле» изменят имидж всего района и станут основой для формирования новой городской идентичности - «творческого кластера» Москвы. По сути, они образуют самый высокотехнологичный и современный парковый квартал Москвы, все объекты которого - музыкальный фонтан, светящийся луг, входы в метро в виде осколков льда - будут уникальны», - подчеркнул М. Хуснуллин.
Россияне ищут в Италии недорогую недвижимость
В Венеции, Сардинии и на побережье Тосканы, где стоимость жилья традиционно высока, россияне не входят даже в пятерку наиболее активных покупателей.
Политическая напряженность, падение курса рубля, а также возможное повышение налогов на недвижимость в самой России уже сегодня заставляют российских покупателей подыскивать в Италии более дешевое жилье, пишет Opp-connect.com со ссылкой на Knight Frank.
Наших соотечественников стало гораздо меньше в элитном сегменте рынка – от €5 млн. А вот интерес к более дешевой недвижимости, особенно в регионе Лигурия, заметно вырос.
Зато ослабление евро привело к повышению интереса к итальянской недвижимости со стороны британских и американских покупателей, а также представителей Китая и других азиатских стран. Спрос со стороны последних растет одинаково активно, как на коммерческую, так и на жилую недвижимость.
Число итальянских пар, желающих вступить в брак, неизменно уменьшается с каждым годом, и в 2013 году впервые в истории не удалось преодолеть барьер в 200 тысяч, говорится в опубликованном в среду докладе национального института статистики Италии (Istat).
Согласно официальным данным, в 2013 году на Апеннинах было зарегистрировано 194 тысячи брачных союзов, что на 13 тысяч меньше, чем годом ранее. Всего же за последние пять лет число свадеб сократилось примерно на 53 тысячи.
Сокращается также и число браков, заключенных между итальянцами и иностранцами. Istat отмечает, что в 2013 году на Апеннинах таких смешанных свадеб состоялось чуть более 26 тысяч, что на 4,6 тысячи меньше числа аналогичных союзов, зарегистрированных годом ранее. При этом в таких браках чаще всего иностранкой оказывается невеста — только 3,9 тысячи итальянок в прошлом году выбрали себе в мужья иностранцев.
Как следует из опубликованных данных, наибольшей популярностью у итальянцев, женящихся на иностранках, пользуются румынки (19,2% от всех заключенных браков), украинки (11%) и бразильянки (6,2%). Россиянки занимают четвертое место, лишь ненамного отставая от бразильянок (6,1%), а замыкают пятерку лидеров девушки из Польши.
По данным института статистики, итальянцы стали реже жениться, в частности, из-за того, что слишком долго живут вместе с семьей родителей. С середины 70-х годов прошлого века на Апеннинах наблюдается снижение рождаемости. Наталия Шмакова.

Беспокойное партнерство
Риски сотрудничества с КНР глазами российского бизнеса
Александр Габуев - руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги.
Резюме В условиях западных санкций российские компании ищут новые возможности в Восточной Азии, прежде всего в Китае. Однако крупный бизнес и топ-менеджеры госкомпаний видят в возросшей зависимости от КНР и немало потенциальных рисков
В условиях западных санкций крупнейшие российские компании ищут новые возможности в Восточной Азии. Основные надежды связаны с Китаем – второй экономикой мира и самым близким политическим партнером Москвы. Несмотря на это, частный бизнес и топ-менеджеры госкомпаний видят в возросшей зависимости от КНР немало потенциальных проблем и рисков. Их минимизация потребует совместных усилий предпринимательского сообщества и государства.
Санкции на дружбу
«Есть очевидный тренд к сближению позиций с азиатскими партнерами, обусловленный и экономическими, и политическими причинами. Китай заинтересован в российском рынке. Китайские компании готовы инвестировать в комплексное освоение российских месторождений, в энергетику, инфраструктуру, автопром и авиастроение. Есть обратный интерес у российского бизнеса, и не только сырьевых компаний… Я думаю, западные санкции могут серьезно ускорить наше сотрудничество», – сообщил миллиардер Геннадий Тимченко газете «Коммерсантъ» в интервью, опубликованном 15 сентября 2014 года. Заявления бизнесмена, обладающего, если верить Forbes, шестым состоянием в России (его активы оцениваются в 15,3 млрд долларов), отражают настрой, который российская политическая и деловая элита транслирует внутри страны и во внешний мир после введения западных санкций. Начиная с апреля 2014 г., чиновники и бизнесмены не устают повторять, что развитие партнерства со странами Азии, и прежде всего с могучим Китаем, станет ответом на политику ЕС и США. Периодически руководители государства корректируют этот сигнал, утверждая, что разворот России на Восток начался задолго до украинского кризиса, однако демонстративный характер российско-китайской дружбы бросается в глаза.
Геннадий Тимченко – наиболее показательная фигура в этом процессе. 20 марта 2014 г. он попал во второй «черный список», подписанный президентом США Бараком Обамой в ответ на действия России на Украине. Уже 29 апреля Тимченко стал сопредседателем в Российско-китайском деловом совете, сменив на этой должности руководившего советом десять лет Бориса Титова. В ходе майского визита в Шанхай Владимир Путин на встрече с российскими олигархами сказал, что Тимченко теперь в его глазах – «главный по Китаю». А 4 августа в интервью агентству ТАСС бизнесмен демонстрировал, что избавился от международных карточек Visa и MasterCard и перешел на китайскую систему UnionPay: «Как санкции ввели, сразу ее оформил. Отлично работает! И принимают карту во многих местах. В некотором смысле надежнее, чем Visa. По крайней мере, американцы не дотянутся».
Будучи теперь официально главным специалистом по Китаю среди крупных бизнесменов, Геннадий Тимченко может позволить себе публично рассуждать и о рисках партнерства. «Риск проиграть более сильному конкуренту всегда есть, но мне кажется, не он должен доминировать в вопросе наших отношений. Надо учитывать перспективы, которые открывает сотрудничество с азиатскими партнерами, с точки зрения привлечения капитала и технологий. В китайском языке, как известно, понятия “риск” и “возможность” можно передать одним иероглифом. Если мы объединим наши возможности, бизнес выиграет гораздо больше, чем потеряет», – заявил он «Коммерсанту». Впрочем, столь оптимистичный взгляд разделяют далеко не все российские бизнесмены и высокопоставленные чиновники.
Китайский поворот
В последние годы тема рисков постоянно присутствовала в дискуссиях на высшем уровне о расширении торгово-экономического сотрудничества с Китаем. Во многом это объясняется наследием 1990-х гг., когда торговля с КНР не была для российского государства и нарождавшихся олигархов приоритетом. Если в 1992 г. Китай по инерции был третьим торговым партнером России (сказывался задел, созданный в результате нормализации советско-китайских отношений в конце 1980-х гг.), то уже в 1993 г. он откатился на десятое место. За десятилетие после развала СССР главными чертами экономических отношений стали контракты в сфере ВПК (во многом именно китайские заказы поддержали находившуюся в кризисе оборонную промышленность России), хаотичная приграничная торговля и попытки китайцев приобрести сырьевые активы в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом к началу 2000-х гг. КНР была лишь шестым торговым партнером РФ, товарооборот немногим превышал 40 млрд долларов в год.
После прихода Владимира Путина отношения с Китаем упорядочили. На политическом уровне достигнуты немалые успехи: в 2001 г. стороны подписали договор о дружбе, в 2004-м – дополнение к соглашению о российско-китайской границе, которое официально закрыло территориальный вопрос (РФ уступила КНР 337 кв. км спорных земель), началось оформление «мягкого альянса» во внешней политике, прежде всего – за счет совместных действий на площадке Шанхайской организации сотрудничества и голосований в СБ ООН.
Однако в экономике на сотрудничество с КНР были наложены неформальные ограничения: присутствие китайского бизнеса на Дальнем Востоке и в Сибири сокращено, заморожены планы совместных инфраструктурных проектов в Приморье, постепенно снизились объемы военно-технического сотрудничества, китайские компании не допускали к сырьевым активам и подрядным работам на мегастройках вроде саммита АТЭС во Владивостоке. В то время Москва была всерьез озабочена намерениями Пекина в отношении российского Зауралья. (Основным аргументом в пользу экспансионистских устремлений, якобы существующих у китайцев, был дисбаланс демографических потенциалов северо-востока КНР и российского Дальнего Востока.) Кроме того, Россия не желала превратиться в сырьевой придаток быстрорастущего соседа, Кремль хотел видеть страну донором технологий для большинства азиатских партнеров, включая и КНР. Наконец, Москву беспокоила проблема несанкционированного копирования российской техники, особенно вооружений. В результате, несмотря на 4,2 тыс. км общей границы и взаимодополняемую структуру экономик, объем торговли РФ и КНР никак не мог пробить планку в 60 млрд долларов. Сделки вроде контракта 2004 г. «Роснефти» с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) о поставке 48 млн тонн нефти (6 млрд долларов предоплаты от китайцев российская госкомпания использовала для покупки активов ЮКОСа) были исключением.
Изменения начали происходить в 2009 г. – в разгар мирового кризиса. Столкнувшись с дефицитом ликвидности на западных площадках, российские компании устремились за деньгами в Китай. Самой крупной стала нефтяная сделка: «Роснефть» и «Транснефть» на 20 лет заняли $25 млрд у Банка развития Китая на строительство нефтепровода в КНР – под залог поставок 15 млн тонн нефти в год. По итогам 2009 г. Китай стал первым торговым партнером России, обогнав Германию, и с тех пор удерживает эту позицию (89,2 млрд долларов в 2013 году). Несмотря на это, многие неформальные ограничения на инвестирование сохранялись. До недавнего времени китайцам не удавалось получить доли ни в одном крупном газовом месторождении, бюрократические барьеры возводились на пути создания совместных предприятий в машиностроении и автопроме (Москва опасалась, что китайские предприятия быстро захватят внутренний рынок за счет демпинга). Ограничивалось и присутствие финансовых институтов КНР в России. Например, китайские банки в отличие от западных не были допущены к розничному рынку. Даже те структуры, которые формально создавались для наращивания китайских инвестиций в экономику России (вроде совместного фонда China Investment Corporation и Российского фонда прямых инвестиций), ограничивались при вложении денег в «чувствительные» для Москвы отрасли.
Правда, уже в 2013 г. подход начал меняться. Китайской CNPC удалось купить 20% в проекте «Ямал СПГ» (контролирующий акционер – НОВАТЭК, совладельцами которого являются Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко), а «Роснефть» заключила соглашения о привлечении многомиллиардных авансов за будущие поставки нефти от CNPC и Sinopec. Новый подход объяснялся падением темпов роста российской экономики (1,3% по итогам 2013 г.) и опасениями Кремля относительно возможности финансировать долгосрочные расходы вроде майских указов президента, влияющих на лояльность избирателей.
Окончательный перелом произошел весной 2014 г. после введения санкций. По мере того как западные санкции становились комплексными (от «черных списков» США и Евросоюз перешли к запретам занимать деньги для ключевых российских банков и госкомпаний, а также к блокированию технологического сотрудничества в стратегических для России областях вроде ТЭКа), росла и потребность во внешнем противовесе. С учетом того, что Япония также объявила о санкциях (как член G7 и союзник США), а Южная Корея заняла выжидательную позицию, на роль главного спасителя России, естественно, выдвинулся Китай. Майский визит Путина в Шанхай принес около 40 соглашений, еще 38 были подписаны во время октябрьского визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Москву. Как признают высокопоставленные чиновники, с апреля 2014 г. неформальные ограничения на экспансию китайского капитала фактически сняты. Теперь Россия пытается компенсировать влияние западных санкций за счет получения от Китая рынков сбыта, инвестиций, прямых банковских кредитов, доступа к финансовым площадкам, а также критически важным технологиям. При этом и чиновники, и бизнесмены убеждены: углубление партнерства с КНР по всем этим направлениям сопряжено с проблемами уже сейчас и несет для России риски в будущем. Какие же проблемы и риски видит российская элита?
Скрытые угрозы
Главная проблема в сотрудничестве с Китаем, которую идентифицируют многие чиновники и бизнесмены – в коротком и среднем горизонте контакты с КНР не смогут целиком восполнить потери от разрыва с Западом даже при наличии большого желания со стороны Пекина. По общему признанию, Китай не готов обеспечить доступ к внешним источникам заимствований в объеме, достаточном, чтобы полностью заменить западные кредиты и возможность размещать акции в Лондоне и Нью-Йорке. КНР не удастся быстро стать для России источником критически важных технологий. А в случае, если Европейский союз сможет значительно сократить потребление российских углеводородов, китайский рынок не в состоянии заместить выпавшие доходы ни компаниям, ни бюджету. Правда, отказ Европы от российских энергоносителей в среднесрочной перспективе кажется невероятным.
Для значительной части элиты перспектива того, что главным экономическим партнером России станет КНР, связывается с целым набором специфических рисков. Часть из них являются производной от внутреннего устройства Китая, как его понимает (или не понимает) российский правящий класс. Другая часть связана с проблемами организации взаимодействия с Пекином, которая существует внутри России.
Во-первых, отечественной элите не ясны стратегические намерения Поднебесной в отношении России. В частных беседах первый и главный вопрос, который задают друг другу чиновники и бизнесмены: «Кто мы для китайцев? Чего они от нас хотят?». Многие убеждены, что долгосрочная цель Китая – колонизация России, а в основе нынешнего сближения Пекина с Москвой лежит желание в будущем поставить под контроль ресурсы Сибири и Дальнего Востока. В основе подобных представлений – достопамятный пограничный конфликт 1969 г., смутная информация о росте национализма в КНР, логика жесткого контроля над более слабым партнером, присущая многим представителям правящего класса России и проецируемая ими на китайскую элиту.
Пожалуй, один из главных факторов, который по-прежнему заставляет многих в Москве искать скрытую угрозу в желании Китая сближаться – разница демографических потенциалов в приграничных районах РФ и КНР. Если в Дальневосточном федеральном округе, занимающем 36% территории России (около 6,2 млн кв. км), проживают 6,2 млн человек (около 4,3% от всего населения страны), то в трех северо-восточных провинциях Китая (Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин) на территории 804 тыс. кв. км живут почти 110 млн человек. Подобные цифры заставляют вспомнить о концепции «желтой угрозы», популярной в конце XIX века. К тому же взгляды многих представителей элиты на Китай сформированы, как ни странно, западными авторами вроде Збигнева Бжезинского, открыто говорящего о риске колонизации китайцами зауральской России.
Страху добавляет и слабое владение статистикой о китайских мигрантах на российской территории. Хотя по данным официальной переписи 2010 г. количество китайцев не достигает 30 тыс. человек, а по экспертным оценкам (например, демографа Жанны Зайончковской из НИУ «Высшая школа экономики») составляет до 400 тыс. человек, многие бизнесмены и чиновники оперируют представлениями о «прозрачной границе» и «миллионах тайных мигрантов» за Уралом. Примечательно, что некоторые представители российской элиты в частных разговорах проецируют ситуацию в Крыму и на востоке Украины на российский Дальний Восток – якобы при расширении сотрудничества с КНР в регион неизбежно хлынет поток китайцев, которые потом объявят «народную республику» и постараются отделиться от России. Именно поэтому российские чиновники и бизнесмены столь нервозно воспринимают любые предложения китайской стороны об использовании ее рабочей силы при реализации совместных проектов.
Второй риск – отсутствие альтернатив в ходе поиска азиатских партнеров, вызванное санкциями. Нынешняя внешнеполитическая ситуация вокруг России, в том числе в Восточной Азии, дает Пекину козыри при обсуждении совместных с Москвой экономических проектов. В итоге Россия вынуждена выбирать варианты, максимально привязывающие ее к Китаю и лишающие возможности арбитража за счет сотрудничества с другими партнерами. Если до кризиса на Украине Москва обсуждала многие проекты на Дальнем Востоке не только с китайскими компаниями, но и с представителями Японии и Южной Кореи, то после санкций многие японские и корейские инвесторы отказались от проектов или взяли паузу. Как следствие, российским участникам, которым запуск того или иного проекта нужен для поддержания своего положения, ослабленного санкциями и почти нулевым ростом ВВП России, приходится ориентироваться исключительно на китайский спрос.
То же самое касается и государства. Например, если раньше Министерство по развитию Дальнего Востока, власти субъектов федерации в Дальневосточном федеральном округе старались максимально диверсифицировать круг контактов среди инвесторов из АТР, то теперь основные контрагенты – именно китайцы.
Особенно ощутимо это отражается на инфраструктурных проектах. Раньше Россия, во многом опоздавшая к бурному росту энергетического рынка АТР, стремилась наверстать упущенное за счет проектов строительства экспортной инфраструктуры на своем тихоокеанском побережье с возможностью выхода к широкому кругу клиентов (прежде всего заводы по сжижению природного газа, которые собирались строить в Приморье «Газпром» и «Роснефть»). Теперь же речь идет в основном о трубопроводах в КНР, ведь даже если Япония и Южная Корея будут готовы покупать российский СПГ, то они не смогут обеспечить кредиты на стройку или необходимые технологии из-за вероятной реакции США, а своих денег и технологий у российских компаний нет. Именно поэтому подписанный в мае 2014 г. контракт между «Газпромом» и CNPC о поставках 38 млрд кубометров газа в год в КНР по газопроводу «Сила Сибири» (ресурсной базой станут Ковыктинское и Чаяндинское месторождения) почти наверняка лишил перспектив проект «Владивосток СПГ», об отказе от которого менеджмент российской газовой монополии говорит почти как о решенном вопросе. Привязка же ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока исключительно к Китаю через наземные трубопроводы создает ситуацию, при которой Россия попадает на рынок с монополией покупателя, вольного диктовать условия.
Отсутствие диверсификации тем более опасно, учитывая весьма специфическое отношение компаний КНР к подписанным договорам – отличительные особенности юридической культуры китайцев воспринимаются российской элитой как очередной риск, проистекающий из отсутствия альтернативы.
Классический пример данного риска в российско-китайских отношениях уже продемонстрировали следующие события. В 2011 г. между «Роснефтью», «Транснефтью» и CNPC разгорелся спор о цене поставок российской нефти по отводу Сковородино – Мохэ от трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). Китайская сторона явочным порядком снизила платежи примерно на 10 долларов за баррель нефти, ссылаясь на то, что транспортное плечо от Сковородино до границы с КНР меньше, чем до конечного участка трубы в бухте Козьмино – недоплата должна была компенсировать китайцам эту разницу. «Роснефть» и «Транснефть» апеллировали к контракту, в котором четко фиксировался единый сетевой тариф на всей протяженности ВСТО, так что забирать разницу за прокачку нефти от Сковородино до Козьмино китайская корпорация была не вправе. Россияне грозили китайцам судом, однако даже в случае выигрыша перед ними маячила крайне мрачная перспектива – в случае разрыва контракта «Роснефть» и «Транснефть» остались бы с построенной на китайский кредит трубой в никуда и долгом в 25 млрд долларов на двоих, который пришлось бы возвращать живыми деньгами. В свою очередь, CNPC теряла существенно меньше, поскольку поставки нефти из России были для нее важны, но не критичны.
В итоге российским компаниям повезло: началась «арабская весна», и на фоне нестабильности на Ближнем Востоке Пекин решил не портить отношения с одной из двух стран (помимо Казахстана), поставлявших нефть в Китай по земле, а не по уязвимым морским маршрутам. И все же россиянам пришлось дать китайцам скидку в 1,5 доллара на баррель, что привело к потерям примерно в 3,5 млрд долларов на весь период действия контракта.
Еще один риск – невозможность получить финансирование в Китае на столь же выгодных условиях, что в Лондоне и Нью-Йорке. На крайнюю жесткость позиций китайских банкиров на переговорах жалуются все бизнесмены, пытающиеся найти финансирование в КНР, особенно когда речь идет о сложных и дорогих проектах с долгим сроком возврата инвестиций. Легче ситуация у стратегических госкомпаний вроде «Роснефти» и «Газпрома», которые могут рассчитывать на гарантии со стороны государства. Ситуация в финансовой сфере во многом напоминает риски, связанные с безальтернативным положением Китая как покупателя российских ресурсов, поставляемых через наземные маршруты. Теоретически потенциальным российским заемщикам будет легче избавиться от жесткого китайского займа (взяв где-то кредит на более выгодных условиях или получив поддержку государства), чем компании – бросить проект, связанный со строительством физической инфраструктуры. Но на практике из-за санкций и осторожности банкиров и инвесторов из других азиатских стран китайские финансовые институты оказываются в крайне выгодном положении – внутренних источников кредита в России на всех не хватит (банки из-за проблем с ликвидностью кредитуют все менее охотно, ЦБ печатный станок не включает, ресурсы Фонда национального благосостояния ограниченны).
Эта ситуация усугубляется сочетанием факторов, которые значительно усложняют доступ россиян к китайским деньгам. Поворот России к Китаю в свете украинского кризиса совпал с масштабной антикоррупционной кампанией в КНР, затронувшей банковский сектор. Пришедший в 2012 г. к власти генсек Компартии Китая Си Цзиньпин начал бороться со своим оппонентом, бывшим постоянным членом Политбюро ЦК КПК Чжоу Юнканом, курировавшим силовиков и энергетический сектор (в 1990-е гг. он возглавлял CNPC). Для сбора компромата на Чжоу была развернута масштабная проверка всех энергетических компаний с госучастием, а также кредитовавших их банков. В итоге многие топ-менеджеры госбанков были арестованы за выдачу невыгодных для государства кредитов, а новые руководители стараются теперь выдавать займы на максимально жестких условиях, чтобы не быть впоследствии обвиненными в неэффективном управлении госсобственностью. Российские потенциальные заемщики уже столкнулись с последствиями чисток – многие переговоры затормозились, а позиции китайцев ужесточились.
Второй негативный для россиян фактор – консерватизм китайских частных фондов и их нежелание вкладывать в Россию, связанное с традиционно слабым интересом частников к российскому рынку (основной поток инвестиций идет в развитые страны, Юго-Восточную Азию и Африку), а также с репутационными издержками. Китайцы обращают внимание как на низкие уровни России в рейтингах вроде Doing Business, так и на такие негативные прецеденты, как разгром Черкизовского рынка в Москве в 2009 г., в ходе которого китайские компании понесли многомиллиардные потери. Наконец, ограниченны и возможности использования россиянами фондовых площадок КНР. Биржи Шанхая и Шэньчжэня пока закрыты для иностранных эмитентов, их либерализация, впервые обещанная финансовыми властями КНР еще в 2007 г., постоянно откладывается. В Гонконге же у российских компаний неважная репутация из-за IPO «Русала» в 2010 г., когда после размещения котировки компании обвалились (вслед за ценами на алюминий в Лондоне). Учитывая, что размещение лоббировал тогдашний глава исполнительной власти Гонконга Дональд Цан, а значительную часть эмиссии выкупили российские госбанки (ВЭБ и Сбербанк), местные инвесторы теперь воспринимают любые IPO или размещение облигаций связанных с Россией компаний как политические акции, а потому относятся к ним настороженно.
Возможность формирования технологической зависимости от Китая тоже воспринимается в России как риск. Прежде всего эти опасения связаны с реализацией инфраструктурных проектов вроде строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва–Казань», меморандум о котором был подписан в октябре 2014 г. в ходе визита Ли Кэцяна в Москву. Документ предусматривает использование китайских технологий в обмен на предоставление финансирования, что может включать в себя, например, китайскую ширину колеи (в КНР она составляет 1435 мм вместо принятой у нас колеи в 1520 мм). Побочный риск – угроза российским производителям оборудования в случае, если китайцы будут жестко настаивать на использовании своих технологий в совместных проектах на российской территории (например, строительство электростанций), а также получат возможность возводить свои заводы в центральной России (особенно велики риски для автопрома). Специфические риски безопасности может нести и замена существующей телекоммуникационной инфраструктуры, где пока доминирует американская Cisco, на продукцию китайских компаний Huawei или ZTE. Чиновники и представители спецслужб полагают, что «закладки» американских спецслужб просто поменяются на «жучки» китайских, а отечественный технологический уровень не позволит их идентифицировать. Отдельный риск технологического сотрудничества – копирование российских технологий с последующим выходом китайцев на рынки третьих стран, где у них будет преимущество перед россиянами за счет демпинга и мер господдержки (договоры вроде подписанного в 1996 г. соглашения об охране интеллектуальной собственности пока не помогли решить эту проблему).
Враг внутри
Помимо рисков сотрудничества с КНР, связанных с внешнеполитической обстановкой вокруг России или особенностями самого Китая, российский бизнес идентифицирует проблемы взаимодействия, причины которых внутри страны. Главной считается недостаток экспертизы по Китаю как на уровне государства, так и на уровне бизнеса, а также неправительственного сектора. У этой проблемы несколько составляющих.
Во-первых, дефицит экспертизы на уровне самих компаний. В силу незначительного объема контактов до недавнего времени как государственные, так и частные корпорации ограничивались наймом переводчиков с китайского. Многие бизнесмены отдавали и эти компетенции на аутсорсинг. В результате внутри компаний не появилась критическая масса экспертов, в тонкостях владеющих особенностями работы на китайском рынке, обладающих широкими связями, глубоко понимающих систему принятия решений в КНР или правовую казуистику. Те компании, которые заняты воспитанием кадров для работы с Китаем, делают это недавно – в них не появилось топ-менеджеров со знанием китайского языка и китайской специфики. Руководство компаний не способно правильно оценить перспективы развития того или иного сектора, упуская возможности (так произошло с «Газпромом», который не воспользовался в 2000-е гг. шансом выйти на китайский газовый рынок на выгодных условиях). Кадровый дефицит непросто заполнить из-за особенностей российского китаеведческого образования: в нем традиционно уделяется большое внимание языку и освоению традиции и крайне плохо преподаются прикладные дисциплины. Как следствие, компании рискуют набирать с рынка либо экономистов с очень низким уровнем знания китайского языка, либо китаистов со слабыми компетенциями в области экономики (не говоря уже об узких отраслях) – и тех и других приходится растить внутри. Учитывая растущее значение Китая для российского бизнеса, это может стать источником проблем на переговорах, поскольку китайские компании, напротив, имеют обширные штаты специалистов по России.
Во-вторых, это неразвитость рынка внешней экспертизы по Китаю. Если глобальные компании способны привлечь для консультаций большое количество высококлассных консалтинговых структур, а также использовать компетенции западных университетов и аналитических центров для учета политических или макроэкономических рисков, то российские компании в значительной степени лишены такой возможности. В условиях кризиса финансирования после развала СССР компетенции академических и университетских специалистов, связанные с пониманием современного Китая, особенно применительно к потребностям бизнеса, были во многом утрачены. Из-за низкой приоритетности китайского направления в предыдущие годы государство и бизнес не вкладывались в развитие рынка внешней экспертизы. В неудовлетворительном состоянии и организации, призванные стать провайдерами услуг для компаний, вроде Российско-китайского делового совета (под эгидой ТПП) или существовавшего под крышей РСПП Российско-китайского центра торгово-экономического сотрудничества. Ни одна из этих структур, по признанию бизнесменов, не готова эффективно осуществлять полное и результативное сопровождение крупного проекта в КНР.
В-третьих, недостаточный уровень знаний о Китае и опыта работы с ним в госаппарате. Единственное ведомство, обладающее широким штатом китаистов – это МИД, но его сотрудники мало приспособлены к взаимодействию с бизнесом и продвижению его интересов. Китаисты в штате Минэкономразвития (ему подчинено и торгпредство) малочисленны и загружены формальной бюрократической работой. Всплеск интереса к Китаю со стороны российских корпораций практически парализовал эти структуры – бизнесмены жалуются на отсутствие помощи от дипломатов, а те в ответ сетуют на большое количество непрофильных запросов от бизнеса. На уровне же министров экономического блока и вице-премьеров, курирующих отношения с КНР, практическая экспертиза отсутствует полностью.
Дополнительная проблема – крайне сложная бюрократическая конструкция взаимодействия с Китаем, сложившаяся в российском правительстве. В отличие от работы с другими странами, где существует одна межправительственная комиссия, в российско-китайских отношениях таких форматов четыре – и все курируются вице-премьерами. Меньше всего бизнес заботит диалог по социальным и гуманитарным вопросам, который с российской стороны возглавляет вице-премьер Ольга Голодец, а с китайской – зампред Госсовета Лю Яньдун. В то же время компетенции трех других форматов пересекаются. Прежде всего существует межправкомиссия во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным (его визави – вице-премьер Ван Ян). Ведется стратегический диалог в сфере ТЭК, начатый в 2009 г. вице-премьером Игорем Сечиным (ныне – президент «Роснефти») для концентрации полномочий по энергетическим переговорам с Китаем. В 2012 г. этот формат перешел по наследству к новому куратору ТЭКа в правительстве – вице-премьеру Аркадию Дворковичу (его визави – первый вице-премьер Госсовета Чжан Гаоли). Наконец, в сентябре 2014 г. по просьбе Владимира Путина создана российско-китайская межправкомиссия по приоритетным инвестиционным проектам, которую от КНР возглавил Чжан Гаоли, а от России – первый вице-премьер Игорь Шувалов. Полномочия комиссий, как и компетенции вице-премьеров, пересекаются, а координация по китайскому направлению не налажена. Это создает проблемы для компаний, которые вынуждены согласовывать свои действия с аппаратами сразу двоих, а то и троих вице-премьеров. Вдобавок влияние на ряд проектов имеет и курирующий Дальний Восток вице-премьер Юрий Трутнев.
К победе гармонизма
Хеджирование многих из описанных рисков не под силу российскому бизнесу и отвечающей за российско-китайские связи части правительства. Прежде всего, потому что российское руководство не намерено отказываться от политики в отношении Украины. А значит, скорого примирения с Западом, которое расширило бы пространство для маневра в сотрудничестве с КНР, ожидать не приходится. Впрочем, даже в заданных жестких рамках немало пространства для того, чтобы повысить эффективность организации работы с Китаем, что позволит снять хотя бы часть проблем, беспокоящих российскую элиту.
Москве стоит выработать долгосрочную стратегию в отношении Китая и других стран Восточной Азии, основанную на фактах и реалистичных прогнозах развития ситуации в регионе, а не на предрассудках и сиюминутных интересах отдельных внутренних игроков. Следует ответить на вопрос, каковы задачи России в регионе и может ли она сейчас претендовать на что-то большее, чем роль сырьевого придатка растущих азиатских экономик. Учитывая, что структура торговли России с Китаем похожа на структуру торговли с Евросоюзом (очень грубо ее можно уложить в формулу «российское сырье в обмен на иностранные машины»), изменить состав товарооборота возможно только в результате модернизации экономики. Пока же, ограничивая китайские инвестиции в освоение сырья, Россия, скорее всего, лишает себя источников экономического роста и бюджетных поступлений, которые можно было бы потратить на развитие – например, вложившись в человеческий капитал (образование и здравоохранение). Следует проанализировать все геополитические риски, исходя из того, что Россия является ядерной державой, а в войне обычными средствами Народно-освободительная армия Китая и так уже имеет по крайней мере паритет с дальневосточной группировкой Вооруженных сил России. В нынешних условиях, вероятно, следует сконцентрироваться на вопросах миграционной политики, привлекая китайскую рабочую силу только на временной основе с условием возвращения в КНР (положительный опыт такого рода накоплен во время строительства объектов к саммиту АТЭС), и организации эффективного контроля границы.
Необходимо изучить потенциал развития китайского рынка и выбрать ниши, которые обеспечат диверсификацию российского экспорта и дадут высокий доход. Самый очевидный путь – воспользоваться ростом среднего класса и городского населения, меняющего рацион и потребляющего все больше калорий. Плодородные земли в Приморье открывают и возможности экспорта продовольствия.
Наконец, России следует обязательно диверсифицировать контакты в регионе, работая с Японией и Южной Кореей, играя на страхах российско-китайского сближения (в том числе в США), не упуская из внимания перспективы развития Юго-Восточной Азии с ее 500 млн населения и ростом потребления ресурсов.
В целях решения всех трех задач необходимо в короткие сроки нарастить экспертизу по Восточной Азии. От государства и бизнеса потребуются сравнительно небольшие инвестиции в обучение чиновников работе с Китаем и другими азиатскими странами, развитие рынка независимой экспертизы и повышение качества востоковедческого образования (в том числе за счет расширения международного сотрудничества университетов и большей интеграции бизнеса в процесс подготовки кадров). Развитие экспертных компетенций потребует времени и не улучшит в одночасье переговорные позиции России в торге с Китаем (тем более в условиях санкций). Но в будущем позволит Москве проводить более дальновидную политику в регионе, который сохранит свое стратегическое значение для будущего страны даже после примирения с Западом.
Девятая по счету Мангистауская Региональная Выставка «Нефть, Газ и Инфраструктура» (Mangystau Oil, Gas & Infrastructure 2014) пройдет с 11 по 13 ноября 2014 года. В выставке примут участие более 50 компаний из Ирландии, Италии, Казахстана, Китая и России. Среди участников такие компании, как АО «МангистауМунайГаз», «Maersk Oil Kazakhstan», «Тенгизшевроил», «ANEC», «Прикаспийский Центр Сертификации», АО «Озенмунайгаз», АО «Каражанбасмунай», НМСК «Казмортрансфлот», СЭЗ «Морпорт Актау» и другие.
В рамках программы выставки 11 ноября состоится круглый стол на тему: «Нефтепереработка и нефтехимия, инновации в нефтеперерабатывающей отрасли». Дискуссия затронет вопросы по модернизации нефтеперерабатывающих заводов. 12 ноября пройдет семинар-презентация на тему: «Иновационные решения в строительстве промышленных, временных дорог, устройстве дренажей, полигонов токсичных промышленных отходов, шламохранилищ. Опыт применения современных геосинтетических материалов класса ЗФМ в дорожном, промышленном и гражданском строительстве». В этот же день в акимате Мангистауской Области пройдет круглый стол на тему развития малого и среднего бизнеса в городе Жанаозен. В последний день работы выставки, 13 ноября, состоится семинар-презентация Фонда Развития Предпринимательства «ДАМУ»: «Результаты реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020».
Помимо обширной деловой программы на выставке представлены современные наработки в областях геологии и геофизики, нефтесервиса, технологии повышения энергоэффективности, реализации экологических проектов и программ.
Организаторы - казахстанская выставочная компания «Iteca» совместно с международной группой компаний ITE, при официальной поддержке Министерства энергетики Республики Казахстан, акимата Мангистауской области и АО «Национальная компания «КазМунайГаз».
Выставка «Mangystau Oil, Gas & Infrastructure 2014» пройдёт в Grand Nur Plaza Hotel & Convention Centre (микрорайон 29А) и будет открыта для посещения 11 и 12 ноября с 10:00 до 18:00 ч., 13 ноября – с 10:00 до 16:00 ч. Вход свободный
Мэр Москвы Сергей Собянин и Мэр Милана Джулиано Пизапиа подписали меморандум о сотрудничестве между правительством Москвы и городской администрацией Милана.
«Связи между Москвой и Миланом каждый год развиваются по возрастающей. Как и Дни Москвы в Милане, проводятся Дни Милана в Москве, наращивается экономическое и торговое взаимодействие между нашими городами. Я рад тому, что мы активно взаимодействуем на уровне наших сотрудников в мэриях Москвы и Милана, обмениваемся опытом. Такой взаимный интерес является залогом дальнейшего сотрудничества. Для того чтобы сделать его еще более системным, сегодня мы подписываем меморандум, направленный на развитие наших отношений в самых различных отраслях», - отметил С. Собянин.
Меморандум направлен на решение вопросов, связанных с экономическим взаимодействием, налаживанием связей между предприятиями и организациями Москвы и Милана.
«Это, безусловно, развитие культурных, туристических связей, развитие и обмен опытом в области образования, здравоохранения, социальной политики. У нас очень много общих проблем в области развития метрополитена, наземного транспорта, пригородного железнодорожного движения. Те проблемы, которые приходится и нам, и вам решать в ежедневном режиме. Проблемы крупных городов одинаковы везде, и от их решения во многом зависит не только экономика самих городов, но и регионов и стран, где они располагаются», - добавил мэр Москвы, уточнив, что подписание меморандума как раз будет способствовать решению этих проблем.
В свою очередь Джулиано Пизапиа поблагодарил Сергея Собянина за проводимую встречу. «Вы абсолютно правы в том, что в нашей деятельности проблемы, которые нам приходится решать, - они во многом сходные, и очень важно, чтобы наши связи, отношения сотрудничества развивались так, как, скажем, в ходе проведения Дней Москвы в Милане», - отметил он.
Мэр Милана подчеркнул, что подписание меморандума - это еще одно свидетельство укрепления связей между городами.
«Я хочу особо это отметить: Вы совершенно правы, когда говорите о том, что проблем во всем городском хозяйстве, в хозяйстве любого крупного города очень много и они во многом сходны. Эта совершенно замечательная практика сотрудничества позволяет нам обмениваться лучшим опытом, который есть у каждой из сторон в решении множества различных проблем. Я очень рад тому, что связи между Москвой и Миланом развиваются, это вселяет в меня надежду и, пожалуй, даже уверенность в том, что мы действительно найдем решения для множества серьезных проблем, которые есть в жизни наших горожан», - заявил Джулиано Пизапиа.
По итогам восьми первых месяцев 2014 г. экспорт клееного бруса из Австрии снизился в годовом исчислении на 7,9%, составив 760 тыс. м3, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении Статистического управления Австрии (Statistics Austria).
Более всего — на 39,2% до 101 тыс. м3 — сократились поставки в Японию. Италия снизила импорт австрийского клееного бруса на 4% до 393 тыс. м3. Между тем, поставки в Германию увеличились на 7% до 105 тыс. м3, в Швейцарию — на 27% до 46,5 тыс. м3.

Взлетные огни аэродромов
Алексей МАЛАШЕНКО
Это, как вы догадались, из «Надежды» в исполнении Анны Герман. Песня осталась, а тех заманчивых огоньков больше нет и не будет. А ведь были времена, когда даже в самых крупных аэропортах подолгу стояли под звездным небом у трапа самолета, чем-то похожего на живое существо. Еще его очеловечивало приглушенное бормотание двигателей. Вы и самолет приноравливались друг к другу, знакомились, вам предстояло проделать вместе неблизкий путь.
Нынешним летом показывают по телевизору «Я шагаю по Москве», и в самом начале — аэропорт, может, «Шереметьево», может, «Внуково». Герой сходит с самолета и куда-то идет. А из стеклянных дверей появляется девушка в белом платьице, пританцовывает, говорит, что кого-то ждет и ей хорошо. Тем временем камера показывает самолеты — сплошные Ту-104. Они стоят в ряд, как истребители. В 1963-м они были символом советского процветания. Их вид поднимал настроение. Памятник этому самолету в 2006 г. поставили на повороте с Киевского шоссе к «Внукову». Скромный, но пронзительный монумент. Самолет подняли на постамент, и стало видно, какой же он маленький. Два десятка окошек, внутри узкий проход, багажные сетки над креслами — и все. Мне, когда я первый раз вошел в этот лайнер в шестьдесят шестом году, он казался гигантским. В 1956-м Лондон был ошеломлен Ту-104, на котором ради посрамления империалистов прилетел в столицу Британии глава СССР Никита Сергеевич Хрущев. Америку Хрущев пытался поразить колоссальным по тем временам Ту-114. Я этот самолет видел только издали, а что там у него внутри, не знаю.
Ил-18-х в фильмах почти не показывали. Хотя они-то тогда и были главными лошадьми «Аэрофлота». Обаятельный, чуть курносый нос, четыре винта, которые вызывали уважение и доверие! Когда выпадала удача сидеть возле иллюминатора с видом на эти винты, я с замиранием сердца наблюдал, как они медленно, невзначай начинают шевелиться, а потом вдруг внезапно раскручиваются, и уже не видно лопастей, а слышится лишь гул. Разве можно сравнить эстетику винта с соплом реактивной, пустой внутри турбины?
На мой возраст пришлись и начало, и конец самых знаменитых советских пассажирских лайнеров. Я лыбился при куплете на мотив похоронного марша «Ту сто четыре самый лучший самолет…» Страшно было узнавать о падении или пожаре именно на Ил-18-м. В 1972 г. в каирском аэропорту я видел, как несчастный «илюха» садился на двух движках. Тяжкое впечатление производили обгоревшие трупы «Илов» в «Домодедово», в «Шереметьево». «Илы» вымирали долго и мучительно. Уже существовал запрет на их использование, но умельцы продолжали латать на них дыры, и самолеты не только поднимались в воздух, но даже садились.
В году, кажется, 2003-м, когда мы приземлялись в Анкаре, я увидел выкрашенный в сине-белое живой, действующий Ил-18 и, честное слово, улыбнулся этому самолету, как приятелю.
Давно ушли с работы стройные, но пожиравшие керосин Ил-62, страна почти избавилась от тесных и душных Ту-154 и Ту-134. Кончаются Ан-24. Порхают только Як-42. Изобрести ему устойчивую замену не получается, завозить импортные — себе дороже. Вот они, спотыкаясь и падая, и продолжают работать на износ. Летим на «Яке» из Иркутска в Братск, заходит в салон командир экипажа: «Ну что, самоубийцы, все собрались?» С этой шуткой-поговоркой и взлетели.
Конечно, тот, кто летает старыми самолетами, да вообще самолетами, не самоубийца. Рискованно ездить даже в лифтах, а уж про машины и говорить нечего. Однако «самолетный страх» существует. Можно его разделить на: а) страх безотчетный, как в темной, пустой квартире; б) боязнь высоты; в) боязнь катастрофы. Я в аварии не попадал, но «внештатные ситуации» случались. В 1976 г. под Веной у Ил-62 не выпускалось шасси, и мы долго колесили по небу, не догадываясь о причине кружения. В 2002-м в киргизском Оше самолет Ан-24 вообще не заводился — сдох аккумулятор, потом что-то отвалилось. Потом, стоя на трапе, пилот обратился к кому-то на улице, но так, что было слышно внутри: «Я его не поведу, я не убийца». Кончилось тем, что Ан-24 заменили на Як-40, который не только завелся, но взлетел и даже умудрился приземлиться по месту назначения — в городе Жалалабаде.
Пожалуй, единственный серьезный эпизод случился в 2010-м при посадке в Ереване. Наш аэробус уже почти коснулся земли, когда моторы вдруг неестественно взревели, и машина чуть ли не свечкой взмыла вверх. Стюардессы исчезли, не услышали мы и ласкового голоса, поучающего, как вести себя в аварийной ситуации. А она была точно аварийной. Реакция людей оказалась (для меня во всяком случае) неожиданной: пассажиры, большинство из которых составляли мужчины старшего возраста, стали молиться. Кто-то целовал внуков. Никто не кричал, не звал стюардесс. Все кончилось так же внезапно, как и началось. Аэробус перестало трясти, он выровнялся, и мы спокойно сели. На все про все ушло минут десять. Выходя, я не удержался и спросил у стюардессы, что это было? Она ответила — ничего.
Ее ответ по-армянски шедшей за мной пассажирке был более пространным.
— Что она вам сказала? — не удержался я.
— Она сказала, что сегодня у меня второй день рождения…
Был и еще один инцидент, который я упоминаю только как предупреждение особо боязливым. Летим «Эр-Франс», садимся в «Шереметьево», самолет хлопается о землю так, что мне на голову вываливается кислородная маска. Не больно, но чувствительно. Сосед-француз сказал, что за стресс я могу подать в суд на компанию и слупить с нее энную сумму в евро. Я пожалел «Эр-Франс», но всех на всякий случай предупреждаю: если вас стукнет по голове кислородная маска, то это не обязательно разгерметизация. Это… а черт его знает, что это, французская безалаберность, что ли.
Сталкивался я и с отечественной безалаберностью. 1972 год, лечу над Туркменистаном на Ан-24 из города Мары в Ашхабад. Взлетаем, с потолка прямо на меня ползет дым с легким электрическим привкусом — ну, это когда горят провода. Зову стюардессу. Шмыгаю носом и тычу пальцем вверх:
— А… вот… видите?
— Да у нас это каждый раз, — и она юркает за шторку.
Я бы, наверное, и возмутился, но с нами летела коза. Ее затащили по трапу и поставили в проходе в начале салона. Всю дорогу коза блеяла, иногда из нее сыпались шарики. До дыма ли тут?
Одно из чудес полета — вид из иллюминатора. Но не на землю, даже не на облака, причудливость которых уже тысячу раз описана, а всего лишь на самолетное крыло. Оно — на расстоянии вытянутой руки, кажется, что можно дотронуться до всех этих заклепок, винтиков, лючков. Можно даже представить на секунду, как ты сидишь на крыле, свесив ноги. Но сразу спохватываешься: ты здесь, внутри, за непроницаемой обшивкой, а они там, снаружи, летят и летят, обдуваемые ветром при температуре минус 50. Они от тебя в двух шагах, но это самый недоступный кусочек мира. В одном американском детективе некто посмотрел в иллюминатор и увидел, что на крыле сидит дьяволенок. Ей-богу, у меня перехватило дыхание от этих кадров.
Были времена, когда вы провожали и вас приходили провожать. И стоя на балюстраде в том же старом «Шереметьево» или тоже старом пражском «Рузине», вы (вам) могли в последнюю минуту помахать рукой. Существовал интимный обряд аэродромного расставания.
Теперь большие аэропорты стали фабриками по сортировке пассажиро-человеческого продукта. Оно и неизбежно. Сколько народу летало раньше — и сколько летает теперь. В шестидесятые тех, кто никогда не летал, было больше, чем тех, кто поднимался в воздух. Теперь не познавшие прелестей полета выглядят белыми воронами. Самолетное путешествие для широких масс стало рутиной, утратило свое обаяние. Последний удар по романтике нанесло появление в крупнейших аэропортах «рукавов», которые всасывают тебя в самолет и выплевывают из него. Если «рукавов» в аэропорту не хватает или он слишком разбросан по местности, в качестве пытки используется автобус. Раньше автобус просто довозил пассажира до самолета или обратно. Путь был короткий — иногда метров двести, которые можно было преодолеть и пешком. Теперь автобус колесит по одному ему ведомому маршруту с остановками, обозначаемыми непонятными знаками B2, A3-2, C2-3 и так далее. Иногда для того, чтобы добраться от A1 до A2, он объезжает вокруг всего размером с небольшой город аэропорта. Особенно «весело» кататься на автобусе, если предстоит пересадка, а твой самолет и так сел с опозданием на час. Прилетаю в Париж на полтора часа позже расписания, наш «рукав» занят, ждем, когда подадут к трапу автобус. Подали, поехали, причем так, что память подсказывает известную чеховскую ремарку об удивительной способности русских возниц сочетать медленную езду с выматывающей тряской. Однако наш водитель отнюдь не русский, а алжирец. Когда до моего вылета оставалось минут 20, наш автобус наконец притормозил у входа в А2, но дверь оставалась закрытой — подрулить к самому входу мешал другой автобус. Я умолял шофера в порядке исключения выпустить меня, но он раздраженно отвечал, что здесь не положено. И только когда я послал его матом на качественном алжирском диалекте, он, видимо, от изумления нажал на какую-то кнопку, и я выпорхнул наружу. До самолета, хоть и самым последним, я добрался.
Во «Внуково» в бесконечные годы его реконструкции и расширения длительные автобусные променады стали эпидемией. Однажды, возвращаясь из Нальчика, я провел во внуковском автобусе 24 минуты чистого времени. Было такое ощущение, что он нарочно демонстрирует умение «делать змейку», объезжая каждую попадавшуюся на его пути самолетную стоянку. А как тянутся автобусные версты в аэропортах Дохи (столица миниатюрного, но невероятно богатого государства Катар) и Дубая (Объединенные Арабские Эмираты)!
То ли дело электрички, которые не кружат, как партизаны по белорусским лесам, а пересекают взлетные полосы под землей. Они управляются не машинистами, а чем-то электронным, и весело, стоя в первом вагоне, смотреть, как поезд без машиниста лихо причаливает к пустому перрону.
Однако порой можно нарваться и на электричке. По дороге из Нью-Йорка в Майами, в Атланте, я перепутал номера поездов и уехал в противоположную часть аэропорта. Пока бегал и суетился, мой самолет улетел. На миг показалось, что наступил конец света, во всяком случае, лично для меня. У информационной кабинки, путаясь в словах, я принялся объяснять свою драму. Меня переправили к стойке компании Delta, там сообщили, что следующий рейс через час. Я вновь зачем-то попытался рассказать, что произошло, и чуть ли не пообещал купить новый билет. Но на меня уже никто не обращал внимания. Никто не удивился и когда я входил в самолет. Потом доводилось отставать от самолета в Нью-Йорке, в Лондоне, еще где-то, но это уже не казалось столь безнадежным.
Чем вообще запоминаются аэропорты? Да хотя бы едой, или даже тем, как там доводилось есть. В Усть-Каменогорске в 1998-м, когда мы возвращались с какой-то конференции, самолет сильно опаздывал. Его вообще могло не быть по не зависящим от нас причинам. Самое страшное, что в этом пустом усть-каманьском (Усть-Каменогорск местные зовут Усть-Камань) аэропорту было закрыто все, включая рассадники алкоголизма.
Но у меня с собой был копченый конский хвост, который я вез домой на ужин. На хвост коллеги покушались давно, но я берег добычу для семьи — копченый хвост в тот момент был залогом семейного консенсуса. Мы не мусульмане, но конину любим. Кстати, конская колбаска с яичницей — объедение. В общем, хвост я берег. Но появилась водка. В дороге водка именно появляется, прорастает, словно подберезовик в июньской траве. Короче, я предал семью, мы закусывали хвостом, который с коллегой Панариным долго ломали для всей честной компании. Какой это был ужин в скверике усть-каменогорского аэропорта! Кончик хвоста до дома я все-таки довез.
А какой борщ я съел в 1978 г. в ресторане аэропорта Уфы! Не борщ, а изысканнейшее блюдо, с каким не сравнимы даже обожаемые мной корейские, сингапурские, вьетнамские и китайские супы. Наверное, тогда я был очень голоден и уж точно лет на 30 моложе, но уфимско-аэропортовский борщ не забуду никогда.
Отступление: в 1957 г. папа с мамой возили меня, шестилетнего, в крымский город Гурзуф. В те послесталинско-хрущевские времена я болел животом, и родителям пришлось кормить сынулю и самим кормиться в домашней подпольной столовой (частный бизнес в Крыму вовсю процветал). Была комната с выкрашенными в серый цвет стенами, вареная картошка, вареное мясо, которое я с той поры ненавижу, помидоры, под потолком болтались клейкие коричневые ленты, на которых доживали свой век неопытные мухи. Родители страдали от вкусового и эстетического безвкусья еще больше, чем я. Но терпели.
Освобождение пришло внезапно. Как-то вечером на пляже мне захотелось есть. И вдруг отведавший домашнего вина папа вызвался меня накормить. Мама махнула рукой, а отец повел меня в пляжную столовую (ровесники поймут, а прочим объяснять бесполезно, чем там кормили), которая только что закрылась. Открыть ее ради единственного голодного сына мог только папа. Из гигантского — в нем вполне можно было утопить человека — котла мне в очень большую тарелку слили финал дневного борща. Я его с наслаждением проглотил и… после этого никогда больше желудком не страдал.
Простите, увлекся, забыл, что не о борщах пишу, а об аэропортах. Летел я в город Хиросиму в веселой компании, состоявшей из Александра Гинзбурга, замдиректорствовавшего в одном из академических институтов; думского депутата, врача по специальности Сергея Колесникова и нашего посла (1991—1998 гг.) в Париже Юрия Алексеевича Рыжова1 . Пересадка была в Сеуле, в огромном аэропорту (сейчас таких много, а тогда было мало), по потолкам которого струились алюминиевого цвета трубы и который походил и на швейную фабрику, и на аквапарк. Пересадка была долгой. Мы послонялись под этими трубами, нас не вдохновила местная пища, которая к тому же показалась дороговатой. Тоскуя и уже ощущая тревожный аппетит, поднялись по узкой лестнице на второй этаж и оказались в полутемном помещении с низкими столиками. То был бар — совершенно пустой и неуютный.
Усевшись вокруг стола, мы предались воспоминаниям, как каждому из нас во время oно доводилось есть на газетке «два кусочека колбаски», запивая ее захваченной из дома водкой. И тут вдруг выяснилось, что у каждого из нас с собой что-то было — и бутылочка, и хлебца кусочек, и колбаска, и еще что-то. Кто-то достал огурчик. Не было, как водится среди россиян, стаканов. Но их Юрий Алексеевич, пустив в ход свое дипломатическое мастерство, добыл у бармена. Колесников и Саша Гинзбург расстелили газетку, положили на нее скромную снедь, автор этих строк распечатал бутылку. Наверное, участники сеульского пиршества и забыли про это невеликое событие, но тогда, в Сеуле, на газетке, — то было чудо человеческого дружества.
Самое грустное воспоминание от тель-авивского им. Бен-Гуриона. Года три тому назад возвращались мы с женой из Израиля. Черт меня дернул взять билеты на субботу. Быстро выяснилось, что у них в субботу поесть — что в грозненском аэропорту в священный месяц рамадан водки хлебнуть. Короче: хочется горячей пищи, а ее нет. Находим пресловутый «макдональдс». Покупаем кошерный биг-мак и откусываем. То, что после этого я не стал антисемитом, можно объяснить только выпестованным в детские годы советским интернационализмом.
К Бен-Гуриону (аэропорту, не человеку) осталась и еще одна претензия, куда более серьезная. Летел я оттуда в Милан, и не чем-нибудь, а уважаемой компанией «Ал-Италия». Две бдительные молоденькие бен-гурионовки долго обшаривали мои полные чемоданы — из Милана предстояло ехать в Венецию, оттуда еще куда-то, а в конце — в Вашингтон, так что шмоток было достаточно, — и, зыркнув не ослепительной улыбкой, отпустили. Уверенный после того обыска в абсолютной безопасности полета, я сомкнул в лайнере очи и сразу заснул. Проснулся уже при посадке под гром аплодисментов. Аплодировали сидевшие вокруг пожилые американки. И не летчику, посадившему самолет, а мне — за исключительно артистичный храп. Польщенный признанием своей артистичности, я отправился забирать багаж. Но его не было. Тех двух чемоданов я в жизни больше никогда не встречал. Незачем рассказывать об ощущениях человека, лишившегося вдруг всего — кроме паспорта и, славу богу, кошелька.
Лучше скажу о том, сколь важна в чужом холодном аэропорту мужская дружба. Спустя три часа в миланском аэропорту «Мальпенса» сел московский рейс, на котором на ту же, что и я, конференцию прибыло еще двое российских участников, среди них уже упоминавшийся Сергей Панарин, ну очень авторитетный ученый из Института востоковедения и по стечению обстоятельств умный и добрый человек. Мы встретились на улице у самого выхода. Только начал я рассказывать о своем горе, как Сережа, не говоря ни слова, протянул мне почти полную бутылку «Джонни Уокера». И знаете, после трех глотков все как-то стало забываться.
Впрочем, водятся за Сергеем и грешки. Летим в Алматы — еще до 11 сентября 2001 г., зато уже идет первая чеченская война. Проходим спецконтроль, он оборачивается к пограничникам, кивает на меня и говорит: «Вы его получше обыщите, а то, небось, опять с пистолетом». Пограничник был парень не промах: «Я вот сейчас тебя обыщу…» Парня можно было понять — сколько таких шуток за день он слышал.
После взрыва Торгового Центра в Нью-Йорке в аэропортах стали шерстить основательно, с применением всех возможных технических средств. Очереди на досмотрах, выдергивание брючного ремня, спадающие джинсы, извлечение из сумок компьютеров, из карманов — кошельков, зажигалок, отбор лекарств в излишне больших бутылках — вызывают, так сказать, бытовую ненависть к террористам. Если к раздраженной очереди подвести бенладенообразного человека и сказать «вот он — причина ваших предполетных мучений», то его задушат ремнями, забьют ботинками, заставят выпить все отобранные жидкости, включая неосторожно оставленные в сумочке дамские духи.
Обыскивают везде одинаково. В последние годы главное различие состоит в том, надо ли снимать обувь. Это, пожалуй, самое утомительное занятие. Как-то раз в бакинском аэропорту им. Гейдара Алиева я, чтобы не стаскивать мокасины, тяжело захромал и... меня пропустили в обуви. Этот номер не прошел в аэропорту «Трибхуван», что в столице Непала Катманду. Там самый последний обыск происходил у самого трапа самолета, то есть уже тогда, когда всякий нормальный пассажир уверен: все испытания позади. Мне не привыкать к строгостям, но свирепость на лице офицера была пугающе неподдельной.
В Америке вскоре после 11 сентября помимо обычных мер безопасности был также введен «выборочный контроль». Это когда уже после всех обысков и прощупываний из пассажирской массы неведомо по какому принципу выдергивают еще человек 10 и повторяют процедуру. Я «попадал под раздачу». В Бостоне нас построили словно перед казнью, двое людей в форме прошли вдоль строя, и мне почудилось, что вот-вот раздастся «партизанен, комиссарен унд юден, аллес форвертс!». Однако на этот раз обошлось.
Тогда в Бостоне вспомнился город Курск. Пассажиров Як-40 там тоже выстроили вдоль белой стенки и обыскали. Было это в феврале года 1977-го. В те времена слово «терроризм» ассоциировалось разве что с российскими народовольцами. Аятолла Хомейни только мечтал об исламской революции, Чечня именовалась Чечено-Ингушской АССР, Шамиль Басаев учился в седьмом классе, а Бен Ладен налаживал строительный бизнес. Что тогда искали в аэропорту Курска, сказать не берусь, но ощущение чего-то непонятного, скорее нелепого, чем страшного, сохранилось. Поинтересоваться у курских милиционеров тогда никто не отважился; обыскивают — значит, так надо.
К терроризму существует два подхода. Первый — бытовой: взорвать, захватить могут кого угодно, только не тебя. Что 11 сентября, что московская Дубровка для большинства граждан-обывателей — жуткий театр, где ты зритель, а не участник. Это можно понять: такая позиция есть самозащита. Второй подход — осознание реальности террористической угрозы, косвенное участие в ее предотвращении. Конкретно это заключается в терпении в очередях на спецконтроле, готовности указать на нечто странное, подозрительное. На наших глазах терроризм индивидуализируется. Нынешний террорист может выступать не от имени какой-то организации, а от собственного имени. Андер Беринг Брейвик, расстрелявший в 2011 г. в Осло 77 и ранивший 151 человека — типичный тому пример. Причиной теракта может оказаться и обида на весь мир, и ссора с женой...
Помните знаменитое карлмарксово «призрак бродит по Европе, призрак коммунизма»? Призрак терроризма, даже не призрак, а терроризм собственной персоной бродит по всему миру. Накал борьбы с терроризмом в XXI веке неожиданно выявлял среди людей чуткие души, способные наплевать на антитеррористическую кампанию и прийти на помощь попавшему в беду авиапутнику. Лечу из Гонолулу в Лос-Анджелес. Лечу 7 часов и «кофий пью без всякого удовольствия»: на Гавайях рейс задержали часа на полтора, а мне до Москвы две пересадки, первая из них в этом самом Лос-Анджелесе. Сели, взял багаж, до нью-йоркского рейса сорок минут, из которых половина приходится на местный автобус. Выясняется, что водители автобусов бастуют. Именно сейчас, когда я опаздываю. Вспоминаю молодость и ловлю «попутку». Самую настоящую «попутку» (такси тоже не видать), прельстив чернокожего водителя червонцем (по местному десять долларов). Добираюсь до места минут за десять до отлета: впереди — паспортный контроль, сдача багажа и все та же секьюрити. Ставлю на пол чемодан. Все. На сегодня отлетался.
Мимо ступает высокая, изумительно красивая негритянка в форменной одежде. Я преграждаю ей дорогу и пытаюсь объяснить свою ситуацию. При слове «Москва» в ее глазах вспыхивает огонек понимания. Она улыбается, делает рукой приглашающий жест и ведет за собой. Весь марш занимает минут семь, может, десять. И не по этапам — паспорт-багаж-секьюрити, а напрямик в самолет. «Из тысяч лиц узнал бы я девчонку, но как зовут, забыл ее спросить...» В советском оригинале речь шла о мальчонке, а действие происходило во время войны, имеется в виду Великая Отечественная.
В наше мирное время, пока шли чеченские войны, мне доводилось пользоваться грозненским аэропортом, который одно время, кажется, носил имя Джохара Дудаева. Что запомнилось? Да ничего, слишком много было тогда иных, более запоминающихся впечатлений. Но все же. В первую чеченскую поездку в качестве сувенира решил захватить с собой в Москву боевые патроны и рассовал их по карманам. Дуракам закон не писан. Естественно, на контроле их отобрали. Молодой человек вежливо пояснил, что это запрещено и граничит с уголовщиной. Я извинился и честно обещал больше патроны в самолет никогда не брать.
В 1995 г., когда я поднимался по трапу, раздался взрыв. Рвануло метрах в ста от самолета. В сторону взрыва повернул голову только я один. Возможно, взрыв был не столь близко. Привычка? Но за то, что ни один из поднимавшихся по трапу не повернул головы, отвечаю. Сейчас тамошний аэропорт — с иголочки. В VIP-зале — сад с попугаями, некоторых гостей, как только они ступят на землю, встречают танцами. В то, что Грозный 15 лет назад походил на Сталинград, не верится.
И коль зашла речь о Чечне, не могу не вспомнить про случайную встречу в стокгольмской «Арланде» с Анной Политковской. Возвращались с какой-то конференции, она долго искала в duty free духи для своей мамы, потом пили кофе, она много рассказывала о своих приключениях, а я вдруг брякнул:
— Аня, ведь так вас скоро убьют.
— Я знаю, — ответила она.
Через несколько дней ее убили.
Общая, как теперь выражаются, глобальная проблема аэропортов, а с 2004 г. и самолетов — запрет на курение. Раньше, бывало, летишь — густые, изысканной архитектуры облака, усыпляющее гудение движков, ожидание перекуса, плавный приезд самого перекуса — рыбка, салатик, горячая пища, именно пища, а не резиновый чикен (то есть цыпленок). Порядочные компании вроде «Скандинавиан», «Свисс Эйр» (ныне покойная), бельгийской «Сабены» (тоже почила в бозе), голландской «KLM» угощали бесплатным алкоголем. Выпил до, выпил после, глотнул чайку и… закурил. Только представьте себе, где-нибудь над Гренландией или Тобольском (красивый город даже с высоты 10 тыс. км) вынимаешь из пачки неизмятую еще сигарету, бросаешь взгляд за окно и… Легкий, не обидный ни для кого дымок вьется к самолетному потолку, справа в кресле пепельница. Дымок тает быстро. Им не задохнешься, не отравишься. Некоторым некурящим пассажиркам он даже нравился.
Сначала курильщиков задвинули в хвост, но то было только начало катастрофы. Курить запретили везде. 5-6, 7-9-11 часов без сигареты — уже испытание. Да еще претендующий на ласковость, даже интимность противный голос напоминает, что в туалетах стоят какие-то датчики, которые мигом обнаружат нарушителя.
В аэропортах некурение переносится болезненнее, чем в самолетах. Ожидание чего бы то ни было, даже смертной казни, наверное, настойчиво требует сигареты. У Чехова в рассказе «Новогодние великомученики» замечено, что лучше ждать пять часов поезда на морозе, чем минуту перед рюмкой водки. Вот и мечешься по нью-йоркскому JFK, по франкфуртскому, а с 2010 г. еще и по пекинскому аэропорту в поисках курящего закутка. А его нет как нет. Я оказался в JFK спустя несколько месяцев после запрета, еще не зная о случившемся. Долго бродил по тамошним коридорам, а потом спросил у африканской внешности дамы в униформе, где здесь гетто для курящих. Дама, не говоря ни слова, открыла служебную дверь за своей спиной и, указав глазами на улицу, сказала — там.
— А как попасть обратно?
— Я подожду.
Она подождала. В такое трудно поверить. Но это действительно было.
Не все аэропорты пошли на антитабачную подлянку. Кое-где курилки остались, а кое-где, в вашингтонском «Даллесе», например, даже открылись. Правда, иногда возникает чувство, что некоторые курительные комнаты отданы на откуп садистам. Кажется, в Цюрихе в курилке не работала вентиляция. Если бы шутки «хоть топор вешай» не существовало, она вполне могла бы появиться именно там. В Дубае курилка походила на тюремную клетку с решеткой на улицу.
Самая большая неожиданность ждала в бейрутском аэропорту имени Харири. Курить дозволялось только в VIP-зале. Приглашения туда у меня не было, да и найти этот зал я так и не смог. Зато в каком-то закутке набрел на миниатюрную барышню с восточными глазами. Барышня курила. Рядом струился унылый фонтанчик с питьевой водой, вокруг на полу валялись окурки. Я вопросительно посмотрел на девушку — она кивнула. Несколько минут мы курили вместе, потом она побежала по делам. После ее ухода я еще пару раз затянулся, пугливо оглядываясь по сторонам. Никто не подошел, не вызвал ни полицию, ни пожарных.
Теперь о том, в каком аэропорте что покупать. Сыр — в амстердамском «Шипхоле», можно и в миланском «Мальпенса». Рыбу — в стокгольмском «Арланде» и в аэропорту «Гардермуэн», в Осло. Шоколад — в брюссельском «Завентеле». Вино — лучше гранатовое — надо везти из ереванского «Звартноца», ракию — из любой воздушной гавани Турции, из Варшавы — «зубровку», хорошее виски — из «Хитроу», к тому же там часто бывают всякие выгодные «акции». И… и я еще подумаю.
Ага, вспомнил, хорошую казахстанскую водку можно закупить в Алматы и Астане. Трудность в том, что на кредитные карточки и евро-доллары ее там не продают, поскольку это запрещено правилами Таможенного союза. Есть такая контора, куда вошли Россия, Казахстан и лукашенковская Белоруссия. Других желающих не нашлось. Не знаю, кому какие экономические выгоды это принесло, но вот товары в duty free гражданам из стран ТС теперь продают из-под полы. «Вы принесите свой пакет, я вам туда быстро все положу», — прошептала мне не разбирающаяся в вопросах евразийского сотрудничества продавщица в Астане.
Черная икра есть везде. Говорят, что самая вкусная — в Тегеране. Не знаю, не пробовал. Зато в 1972 г. при транзитной — из Ашхабада в Москву — посадке в сморщенном, с земляным полом аэропорту г. Красноводска (ныне Туркменбаши) мужчина в серой одежде предложил купить алюминиевый бидон с паюсной икрой за пять рублей (молоко тогда стоило 16 и 32 коп., а авиабилет до Ленинграда 11 руб.). В кармане у меня лежала только трешка, про которую тогда ходил антисоветский анекдот — «маленькая, зелененькая, шуршит, но не деньги». На трешку продавец не согласился, и я остался без икры.
Но Тегеран удивляет отнюдь не икрой… В конце 1990-х — начале 2000-х самое интересное происходило при подлете к столице Исламской республики и при вылете из нее. При взлете и при посадке салон наполнялся легким шуршанием. При подлете к Тегерану стюардессы и российские пассажирки принимались укутываться в платки (иранки к тому времени в них уже укрылись). Стюардессы делали это привычно, профессионально, многие пассажирки раздраженно и не совсем умело. В воздухе витал вопрос — почему мы должны соблюдать их традиции?
— Да потому, — попытался урезонить я свою уже немолодую, но еще не старую соседку, — что здесь в семьдесят восьмом — семьдесят девятом годах случилась исламская революция.
— Но я-то при чем, с какого я боку к их революции?
Тут Ту-154 нырнул носом, и мы устремились вниз.
Когда сели, наступала ночь. До города дорога долгая, часа два, и после самолета, конечно, больше всего хочется на боковую. Но не таков бдительный революционный Тегеран, чтобы ни за что ни про что вот так отпустить иностранцев, даже если они прибыли на весьма высокопоставленную конференцию, а жить будут в резиденции Министерства иностранных дел. У меня и моих коллег отбирают паспорта и ведут в VIP-зал, куда затем доставляются и наши чемоданы. Рассаживаемся вокруг низкого полированного стола в глубокие кресла. Разносят крепкий чай. Время замедлилось, а потом и вовсе остановилось. Что можно делать больше часа с паспортами иностранных гостей? Приносят вторую чашку чая. Слава аллаху, можно выйти на улицу и покурить. Пока ты куришь, тебя пристально рассматривают два случайно вышедших вместе с тобой человека. Три чашки чая, три сигареты — путь свободен. Освещенные грустной, словно она навечно привязана к аэропорту, луной, рассаживаемся по чопорным машинам. Аэропорты почти всегда покидаешь с чувством облегчения, но тегеранский особенно.
Был также и обратный рейс Тегеран—Москва. Тут шел обратный процесс. Бортпроводницы сбросили платки, едва загудели моторы на взлете. А иранки, не все, правда, стали избавляться от исламской традиции уже перед посадкой в «Шереметьево». И делали они это с явным удовольствием — и то сказать, было начало 2000-х, время правления либерального президента аятоллы Хатами, когда появилась надежда на избавление от исламского революционного синдрома. Судя по распространившемуся в салоне коньячному аромату, мужья персиянок на это точно надеялись.
Сложные у меня отношения с аэропортами. Но один раз аэропорт — амстердамский «Шипхол» стал для меня домом. Лечу в Эдинбург на конференцию со странным названием «Imaging Freedom, Negotiating Dominion», придуманную в тамошнем Университете Св. Андрея. Сначала все было хорошо. В «Шереметьево», как водится, встретил знакомых — Юру Вяземского (помните, «Умники и умницы»?) и жену его Таню, с которой учился в одной некогда знаменитой, а ныне канувшей в Лету спецшколе № 2. Они — во Францию, у меня — пересадка в Амстердаме. Вышел и вдруг читаю: рейс на шотландский город Эдинбург — «cancelled». Подошел к высокой, во всем голубом голландке, спрашиваю, в чем дело. А она мне вопросом на вопрос: а вы не знаете? Облако грядет из Исландии...
— Какое еще облако?
— А такое. В Исландии вулкан — она произнесла непроизносимое слово — извергнулся. Из-за его дыма теперь никакие самолеты не летают.
— А когда полетят?
— Не знаю.
Никто этого не знал. Скоро отменили все рейсы, кроме как на Америку, Китай и Японию, и стало замечательно глухо. Застывший аэропорт. Никому не нужные самолеты. Железный хлам. Торчат их беспомощные куриные хвосты. Над аэропортом глазеет яркое бессмысленное солнце. Оно врет, что все хорошо. Там, за его лучами, ползет на нас с вулкана Эйяфьядлайекюдль (это слово способны выговаривать только 0,005 проц. землян) гадкое облако.
Ужастики про падающие на Землю астероиды и наступление очередного глобального обледенения не так уж смешны. Какой-то вулканишка, ерунда, а Европа заглохла. «В связи с извержением вулкана в Исландии, — гундит на четырех языках радио, — все рейсы отменены вплоть до особого сообщения». Хрен его знает, когда это сообщение будет. Может, никогда.
Какие террористы, какие революции! Бог чихнул. Под этот чих попали мусульмане, христиане, куча буддистов, синтоистов и атеистов. Людская беспомощность перед Ним — зовите его хоть Аллахом, хоть Христом — налицо.
В амстердамском «Шипхоле» собралась вся мировая антропология. Вы бывали в Вавилоне? Я в нем провел три дня. В большинстве своем люди просто улыбаются. В курилке какой-то ушастый мерзавец надрывается — мол, мы отсюда вообще никогда не выберемся.
От бессмысленного гуляния по длинным коридорам наступает одурение. Куда идти? Естественно, в бар, Murphy bar, где кормят замечательными, с лучком колбасками. Из бара идти уже некуда и незачем. Однако я все же пошел — в никуда. Остановился на полдороге, выдрал ноги из ботинок, стянул носки, достал из чемодана и надел китайские тапочки из пекинского отеля «Гуандун». Сижу в пустом гейте. Лепота.
Подходит японец. В его Японию пока пускают. Он, бедненький, не туда забрел, ищет свой выход. Объяснил ему, куда идти, искренне порадовался за него — хоть он доберется до своей Страны восходящего солнца. Он мне — также искренне — посочувствовал. Как пел Окуджава, «я с ними не раз уходил от беды... как много бывает порой доброты в молчанье, в молчанье».
Моя беда, как я уже говорил, растянулась на три дня и две ночи. Большинству пассажиров, особенно безответным индийцам, малайцам, африканцам повезло куда меньше. Они отсидели чуть ли не неделю.
В такой обреченной ситуации особенно важна отзывчивость аэропортов-ских сотрудников. Их поведение было безукоризненным. На их лицах столько сочувствия, словно задержались их собственные срочные рейсы.
В первый день затянувшейся остановки бытовые вопросы решались стихийно, самодеятельно. Самые удобные кресла заняли африканские матери с детьми и индийские старички с хитринкой в глазах. Моим пристанищем стал электрокар с широкими мягкими сиденьями. Я обрел его в пустом коридоре ставшего ненужным выхода на посадку. Присмотревшись к транспортному средству, решил, что лучшего пристанища на ночь не найти. Хотелось двух вещей: одиночества и выспаться. Я надел пижаму, подложил под голову портфель и, зажав в руке паспорт и бумажник, принялся спать.
К утру ситуация с вулканом осталась прежней, то есть безнадежной. Зато администрация приняла меры по налаживанию быта. В одном крыле аэропорта была организована ночлежка, доставлены матрасы, раскладушки — говорили, что ими поделилась местная армия и местное МЧС. Появились пункты раздачи (бесплатной, разумеется) пищи. «Шипхол» превратился в лагерь беженцев.
Днем явился ярко, по-концертному разодетый оркестр. Загремела веселая бесшабашная музыка. В то же время присутствие оркестра казалось намеком на то, что сидеть здесь придется еще долго. Очевидно, предстояло провести еще одну ночь в коридоре, пусть и не на электрокаре, а на эмчеэсовской лежанке. Душа ни там, ни там быть не могло, и это наводило на мысль поискать что-нибудь более стоящее — гостиницу, иными словами. Я нашел встроенные внутри аэропорта номера по цене 90 баксов за ночь. Однако ночи были куплены еще с утра, скорее всего ушлыми японцами. Мне достались почти за ту же цену четыре часа, с 14.00 до 18.00. Представьте себе купе, но с ванной. И все. Правда, кровать была на редкость мягкой. Или так просто показалось?
Ночевать я вернулся в коридор. Когда наутро сообщили, что метеорологи грозят еще сорока восемью часами неопределенности, я понял, что пора действовать: купил шенгенский транзит, вышел из аэропорта, дошагал до поезда на Берлин, в германской столице переночевал в отеле, который по совместительству оказался борделем, оттуда — поездом до Варшавы. В Варшаве сама собой сколотилась группа стремившихся на родину сограждан, застигнутых вулканом во Франции, Норвегии, Бельгии. Мы наняли три такси, добрались до Белостока, пересекли польско-белорусскую границу, где нас уже ждал заказанный заранее по телефону микробас, который довез меня до Москвы, к тому же почти до самого дома. Уже сидя на кухне, посмотрел на карту: «Мы пол-Европы, пол-Европы прошагали…».
В 1999 г. улетаем с моим другом Юрой Зараховичем, корреспондентом журнала «Тайм», из Казани. Сидим в VIP-зале, эдаком полированном обкомовских времен спецбуфете. Вечер, есть что выпить. Для несведущих: Казань — столица российской водки. Также как Дагестан — колыбель российского коньяка. И что интересно — водочно-коньячную традицию не переломили ни исламизация, ни радикализация, ни эхо грянувшей в 2011 г. «арабской весны». Шариат на российском Северном Кавказе уживается с коньяком. И, верю, уживется. Их симбиоз лишь укрепит цивилизационную идентичность кавказ-ского социума.
Так вот. Сидим мы с Юрой зимней порой в казанском аэропорту. Попеваем советскую песню «нелетная погода, неле-о-гкая су-у-дьба», попиваем водочку. Хорошо пошло, и такая задушевная беседа завернулась, и закуску принесли, и диван удобный, и уж, конечно, никто не запрещает курить. С одной стороны, самолета нет и неизвестно когда будет. Нервы должны быть на пределе. Ан нет. Наши нервы отдыхают и расслабляются вместе с нами. Долго сидели мы, освоились, наслаждались здешним уютом. И каким же мерзавцем показался нам наконец прилетевший с опозданием часа на три Як-42 — такую песню испортил!
Что-то меня все время тянет на приземленное, пошлое. Можно подумать, что кроме еды, досмотра да курева нет других впечатлений. Есть, конечно. На всю жизнь запечатлелась главная достопримечательность аэропорта в Алматы — огромная евразийская луна, единственная реальность нашего никчемного неоевразийства. А какие утренние безумные звезды горят над бишкекским «Манасом» по прилете московского рейса! Им не мешает даже американская военная база, вокруг которой идет многолетний торг и которую местные президенты то обещают прикрыть, то в очередной раз откладывают это мероприятие до лучших времен. А какие горы вокруг аэропорта в Душанбе, а Арарат на подлете к «Звартноцу»!
Но романтика аэропортов, их былые «взлетные огни» гаснут. В Европе, Америке, Китае… У кого-то много летавшего однажды вычитал: сходит он однажды по трапу в парижском «Орли», чувствует, чего-то не хватает, и вдруг понимает — нет свиста сурка. Мне сурков в Париже слышать не доводилось, летать туда я стал сравнительно недавно, но в этот рассказ верю.
На фоне гигантомании так хорошо бывает на захолустных, с буфетным пирожным и двумя бутербродами российских аэродромчиках, уцелевших, как еще говаривал Грибоедов, со «времен Очаковских и покоренья Крыма».
Однажды в Вене я вдруг почувствовал, какое счастье, когда задерживается рейс, просто так сидеть в аэропорту и смотреть через глушащее звуки моторов оконное стекло, особенно если оно залито дождем. Безответственное детское счастье, когда ты ни в чем не виноват и у тебя нескончаемое свободное безответственное время. А еще — в предвкушении полета хорошо пишется. Наверное, это от необязательности — хошь думай, хошь пиши. А не хочешь — не делай ни того ни другого, просто вытяни ноги и закрой глаза.
Опубликовано в журнале:
«Дружба Народов» 2014, №11
По итогам восьми первых месяцев 2014 г. объем австрийского экспорта пиломатериалов хвойных пород древесины вырос в годовом исчислении на 2%, составив 3,27 млн м3, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении Статистического управления Австрии (Statistics Austria).
Столь незначительный рост стал следствием заметного снижения экспорта в августе, особенно в Германию — на 25% до 48 тыс. м3. Кроме того, в январе-августе сократились поставки в Японию — на 33% до 178 тыс. м3.
Основной потребитель австрийских пиломатериалов — Италия — в августе незначительно увеличила объемы импорта, который по итогам восьми месяцев составил 1,56 млн м3. Поставки в Великобританию увеличились более, чем в два раза до 48 тыс. м3.
Согласно проведенному опросу, более 30 % населения Италии выступает за отделение своих регионов от государства, стремление к независимости больше всего проявляется на севере страны, пишет итальянская газета La Repubblica.
Согласно данным опроса, половина жителей региона Венето на северо-востоке Италии (53%), разделяют идею получения независимости. Выше среднего показатели наблюдаются также в регионах Пьемонте и Ломбардия (35%). Дух независимости витает и на двух крупных островах, на Сардинии и Сицилии, где 45% населения стремятся к отделению, несмотря на зависимость от регулярных поставок из центра страны.
Кроме исторических и геополитических факторов, влияющих на стремление регионов к независимости, La Repubblica называет также социально-экономические причины. Стремление к независимости максимально распространено среди рабочих, предпринимателей и безработных.
Предприниматели севера и северо-востока Италии страдают от налоговых и бюрократических ограничений, установленных государством, которые входят в противоречие с нестабильностью на мировых рынках, а наемные работники и безработные жалуются на слабость социальной защиты государства, пишет La Repubblica.
По информации Союза экспортеров Турции (TİM), турецкий экспорт морских судов и яхт за 10 месяцев 2014 года вырос на 4,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 млрд. 53 млн. долл. 89,4 % всех судов экспортировано из двух регионов Турции – Стамбула и Яловы. Самый крупный экспорт судов за 10 месяцев осуществлен в Норвегию – 218,5 млн. долл. Кроме того, турецкие суда экспортировались в Мальту, Германию, Италию, Панаму, Саудовскую Аравию, Данию, Голландию, США, Бразилию и Туркмению.
Акшам, 04.11.14
Встреча с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
В Пекине на полях саммита АТЭС состоялась встреча Владимира Путина с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Обсуждались актуальные вопросы российско-японских отношений. Стороны подтвердили готовность к продолжению контактов по всем направлениям, в том числе относительно работы по мирному договору. Президент России и Премьер-министр Японии подробно прошлись по перечню двусторонних проектов торгово-экономического сотрудничества, который был составлен по итогам последнего визита главы Правительства Японии в Россию.
Уделено внимание также ряду тем международной повестки дня, в частности ситуации на Украине. В.Путин дал подробные пояснения по позиции Российской Федерации.
* * *
В.ПУТИН: Уважаемый господин Премьер-министр! Уважаемые коллеги! Позвольте вас поприветствовать.
Только вчера в Москве имел удовольствие присутствовать на фестивале японских боевых искусств. Хочу поблагодарить Вас, господин Премьер-министр, и тех наших коллег, которые принимали участие в организации этой работы, за удовольствие, которое они доставили российским любителям этих видов спорта. Это не только спорт, это значительная часть японской культуры, а это, в свою очередь, самое хорошее основание для развития двусторонних отношений, которые в последние годы развивались весьма успешно и в экономике, и в политической сфере.
Когда я говорю о политической сфере, имею в виду и возобновление наших переговоров по заключению мирного договора. В этой связи, конечно, рад возможности снова встретиться с Вами, на этот раз здесь, на полях АТЭС, и проанализировать совместно все стороны нашего взаимодействия.
Спасибо.
СИНДЗО АБЭ (как переведено): Господин Президент, я очень рад снова встретиться с Вами после нашей краткой встречи на полях саммита форума «Азия – Европа» в Милане. С учётом наших встреч во время моего первого премьерства это в общей сложности уже наша десятая встреча.
Хотел бы выразить благодарность за то, что Вы посетили фестиваль японских боевых искусств. Считаю, что понимание японских боевых искусств Вами как дзюдоистом означает и более глубокое понимание самой Японии. А это большой плюс для дальнейшего развития и укрепления японско-российских отношений.
Сегодня я хотел бы уделить время обмену мнениями по вопросу заключения мирного договора, а также по международным вопросам.
Тридцати трем европейским языкам угрожает серьезная опасность, в том числе 13 из них вот-вот исчезнут, пишет британская The Independent.
Издание воспользовалось данными, приведенными международным информационным туристическим порталом Gouero, который на основе информации ЮНЕСКО привел список европейских языков, квалифицированных как "исчезающие" и "находящиеся в опасности". К первым относятся языки, на которых говорят лишь отдельные представители самого старшего поколения, в то время как их дети уже не понимают их. Ко вторым — языки, на которых говорят люди помоложе, но лишь изредка и нечасто.
Портал Gouero предлагает новый вид туризма — лингвистический. Его цель — привлечь внимание к исчезающим языкам и экономически поддержать регионы, где они пока существуют.
В самом тяжелом положении из списка языков, находящихся под угрозой исчезновения, — готшейский диалект немецкого языка, на котором говорит малоизученная этническая группа готшейских немцев, проживающих в городе Кочевье в Словении. Число сохранившихся носителей этого языка не известно.
Всего 6 человек говорят сегодня на галичском диалекте караимского языка, некогда распространенном на западе Украины.
Осталось только 20 носителей водского языка, на котором разговаривала малочисленная народность водь, проживающая в Кингисеппском районе Ленинградской области России.
Под серьезной угрозой находится и кильдинский саамский язык, распространенный в центральной части Кольского полуострова. На нем разговаривают, по данным ЮНЕСКО, 787 человек.
Всего в обоих списках значатся 8 языков народностей, живущих во Франции, 4 — в Великобритании, 3 — в Швеции, а также языки этносов в Хорватии, Болгарии, Италии, Греции, Германии, Финляндии, Норвегии и Латвии.
Третья ветка метро, линия С, открылась в воскресенье в Риме, однако долгожданное открытие не прошло без проблем — первый же поезд остановился на одной из станций на 11 минут из-за технической неполадки, и пассажиры были вынуждены пересесть на идущий следом состав.
Открытия первого отрезка новой ветки метрополитена, которая пересечет Рим с юго-востока на северо-запад, жители итальянской столицы ждали очень давно. Строительство линии С началось в 2007 году, и изначально предполагалось, что она начнет свою работу еще в 2012 году, однако эти сроки постоянно переносились. Более того, в этом году открытие уже было назначено на 11 октября, однако министерство транспорта не дало соответствующего разрешения, поскольку к этому времени не были проведены все необходимые работы.
В результате начало работы линии С было передвинуто на 9 ноября. В церемонии открытия долгостроя принял участие мэр Рима Иньяцио Марино, который прибыл на конечную станцию Монте Компатри (Monte Compatri) и, купив билет, зашел в метро.
Отрезок линии С, введенный в эксплуатацию, состоит из 15 станций, которые будут открыты ежедневно до 18.30. Длина нового маршрута составляет 12,5 километра, из которых только 4,3 километра проходят под землей. В поездах новой ветки метрополитена не предусмотрено кабины машиниста, они управляются дистанционно из специального центра управления движением.
Римская подземка — один из наименее развитых метрополитенов в Европе, общая длина которого — до открытия линии С — была немногим более 40 километров. Строительство новых станций, особенно в центральной части города, крайне проблематично, поскольку при прокладке путей регулярно возникают препятствия, связанные с многочисленными археологическими находками. Наталия Шмакова.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























