Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Игорь Артемьев информировал Владимира Путина о совместной работе Федеральной антимонопольной службы и Организации экономического сотрудничества и развития по приведению внутрироссийских стандартов в области защиты конкуренции в соответствие с международными требованиями, а также о текущей деятельности ведомства.
* * *
В.ПУТИН: Игорь Юрьевич, Вы знаете, что мы по линии различных организаций, международных в том числе, с Организацией экономического сотрудничества и развития работаем по сближению наших стандартов с международными. Знаю, что Вы тоже в этом направлении трудитесь с ОЭСР, и там есть уже положительные показатели. На этот счёт предлагаю поговорить и потом, конечно, о текущей работе ведомства.
И.АРТЕМЬЕВ: Уважаемый Владимир Владимирович, на прошлой неделе комитет по конкуренции Организации стран экономического сотрудничества принял, на наш взгляд, очень важное решение.
Мы в течение трёх лет проводили эту работу по Вашему поручению, по решению Правительства. Комитет решил, что Россия в целом полностью соответствует требованиям и стандартам ОЭСР в области защиты конкуренции, и признал, что наше законодательство гармонизированное, что мы имеем развитое правоприменение, и выдало нам соответствующие рекомендации. Таким образом, эта трёхлетняя работа по нашей линии по вступлению России в ОЭСР завершена.
Рекомендации, которые нам выданы, не страшны для нас, потому что речь идёт об улучшении качества экономического анализа (мы сами этим занимаемся), об улучшении программы гармонизации, связанной с применением Уголовного кодекса, – сейчас такие поправки уже одобрены Правительством Российской Федерации и находятся в Государственной Думе. В принципе, мы в целом удовлетворены этой работой, она получила, на мой взгляд, достойное завершение.
Параллельно на прошлой неделе мы получили так называемый мировой рейтинг антимонопольных органов. Должен сказать, что он проводится каждый год в рамках международной конкурентной сети, семь лет мы в нём участвуем.
В этот рейтинг допускаются только страны, которые имеют гармонизированное законодательство, и Россия, приняв соответствующие поправки в последние семь лет, конечно, давно туда попала.
Мы подтвердили своё место, мы в двадцатке, открываем вместе с такими станами, как Италия, Нидерланды, Австрия, группу, которая имеет оценку «хорошо», и в целом эта группа нас удовлетворяет на сегодняшний день.
Две важнейшие организации, которые являются законодателями мод в нашей международной сфере – ОЭСР и Международная конкурентная сеть, – дали примерно одинаковые оценки Российской Федерации в этом отношении по тому, что сделано и что предстоит сделать.
Естественно, мы сейчас сделаем план мероприятий, доложим подробно Вам, Правительству Российской Федерации о том, что надо сделать. Но ещё раз хочу подчеркнуть, что мы и сами собирались это сделать, это совершенно нормальная практика.
Что касается нашей текущей работы, то прежде всего мы, конечно, активизировались в последние годы в своих взаимоотношениях вместе с полицейскими структурами по расследованию картелей. По-прежнему считаем, что это очень большое зло в нашей экономике, да и не только в нашей, во всех странах.
Например, Европейский союз уделяет этому первостатейное внимание. Было возбуждено 11 уголовных дел на эту тему полицейскими структурами, органами следствия. Сферы самые разнообразные: информация, рыбный промысел, различные дела, связанные с высокими технологиями.
Всё это, к сожалению, у нас сегодня этим засорено. Сейчас, когда вышла амнистия, эти дела будут подпадать под эту амнистию. Значит, мы можем считать, что эти дела, большая часть из них будет завершена в соответствии с амнистией.
Но это получилось как бы последнее предупреждение от российского Правительства, которое адресовано всем тем, кто сегодня сговаривается на торгах, кто сегодня сговаривается по ценам и, по сути, находится в заговоре против потребителей в России, против российских граждан.
Эта тема в ближайшие годы, видимо, должна стать основной. Мы сегодня не только имеем специальные подразделения, которые этим занимаются, не только имеем подписанное соглашение со Следственным комитетом, с МВД, работаем с Генеральной прокуратурой.
К сожалению, здесь, поскольку это разновидность мошенничества, без уголовных дел вряд ли мы можем решить эту проблему в стране, хотя они и не должны иметь массового применения. Это должны быть такие случаи, когда государство, общество и граждане тем самым консолидированно покажут, что такая практика осуждается и что этого делать в Российской Федерации нельзя, недопустимо, и мы надеемся достигнуть этого результата.
Что касается других тем – злоупотребление доминирующим положением, недобросовестная конкуренция, – то в этом смысле очень важным является создание наднационального органа в рамках Таможенного союза. Все документы мы активно готовим вместе: работаем с Таможенным союзом, с органами управления вместе с белорусами и казахами. Там есть очень серьёзные продвижения и по анализу рынков, и скоро этот орган заработает, мы всячески готовы ему помогать.
Мне кажется, это тоже будет новое качество, потому что мы в своих расследованиях всё время упирались в границу Российской Федерации, а трансграничные правонарушения – те же картели, недобросовестная конкуренция, примитивное злоупотребление доминирующим положением – мы не могли расследовать, равно как белорусские и казахстанские коллеги.
Теперь эти трансграничные нарушения оказываются в поле нашего зрения и зрения наднационального органа, что будет способствовать единому экономическому пространству и улучшению экономических показателей, на наш взгляд.
Итальянский производитель бумаги Favini выпустил новую бумаг из отходов при производстве оливок, орехов и кофе
Итальянский производитель бумаги Favini выпустил новую линейку оригинальных экологических бумаг для рынка упаковки. Серия бумаг Crush изготавливается из различных органических материалов, например, отходов при производстве оливок, орехов и кофе.
Компания утверждает, что новая серия "является уникальной для рынка, поскольку это единственные бумаги, в которых побочные продукты органического происхождения заменяют 15% традиционной древесной массы".
Производитель сообщил, что ему удалось разработать процесс, позволяющий превратить отходы кукурузы, апельсинов, киви, оливок, миндаля, фундука и кофейных бобов в "исключительно качественную бумагу модных оттенков, вдохновленных природой". Каждый вид бумаги имеет особый цвет и фактуру, соответствующие используемому при его производстве материалу.
Favini предлагает бумаги Crush для использования при изготовлении пакетов для покупок, этикеток и упаковки для товаров премиум-сегмента.
В пресс-релизе производитель утверждает, что новая серия "вдохнула новую жизнь в отходы органического производства, которые обычно используются в качестве наполнителя пищи для животных и удобрений, либо просто выбрасываются на свалку".
Бумаги серии Crush сертифицированы Лесным попечительским советом (FSC) и содержат 30% переработанного волокна. Линейка включает в себя бумаги семи цветов и четырех плотностей - 120, 200, 250 и 350 г/кв.м.
Иран пока не получал никаких предложений для участия в проекте TAP.
Об этом АПА сообщил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин.
Говоря о возможности участия Ирана в проекте, посол отметил, что Иран экспортирует газ в Европу через Турцию. "Если поступит новое предложение, то мы можем подумать над этим. Мы не настаиваем на том, чтобы продавать газ в Европу, они нуждаются в еще большем объеме энергии. Конечно, у нас много запасов нефти и газа. Мы занимаем второе после России место по запасам газа".
Азербайджан 28 июня официально объявил проект Трансадриатического газопровода (Trans Adriatic Pipeline, TAP) маршрутом для экспорта в Европу газа, который будет добываться в рамках второй стадии разработки месторождения Шах Дениз. Трубопровод будет начинаться в Греции, пройдет через территорию Албании и Адриатическое море и далее в Италию. Оценочная стоимость проекта строительства газопровода составляет 2,2 млрд долларов.
Главный проект российского авиапрома - Sukhoi Superjet - оказался на грани дефолта. Производитель самолетов ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) накопило $2 млрд долгов и нарушило ковенанты по кредитам. Долг перед ВЭБом (более $600 млн) может быть погашен акциям ГСС или ОАО "Сухой", а перед другими кредиторами - облигациями на $1 млрд под госгарантии. Обсуждается вариант поддержки ГСС за счет продажи ВЭБом части акций EADS (производитель Airbus), но госкорпорация от этой идеи не в восторге.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и ВЭБ обсуждают способы финансового оздоровления обремененного долгами ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (производитель самолетов Sukhoi Superjet), рассказали газет "КоммерсантЪ" два источника, знакомые с ходом переговоров. В консультациях участвуют профильные министерства. "Проблему надо решать до конца года, иначе ГСС придется объявлять дефолт по кредитам",- пояснил один из источников "Ъ".
ГСС уже сейчас находится в состоянии, близком к дефолтному,- кредиторская задолженность компании на начало года достигла $2,1 млрд (из них $300 млн - перед связанными сторонами). Детально структура долга не раскрывается, но в отчетности ГСС говорится, что в 2012 году компания нарушила условия обслуживания кредитов, взятых в ЕБРР, и ковенанты по обязательствам перед банками WestLB и ВТБ. ГСС удалось договориться о том, что до конца 2013 года банки не будут требовать досрочного погашения займов, но до этого времени компании необходимо решить свои финансовые проблемы.
В 2012 году ЗАО ГСС продало 12 самолетов Sukhoi Superjet (SSJ), в 2013 году планируется продать 27. Выручка компании по МСФО в 2012 году - $198 млн, убыток - более $111 млн. 71,99% и 3% акций ЗАО ГСС принадлежат входящим в ОАК ОАО "Сухой" и ОКБ "Сухой", 25% плюс 1 акция - World Wings S.A. (структура итальянской Finmeccanica).
Источники "Ъ" рассказали, что обсуждается вариант, конвертации $600 млн долга ГСС перед ВЭБом в акции ЗАО или его акционера - ОАО "Сухой". Вероятнее вторая схема, уверят один из собеседников "Ъ". Она привлекательнее для ВЭБа, поскольку ОАО "Сухой" в отличие от ГСС прибыльно. Оно владеет акциями и других предприятий, в том числе производителей военных самолетов, а также 49% SuperJet International (51% - у Finmeccanica), которая занимается продвижением и поставками SSJ за рубеж. У ОАК 87% акций ОАО "Сухой", остальное - у Росимущества.
Для расплаты с остальными кредиторами ГСС планирует выпустить облигации на $0,6-1 млрд под госгарантии. Но при этом компания просит дополнительной поддержки государства на программу SSJ. Так, предлагается перераспределить средства, заложенные в ФЦП на запуск производства грузового Ан-70, в пользу проекта SSJ NG. Речь идет примерно о 10,7 млрд руб. Есть вариант дополнительной субсидии для ГСС со стороны ВЭБа на сумму порядка 15 млрд руб. Эти средства, по словам собеседника "Ъ", можно выручить от продажи ВЭБом 5% акций EADS (головная структура Airbus S.A.S.), которые ВЭБ купил в 2007 году у ВТБ. По вчерашним котировкам весь пакет стоил около 68,6 млрд руб., то есть речь может идти о продаже лишь части пакета.
В ОАК и ВЭБе от комментариев отказались. Источник, близкий к ОАК, сказал, что переговоры о реструктуризации долгов ГСС продолжаются, идет диалог и с World Wings S.A., решение будет приниматься с учетом ее позиции. Источник, близкий к ВЭБу, отметил, что схема пока вызывает сомнения, в госкорпорации не очень заинтересованы в ее реализации в такой форме, в том числе в части продажи акций EADS. В World Wings S.A. не ответили на запрос "Ъ". В EADS не комментируют действия акционеров.
Олег Пантелеев из "Авиапорта" считает, что производитель самолетов не должен развиваться только за счет государства. "Но SSJ - пилотный проект российского авиапрома, поэтому ГСС принципиально важно выполнить обязательства перед кредиторами, в том числе для поддержания доверия со стороны международных контрагентов",- добавляет эксперт. По его мнению, в такой ситуации вмешательство государства в лице ВЭБа "выглядит обоснованным".
ЦЕРКВИ ПОРА ПОВЗРОСЛЕТЬ
Записала Александра Ильина
АНДРЕЙ КУРАЕВ протодиакон РПЦ
"Быть может, Господь и не желает, чтобы мы из нынешней ситуации вышли быстро и без умудрения. У нашей церкви огромный опыт гонений, но еще никогда в истории у нас не было опыта именно общественной обструкции. В позднесоветские времена скорее было некое сочувствие, а сейчас стало сложнее, и надо научиться жить в условиях неидеальных. Мы должны научиться предвидеть, как наши действия будут выглядеть в глазах тех, кто не намерен прощать наши ошибки. 90-е были для нас инкубаторскими. Этот период кончился, надо взрослеть"
Протодиакон Андрей Кураев об имидже РПЦ, православных активистах и чувствах верующих
Скандалы, сотрясающие РПЦ два последних года, стремительно истончают прослойку людей, симпатизирующих церкви, уверен протодиакон Андрей Кураев. В интервью "Московским новостям" он рассказал, почему эти скандалы происходят так часто и как РПЦ собирается преодолевать общественную обструкцию.
- В одном из своих постов вы не так давно написали, что церковные иерархи выбрали курс "на беспощадную роскошь", и это убавило церкви симпатий. Что вы подразумеваете под курсом на роскошь?
- Я имел в виду даже не сам факт тех или иных атрибутов элитного статуса духовенства, а апологию этого факта. Некоторые официальные представители патриархии за последние два года неоднократно озвучивали тезис о том, что у епископов должно быть все дорогое - и машины, и часы, и резиденции. Иначе, дескать, крутые пацаны не поймут. Это было сказано официально. Может быть сейчас, когда появился папа римский Франциск, эта позиция изменилась. Может быть, те спикеры и жалеют о том, что такое было сказано. Но никакого внятного публичного дезавуирования тех деклараций не было. А люди это помнят.
- Но если провозглашать курс на аскетизм, продолжая при этом ездить на лимузине, не будет ли это странным?
- Не будет, потому что разрыв между проповедью и жизнью - это вечная и понятная общечеловеческая слабость. А вот оправдание своего греха превращает его почти что в богоборчество. Мы все знаем, что мы неидеальны, и церковь сама себя считает больницей, в которой все больны, включая главного врача. Но когда врачи начинают заявлять, что их собственные болезни стали добродетелями, то это уже откровенный перебор.
- Власть в последнее время откровенно навязывает обществу традиционные ценности, ссылаясь при этом на церковь. Вот, например, последние предложения депутата Мизулиной.
- Не помню, что такого ужасного она предложила.
- Ну, например, штрафы за разводы.
- По-моему, прекрасная идея. Иногда какие-то меры принимаются не для того, чтобы решить проблему, а чтобы обозначить отношение к ней общества. Понятно, что антигейский закон не будет работать. Он был принят для того, чтобы показать, что в общественном сознании сохраняется понятие о норме. Так же и здесь. Почему нарушение обетов перед обществом - брак ведь заключается перед лицом общества и скрепляется именем Российской Федерации - должно оставаться без последствий? За нарушение скорости на дороге платить обществу надо, а за торможение в самом главном - в семейной жизни - нет? Если деньги будут не просто идти в бюджет, а поступать в фонд помощи детям из неполных семей, что в этом плохого?
- Если общество в целом не против традиционных ценностей, чем объяснить протест против создания кафедры теологии в МИФИ?
- Мне неизвестно о протесте студентов как таковом. Кто замерял их реальные настроения?
- Настроение студентов очень наглядно проявлялось в соцсетях.
- Если верить комментариям в соцсетях, то покажется, что из дома в рясе лучше не выходить - закидают тухлыми помидорами. Но я выхожу, и, напротив, люди говорят добрые слова. Тут то же самое. Хотя есть огромный провал со стороны авторов данной идеи, которые не объяснили адекватно, что это будет за кафедра. Можно было провести несколько пробных лекций, рассказать, кто будет преподавать. Во всех университетах есть проблема: как реально соблюдается право выбора студентов в мировоззренческой области? Ведь нет философии вообще. На любой кафедре философии преподают люди, у которых есть свои симпатии, свои философские и профессиональные убеждения. Есть марксисты, фрейдисты, кто-то стоит на позициях экзистенциализма. Много ли есть кафедр, где существует реальный плюрализм, где идеалисты и материалисты работают в рамках одной кафедры? Почему в таком случае не быть кафедре богословия в МИФИ, которая существовала бы в условиях конкуренции с кафедрой философии?
- Что вы думаете о законе о защите чувств верующих? Насколько он сегодня нужен? - Такого рода закон является частью современной западной правовой системы. Речь идет о hate crimes, преступлениях ненависти, направленных не против конкретного человека, а против группы людей или идеи. Если газета публикует тезис "все негры - козлы", кто может подать иск? Понятно, что вопросы такого рода оскорблений должны как-то регулироваться. Выстраивать такую систему защиты, несомненно, надо, но тут есть червоточинка в виде слова "чувства". Эта категория не вербализуема и не проверяема. Если я заявлю в суде, что были оскорблены мои чувства, кто может выступить экспертом? Мне кажется, этот закон был принят в попытке умиротворения российских мусульман. Во всем мире мусульмане торопятся демонстрировать свои оскорбленные чувства самыми радикальными методами. Государство пробует их успокоить и хочет сказать: "Мы понимаем проблему и в состоянии справиться с ней сами, не дожидаясь ваших самосудов". Сложность тут в том, что, как и в случае с 282-й статьей, один житель Дагестана подаст в районный суд на какое-либо издание и тот вынесет вердикт, оспорить который будет очень трудно. У нас нет прибора, способного замерять глубину оскорбленности.
- Как быть с формулировкой в таком случае?
- Будем ждать, когда ситуация сама доведет себя до абсурда. Тогда, может быть, последует реакция.
- А как вы относитесь к другому явлению в околоцерковной жизни - так называемым православным активистам. Кто эти люди и зачем они нужны церкви?
- Появление "энтеообразных" - это вещь и ожидаемая, и печальная. Понятно, что при бурном росте всего, что связано с религией и церковью, рано или поздно должен был появиться и такой антропологический типаж крайне самоуверенных людей, которые "знают, как надо". Печально то, что они получили поддержку со стороны некоторых церковных чиновников весьма высокого ранга.
- Вы верите вообще в искренность веры этих людей?
- Я думаю, что много чести о них столько разговаривать.
- Тогда давайте поговорим об иеромонахе Илии. Откуда в церкви берутся такие люди? Есть ведь кто-то, кто несет ответственность за таких молодых священнослужителей.
- Трудно сказать, когда это началось, скорее всего еще с царской поры. Для епископа прирученный монах рядом с ним - удобное домашнее животное. Он не семейный человек, не будет ни на что отвлекаться, он в абсолютной и полной зависимости. Поэтому епископам выгодно штат епархии наполнять монахами. Монашество их в чем-то условно, потому что объем их работ и занятость в епархии не позволяют предаться монашеским трудам, которыми занимаются монахи в реальных монастырях. Но зато у них карьерная перспектива: со временем они сами могут стать начальниками и ради этого готовы терпеть много чего. Понятно, что это не самая здоровая часть нашей церковной жизни. В фильме "Остров" Лунгина такой типаж есть. Там есть три монаха: старец - святое исключение из нормы, игумен отец Филарет - нормальный нутряной монах, и отец Иов - дурное исключение из нормы, монах карьерно-паркетного типа. В монастыре в глубинке такие не водятся, а в столичном монастыре это вполне закономерный типаж. Последний протопресвитер русской царской армии Георгий Шавельский писал о предреволюционной церкви: "Трудно представить какое-либо другое на земле служение, которое подверглось бы такому извращению и изуродованию, как архиерейское у нас. Стоит только беглым взглядом окинуть путь восхождения к архиерейству, чтобы признать, что враг рода человеческого много потрудился, дабы, извратив, обезвредить для себя самое высокое в Церкви Божией служение". Проблема не вчерашняя, так что ахать и возмущаться немножко поздно. Тут дело не просто в чьей-то персональной вине.
- Может ли что-то сделать церковь с молодыми карьеристами в своих рядах? - Сейчас в церкви идет период укрепления бюрократии. С одной стороны, это необходимо - слишком много было неформально оговоренных вещей при Алексии II. У церкви в России нет опыта самоуправления. Синод управлялся и контролировался государственными чиновниками, в советское время ни шагу без власти нельзя было ступить. Сейчас мы уже 20 лет в свободном полете. Пришла пора, когда нужно наладить дисциплину, но невозможно это сделать без создания контролирующих аппаратов. Значит, появляется целая прослойка номенклатуры. Идеальная среда для появления перспективных сереньких кардинальчиков.
- Есть ли какие-то тенденции в духовной жизни общества? В последнее время участились случаи перехода в другие конфессии?
- Я не вижу сокращения числа прихожан, их даже больше за последние два года стало. Но истончается слой людей, которые церковной жизнью не живут, но на культурном уровне считают себя православными и относятся с симпатией к церкви. У них появился аргумент, который многие годы будет тормозить врастание в церковь, - "как же мы туда пойдем, там ведь", а дальше известный перечень: Pussy Riot, квартиры, часы, лимузины и гелендвагены и так далее. Жаль, что из-за этой мелочовки они так и не дадут себе шанса стать другими.
- Есть ли какой-то выход для церкви сейчас?
- У церкви 2 тыс. лет истории за плечами. Убежден, что и впереди не меньше. Любые, казалось бы, безвыходные сегодняшние ситуации рано или поздно завершаются. Впрочем, быть может, Господь и не желает, чтобы мы из этой ситуации вышли быстро и без умудрения. Может быть, именно церкви нужно, чтобы мы прошли через период общественного порицания. У нашей церкви огромный опыт гонений, но еще никогда в истории у нас не было опыта именно общественной обструкции. В позднесоветские времена скорее было некое сочувствие, а сейчас стало сложнее, и надо научиться жить в условиях неидеальных. Мы должны научиться предвидеть, как наши действия будут выглядеть в глазах недружелюбных, в глазах тех, кто не намерен прощать наши ошибки. 90-е были для нас инкубаторскими. Этот период кончился, надо взрослеть.
АНДРЕЙ КУРАЕВ
Родился в 1963 году. В школе выпускал газету "Атеист", в 16 лет поступил на кафедру истории и теории научного атеизма философского факультета МГУ. В 1982 году крестился, в 1985-м стал секретарем в Московской духовной академии (МДА) и начал обучение в Московской духовной семинарии, которую окончил в 1988 году. В 1992 году окончил МДА, а в 1993-м стал деканом философско-богословского факультета Российского православного университета св. Иоанна Богослова. В 1996 году был назначен патриархом Алексием II профессором богословия. До 2007 года служил в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, а после в храме Архангела Михаила в Тропареве. В апреле 2009 года возведен патриархом Кириллом в сан протодиакона.
Экспорт итальянских игристых вин в Россию за четыре первых месяца этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 338%.
Такие данные приводятся в докладе исследовательской лаборатории Winemonitor центра Nomisma. Продолжающийся кризис вынуждает виноделов искать новые рынки – по оценкам Winemonitor, потребление вина в Италии за год снизилось на 6%. Итальянское вино, вслед за итальянским стилем жизни и модными марками одежды, приобретает все большую популярность в России.
Согласно докладу Winemonitor, экспорт итальянского вина за первые четыре месяца текущего года особенно увеличился в страны, не входящие в ЕС. Это США, Канада, Китай, Япония, Швейцария и Россия. Минимум роста экспорта зафиксирован в Японии (+5,4%), максимум – в России (+71,5%), отмечает Corriere della Sera.
За исключением Японии, во всех странах заметно вырос экспорт игристых вин, в то время как продажи тихих итальянских вин увеличились не столь значительно.
«Время, в которое мы живем - время перемен, время возможностей, время активных действий! - требует от нас восприимчивости нового, максимальной динамики в принятии решений, собранности и ответственности», - высказывание одного из участников прошлой выставки «WorldFood Kazakhstan» является главным девизов события.
Облик Казахстана за 20-летие независимости изменился. Каждый человек может открыть своё дело, добиться финансовой независимости, найти свое направление в малом бизнесе. А тематика выставок, которые пройдут в Алматы с 5 по 8 ноября 2013 года как раз для таких смелых бизнес-идей. В нескольких павильонах КЦДС «Атакент», казахстанская выставочная компания Iteca, с привлечением своих международных партнеров, проведет несколько экспо-событий, ставшими за десятилетия уже известными в регионе экспо-брендами:
• «WorldFood Kazakhstan» – международная выставка по теме «Пищевая промышленность», с 16-летней репутацией и сложившимся уровнем мероприятия и списком участников в этом году включающим более 300 компаний из 20 стран мира с новинкой выставки;
• «KazUpack» – предлагающая на своей площадке все виды упаковки: бумажная, гибкая, жестяная, стеклянная, пластиковая тара, плёнка, этикетка, ПЭТ из 8 стран мира;
• «ArgoWorld Kazakhstan» – выставка по теме «Сельское хозяйство», которая продолжает представлять все более углубленно животноводческий и птицеводческий секторы сельского хозяйства;
• «HOREX» – яркое экспо-событие с участием отельеров, рестораторов, поваров, кулинаров и бариста. В 2013 году выставка вновь пройдёт в Алматы и объединит насыщенную деловую программу;
• «CleanExpo»– специализированное мероприятие с многолетней традицией совмещения экспозиции с последними клининговыми нововведениями с тренингами и конкурсами.
Следует особенно отметить, что несколько государств, таких как Германия, Польша, Чехия, Венгрия ежегодно субсидируют свои компании для участия в данной выставке. Так и в этом году посетители смогут познакомятся с новинками компаний на национальных стендах вышеназванных четырех стран.
Традиционная география компаний-участниц «WorldFood Kazakhstan» в этом году пополнилась странами-новичками. На выставке будут представлены с масштабными и яркими экспозициями Национальные стенды Италии, Южной Кореи и Шри-Ланки. Последние привезут изысканные сорта чая (при этом экспонентами являются непосредственные производители и поставщики чая).
Новинкой выставки этого года станет «Ритейл Центр» для B2B встреч представителей сетей супер- и гипермаркетов с поставщиками продуктов питания. Участники должны записываться и указывать время встречи заранее, согласовывая с организаторами – компанией «Iteca». Компании приглашаются к участию!
Набирает обороты сектор хлебопечения на выставке «WorldFood Kazakhstan». Новостью события является объединение участников данного раздела в отдельном павильоне. Здесь будут представлены предприятия, поставляющие оборудование, ингредиенты, сырье, посуду, аксессуары, а также оказывающие консультационные услуги в хлебопекарном производстве.
Впервые на «KazUpack» отдельной секцией будет представлено «Складское оборудование». География компаний-участников «KazUpack» ежегодно расширяется: свою продукцию представят экспоненты из Казахстана, России, Беларуси, Турции, Китай, Кыргызстана, ОАЭ, Италии.
Посетителю выставки «ArgoWorld Kazakhstan» представится возможность просмотреть всю линейку технологий производства от вскармливания скота и птицы до упаковки конечной продукции. Компании представят оборудование и технологии для мясомолочный ферм, оборудование для птицефабрик, новинки в ветеринарии и кормопроизводстве. На конференции «AgriCA», которая пройдет 6 ноября, состоится обсуждение и дебаты по актуальным вопросам, возникающим в законодательной базе, в процессе субсидирования и производства в сельском хозяйстве.
Экспозиция «HOREX - Все для отелей, ресторанов, супермаркетов» представит компаний производителей текстиля, посуды и оборудования. Наряду с ними, впервые в этом году на «HOREX» организаторами будет реализована площадка.
В рамках выставки «HOREX» пройдут Кулинарный Фестиваль, при организации Казахстанской Ассоциации Шеф-поваров и чемпионат Бариста. Ожидается зрелищное выступление по флейрингу известного бармена, 3-кратного Чемпиона России – Сергея Булавкина. Запланирован ряд мастер-классов по приготовлению коктейлей с сиропами от компаний-участниц.
Казахстанская Ассоциация гостиниц и ресторанов (КАГИР) проведет семинары для отельеров по улучшению работы гостиничного бизнеса и конкурс на лучшую горничную. Центрально-Азиатская Ассоциация Клининговых компаний организует тренинги и конкурсы среди компаний представляющих прачечное и моющее оборудование, средства очистки.
Мировая статистика утверждает, что у большинства компаний 40% продаж происходит как раз за счет выставок, которые являются прекрасной возможностью заявить о себе как о серьезном деловом партнере, оценить конкурентоспособность своей продукции и ознакомиться с перспективными разработками в интересующей области. Статистика прошлого года свидетельствует, что WorldFood Kazakhstan посетили около 6 000 человек.
Сведения о выставке и деловой программе мероприятий обновляются на официальном сайте www.worldfood.kz.
Эдвард Сноуден, разгласивший секреты американских спецслужб, доволен своим выбором и не страшится сложившейся ситуации, передает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на журналиста газеты Guardian Гленна Гринвальда (Glenn Greenwald), который взял эксклюзивное интервью у бывшего сотрудника ЦРУ.
"Он волнуется относительно будущего, но при этом у него по-настоящему хорошее настроение из-за тех споров (в обществе), которые он вызвал. Он очень серьезен, ничего не боится и определенно счастлив сделанным им выбором", - сообщил агентству Гринвальд.
Журналист также отметил, что в ходе интервью, взятого 6 и 9 июля и опубликованного в среду, он не обсуждал планы относительно выбора политического убежища, которое Сноуден попросил в 27 странах. Вместе с тем Гринвальд отметил, что ему кажется логичным, что Сноуден предпочтет в качестве убежища Венесуэлу. Помимо этой страны готовность предоставить разоблачителю убежище выразили Боливия и Никарагуа.
Как развивалась история нового разоблачителя США
Сноуден, который 23 июня прибыл из Гонконга в Москву как транзитный пассажир, в начале июня распространил секретный ордер суда, по которому спецслужбы США получили доступ ко всем звонкам крупнейшего сотового оператора Verizon, а также данные о сверхсекретной программе американского Агентства нацбезопасности PRISM, позволяющей отслеживать электронные коммуникации на крупнейших сайтах.
Где уже отказались принять Эдварда Сноудена
Почему Сноудена нигде не ждут
Ранее портал WikiLeaks опубликовал список из 21 страны, в которых Сноуден запросил убежище. По данным сайта, речь идет об Австрии, Боливии, Бразилии, Венесуэле, Германии, Индии, Ирландии, Испании, Италии, Китае, Кубе, Нидерландах, Никарагуа, Норвегии, Польше, России, Финляндии, Франции, Швейцарии, Исландии и Эквадоре. Предоставить убежище Сноудену уже отказались Франция, Италия, Нидерланды, Польша, Австрия, Финляндия, Ирландия и Испания.
Почему экс-агент ЦРУ отказался остаться в России
Экс-сотрудник ЦРУ высказывал просьбу об убежище в России. Москва неоднократно заявляла, что по ряду причин не выдаст Сноудена США. Однако оставаться в России американец отказался. Он отозвал свою просьбу, узнав о поставленном президентом России Владимиром Путиным условии - перестать наносить ущерб американским партнерам.
Как Латинская Америка открыла двери американскому разоблачителю
В воскресенье глава венесуэльского МИД Элиас Хауа заявил, что власти Венесуэлы, предложившие беглому экс-сотруднику спецслужб США гарантии предоставления убежища, ждут от него ответа на это предложение. Ранее готовность принять у себя Сноудена, если он направит официальный запрос об этом, выразил и президент Боливии Эво Моралес. Третьей страной, решившей помочь американцу, стала Никарагуа.
Правительство Бразилии намерено развивать в стране религиозный туризм и планирует профинансировать развитие пяти муниципалитетов, являющихся лидерами в данной сфере. Речь идет о городах Апаресида (штат Сан-Паулу), Нова-Тренту (штат Санта-Катарина), Триндади (штат Гояс), Санта-Крус (штат Риу-Гранди-ду-Норти) и Браганса (штат Пара). Во всех этих городах крайне сильны традиции, связанные с религией; в некоторых из них расположены святилища. Каждый из них получит от 35 000 до 50 000 евро на развитие туристических инициатив, связанных с данной тематикой.
Апаресида считается бразильской столицей народных религиозных праздников; кроме того, в городе расположено святилище Носса-Сеньора. Триндади известен благодаря торжествам в честь Бога-Отца, в честь которого в городе были возведены базилика и святилище. Нова-Тренту получил известность после того, как в 1985 г. Папа Римский Иоанн Павел II причислил к лику святых Паулину фон Маллинкродт, в честь которой здесь построено святилище. Брагансу прославило поклонение местных жителей святому Бенедикту, которому посвящены обелиск и святилище. В свою очередь, в Санта-Крус хранится крупнейшая во всей Латинской Америке статуя святой Риты из Кашии.
Специалисты итальянского Консорциума, объединяющего ведущих производителей и поставщиков киви, в этом месяце опубликовали 10-бальный справочник «DECALOGO DELLA QUALITA».
Документ был подготовлен техническим комитетом организации с учетом самых последних испытаний и исследований. В нем дается оценка различных методов ведения сельского хозяйства, их влияния на качество выращенных киви (содержание сахара и других минералов, веществ и витаминов), а также других характеристик, которые могут способствовать достижению большей популярности у потребителей.
Справочник Консорциума направлен на предоставление информации именно для производителей. И каждый желающий может бесплатно загрузить его на сайте организации - kiwitaly.com.
Банк Ватикана оказался замешанным в очередном налоговом скандале, после того как один из его руководителей был уличен в контрабанде денежных средств для клиентов.На прошедшей неделе, после того как средства массовой информации предположили в очередной раз, что Банк Ватикана активно используется в схемах уклонения от уплаты налогов, в вынужденную отставку ушли директор данного банка Паоло Киприани и его заместитель Массимо Тулли.
Отставка стала следствием того, что несколько дней назад при попытке нелегального ввоза в Италию 20 миллионов евро наличных денежных средств был задержан ведущий бухгалтер банка Нунзио Скарано.
После задержания ему было предъявлено обвинение в том, что данная сумма ввозилась от имени состоятельного швейцарского клиента, и впоследствии должна была быть размещена на секретных депозитных счетах в Банке Ватикана.
К моменту своего задержания, бухгалтер уже находился под негласным наблюдением сотрудников полиции Италии в ходе расследования сомнительных банковских операций, прошедших через банк под видом добровольных пожертвований.
В ответ на столь серьезные обвинения, руководство банка уже выступило с официальным заявлением, уведомив, что ими создается новая служба, целью которой станет наблюдение за операциями банка с целью обеспечения их полного соответствия международной системе противодействия уклонению от уплаты налогов.
Двое в лодке, не считая Европы
Украина отказалась закачивать российский газ в свои подземные хранилища, рискуя вызвать паралич газотранспортной системы предстоящей зимой
…Зимняя стужа сковала Европу: в центре России — до минус сорока, в Украине — около минус тридцати, в Западной Европе — до двадцати с небольшим мороза. Слишком холодно: с перебоями работает общественный транспорт, дети не ходят в школу, многие организации объявили вынужденные каникулы. Вечером по телевидению Праги, Варшавы и Берлина транслируется экстренное сообщение об остром недостатке поставок газа с востока. Тут же выясняется, что не идет транзит через Украину. Заиндевевшие европейцы обрывают телефоны в Москве, та кивает на Киев…
Это вовсе не описание январских событий 2009 года. Такое вполне может произойти нынешней зимой, поскольку украинские подземные хранилища газа (ПХГ) рекордно пусты. Достаточно будет мощного арктического антициклона.
По состоянию на конец июня нынешнего года в ПХГ Украины находилось всего 7,5 млрд кубометров природного газа. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, добавив: «Мы видим серьезные риски для транзита». Возможно, украинские чиновники их не видят, однако на аналогичную дату прошлого года в хранилищах находилось почти 12 млрд кубических метров.
В конце июня министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что Украина в свои ПХГ будет закачивать не газпромовский, а европейский газ. Правда, по происхождению он всё равно российский или среднеазиатский, однако юридически получен в рамках реверса из Европы. В ответ глава «Газпрома» разразился целым потоком недружественных выступлений. В частности, призвал европейские компании не хранить газ в украинских ПХГ и сообщил, что никаких переговоров о создании совместного консорциума по управлению отечественной газотранспортной системой нет (см. «Газообразно и разнообразно»).
Но для экономик востока Евросоюза, Украины и России не столь важно, чей газ будет храниться под украинской землей. Важны маневровые объемы на случай массированного отбора. По словам Ставицкого, к началу отопительного сезона страна рассчитывает накопить 14–16 млрд кубометров топлива в ПХГ. Между тем обычно к этому времени в украинских подземных емкостях имеется не менее 20 млрд кубов. Для стабильного прохождения зимы и выполнения обязательств по транзиту перед «Газпромом» Украина ежегодно покупала у него и закачивала 14–15 млрд кубометров топлива (остальное — буферный, то есть неизвлекаемый газ).
Согласно действующему транзитному контракту с «Газпромом», НАК «Нафтогаз України» обязана осуществлять закупки газа в объемах, которые обеспечили бы достаточное наполнение ПХГ к началу осенне-зимнего сезона. Ибо в период зимних холодов топливо, поднимаемое из хранилищ (а они расположены преимущественно в Западной Украине), используется не для обогрева помещений, а служит для поддержания контрактного давления на западной границе, то есть идет на транзит.
Таким образом, закачка газа под землю в значительной мере осуществляется в интересах «Газпрома». В Москве это понимают. Именно поэтому российский газовый монополист регулярно выделял компании «Нафтогаз України» авансовые платежи в счет будущего транзита. За эти деньги обычно летом она газ и покупала. Несмотря на острую фазу конфликта и неготовность вести переговоры со Ставицким (их по-прежнему ведет Юрий Бойко, теперь уже в ранге вице-премьера), «Газпром» 27 июня перечислил «Нафтогазу» миллиард долларов. Таким образом, общая сумма аванса с начала 2012-го выросла до 5,15 млрд долларов. По расчетам москвичей, предоставленных средств достаточно для оплаты транзита российского газа по территории Украины до начала 2015 года. «Больше мы авансировать транзит не будем», — подытожил Миллер, что, помимо всего прочего, автоматически ставит под вопрос закупки газа летом следующего года.
Старая и новая ссоры
До 2005 года «Газпром» сам закачивал газ в украинские подземные емкости.
После избрания Виктора Ющенко на пост президента Украины новая власть пыталась по-новому выстроить газово-транзитные отношения с Россией. В итоге разразился громкий скандал вокруг внезапно исчезнувших из хранилищ 7,8 млрд кубометров российского газа, закачанного в 2004-м. Руководству «Газпрома» удалось навязать тогдашнему главе НАК «Нафтогаз України» Алексею Ивченко свою игру, в результате которой украинская компания признала этот газ «буферным», то есть необходимым для поддержания давления в ПХГ. В результате бóльшая часть топлива была продана компании «РосУкрЭнерго», а оставшиеся 2,5 млрд кубов Украина обязалась оплатить всё той же транспортной работой. «Проблема в том, что его (газ) оттуда нельзя извлечь, так как он уже выполняет функции буферного. Украинская сторона заявила, что готова его оплатить…», — цитировала российская газета «Время новостей» слова зампреда правления «Газпрома» Александра Рязанова.
Опуская подробности, скажем лишь, что после скандала «Газпром» переложил все риски транзита в Западную Европу исключительно на «Нафтогаз».
Миллер 28 июня нынешнего года напомнил журналистам об этой истории и заявил: «Мы приняли очень жесткое решение — никогда и ни при каких условиях не закачивать свой газ в украинские ПХГ».
Одновременно глава российского газового монополиста дал понять, что «Газпром» будет всеми способами противодействовать возможному использованию украинских ПХГ европейскими компаниями. А Ставицкий утверждает, что интерес к использованию наших хранилищ проявляют немецкий концерт RWE и другие компании. По словам главного инженера ПАО «Укртрансгаз» Игоря Лохмана, Украина готова предоставить иностранным клиентам подземные мощности емкостью до 15 млрд кубометров.
Теоретически это возможно сделать двумя путями. Первый — реверсные поставки газа с запада на восток, несмотря на многочисленные заявления «Газпрома» о незаконности такой схемы. Сегодня страна ежесуточно получает из Польши и Венгрии по пять миллионов кубометров с перспективой наращивания венгерских мощностей до 12 млн кубов с августа. Подсчет показывает: до середины октября так можно получить всего 1,6 млрд кубометров. Второй путь — газ, физически идущий из РФ на Запад, формально (юридически) становится немецким либо, скажем, австрийским на украинской территории — и закачивается под землю. Но на это «Газпром» не согласится. В подавляющем большинстве его контракты с западными контрагентами предусматривают продажу газа европейским покупателям далеко к западу от границ Украины, например, в Баумгартене (Австрия), где находится Центральноевропейский газовый хаб.
Опасный эксперимент
«Укртрансгаз» не спешит делиться с общественностью объемами закачки топлива. Известно лишь, что импорт газа ниже прошлогоднего на 27%, причем в последние месяцы Украина этот товар почти не закупает. Если смотреть на газовые цены, в таком промедлении есть смысл. Во втором квартале российский газ обходился нашей стране в 426 долларов за тысячу кубометров. В третьем — цена составит около 400 долларов, заявил на прошлой неделе Ставицкий, отметив, что получаемое с европейской территории топливо обходится примерно на 30 долларов дешевле. Согласно оценкам российского «Газпрома», среднегодовая цена для Украины — 351 доллар (газовые расценки для нашей страны привязаны к котировкам нефтепродуктов в Европе, а те снижаются). Но даже с учетом этого удешевления российского миллиарда долларов хватит менее чем на три миллиарда кубометров, что никак не решает вопрос о накоплении в хранилищах нужных объемов. Дополнительных денег нет ни у НАК «Нафтогаз України», ни в бюджете государства. На фоне сложной внешнеэкономической конъюнктуры правительству предстоит погашение долгов (по внешним и внутренним облигациям) на 4,5 млрд долларов в третьем квартале и на 3,2 млрд долларов — в четвертом.
В итоге правительство занялось «топливной продразверсткой». Сделать свой вклад в дело наполнения «газовых закромов» Родины министры обязали негосударственные добывающие компании. Кабмин 19 июня принял беспрецедентное распоряжение: частные добытчики с 1 июля до начала отопительного сезона обязаны закачивать 50% своего газа в ПХГ с правом извлечь его оттуда после 15 октября. Сам текст документа не обнародован, а менеджмент частных компаний под диктофон ситуацию не комментирует, но, понятное дело, называет ее произволом и самоуправством. Ведь выручку компании теряют, а рентные платежи платят из расчета всего добытого объема топлива. Частникам светит срыв обязательств по долгосрочным контрактам на продажу газа и финансированию инвестпрограмм.
Однако эта мера тоже не решит проблему пустых хранилищ. Годовые объемы добычи негосударственными компаниями — около двух миллиардов кубометров. Значит, за оставшиеся до начала отопительного сезона три с половиной месяца они способны закачать не более 0,3 млрд кубов.
Если «Нафтогаз» и «Газпром» не урегулируют вопрос с наполнением газовых хранилищ в этом году, под угрозой может оказаться выполнение долгосрочных контрактов на поставки российского газа в страны Центральной и Западной Европы. Именно они приносят львиную долю выручки «Газпрому» и являются залогом его стабильного функционирования. От поставок газа с востока зависят около 30% потребителей Евросоюза. Следовательно, скорее всего, в третьем квартале 2013 года «Нафтогаз» и «Газпром» каким-либо образом урегулируют спорные вопросы, и объемы закачки газа в ПХГ существенно вырастут. Возможно даже, несмотря на громкие заявления, россияне вернутся к практике первой половины 2000-х и закачают в украинские хранилища свой газ.
В противном случае с началом зимы европейские потребители могут ощутить все прелести ограничения поставок, как это уже было в холодном феврале 2012 года. Распространение арктического воздуха на бОльшую часть континента тогда вызвало значительный рост потребления газа, который не смогли компенсировать ни увеличение объемов добычи «Газпромом», ни стахановская работа украинских ПХГ. В итоге замерзли крайние на трубе — Болгария, Австрия, Италия. При таком сценарии «Газпрому» не миновать судебных исков со стороны европейских контрагентов. Теоретически россияне могут переадресовать претензии «Нафтогазу». Но пока они не спешат судиться с украинской стороной, хоть та и не выполняет печально знаменитое условие «качай или плати», прописанное в газовом контракте 2009-го, и демонстративно не выбирает ни 52, ни 33 млрд кубометров годовых закупок газа (см. также «Три буквы на семь миллиардов»). Не спешат, ибо понимают, что денег у Украины всё равно нет.
Есть, правда, конспирологическая версия о том, что Москва попытается обострить конфликт, довести Европу до замерзания и таким образом напугать ее, чтобы та дала добро (и выделила деньги) на новые газопроводы в обход Украины — «Южный поток» и «Ямал — Европа-2». Но пока сильные холода 2009-го и 2012 года европейцев к этому не сподвигли. Более того, на прошлой неделе министр госказначейства Польши Влодзимеж Карпиньский заявил, что Варшава не планирует строить «Ямал — Европа-2» по территории Польши.
Автор: Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий
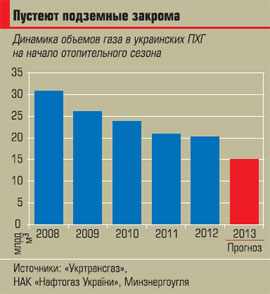

Худой газовый мир
Свара по газовому вопросу между Украиной и Россией длится уже девять лет. Накопилось множество взаимных обид, сказано немало резких слов, каждой из сторон есть что вспомнить и что предъявить. Только это неконструктивно
«Что вам нужно — справедливость или семейное счастье?» Именно такой вопрос психологи рекомендуют задавать себе во время семейной ссоры.
Есть «Газпром», который зарабатывает на экспорте газа в Европу. За прошлый год его чистая выручка от продажи газа составила 721,49 млрд рублей (падение на 17%), от экспорта голубого топлива — 386,6 млрд рублей (падение на три процента). То есть вывоз приносит российскому газовому монополисту более половины доходов, причем внешние рынки сокращаются медленнее внутреннего.
Есть Украина, через которую газ идет на Запад. Причем в некоторые европейские страны российский товар может попасть только через нашу территорию. Россия пытается выстроить обходные пути, но дело это долгое, а до очередного отопительного сезона осталось меньше четырех месяцев.
Есть Европа, которая не хочет мерзнуть зимой. А именно это ей и грозит, потому что для стабильного экспорта газа зимой в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за лето должен накопиться газ. Но его там нет, вернее, его там очень мало — 7,5 млрд кубометров против 12 млрд годом ранее. К середине октября наши власти обещают накопить 14–15 млрд, в прошлом году к тем же срокам в ПХГ было около 20 млрд, а в 2008-м — 30,7. Но именно зимой-2008/2009 разразилась печально знаменитая украино-российская газовая война, в результате которой хуже стало всем.
Стоит помнить, что замерзающий Запад не пожелал лезть в украино-российские дрязги. Пусть у стран-членов Евросоюза есть договоры с Москвой, и если та не сможет выполнить обязательства по поставкам, ей можно будет вкатить иск в международном арбитраже. Но только иском, даже выигранным, не обогреть собственных граждан, которые и так нервничают из-за кризиса и готовы, если что, сместить руководство страны (в феврале нынешнего года внеочередные парламентские выборы проходили в Италии, в мае — в Болгарии).
Москва плохо читает украинских классиков. У Ивана Франко есть рассказ «Добрий заробок» (он и на русском публиковался, в переводе Леси Украинки), так там одна из финальных фраз — «голого не обдереш». Это к вопросу о кабальных условиях «качай или плати» и одних из самых высоких в Европе цен на газ. Ведь нам не нужно 52 млрд кубов газа по 400–450 долларов за тысячу кубометров, и это было очевидно с самого начала.
После прошлой зимней газовой войны, в 2009-м, все три стороны активно обговаривали возможность совместной эксплуатации украинской газотранспортной системы. Мол, будет создан консорциум на троих, и такие проблемы можно будет решать совместно.
С тех пор схемы создания гипотетического консорциума пересматривались неоднократно. Всё без толку. Видимо, стороны прониклись украинской народной мудростью «якось воно буде, бо не може того бути, щоб не було ніяк». Ибо — как и в случае с регулярным подорожанием российского газа для Украины или с потерей внешних рынков металла и удобрений — регулярно оказывалось, что предсказанный апокалипсис так и не наступал, все как-то приспосабливались.
Но с каждым годом ситуация становится всё серьезней. И если мать-природа нашлет на Европу суровую русскую зиму, быть беде.
Игра на деньги
В проекте StartUp «Итоги» продолжают рассказывать о самых успешных и харизматичных предпринимателях, создавших свой бизнес с нуля. Наш новый герой — Павел Теплухин — начинал с деловой игры и доигрался до создания российского фондового рынка
Павел Теплухин необычный бизнесмен. Создавал не просто компании, а целые рынки — от фондового до пенсионного, на которых впоследствии расплодились конкуренты. Быть первым, с одной стороны, выгодно и почетно. С другой — страшно и требует умения рисковать. О том, как предсказать дефолт, за пару месяцев придумать экономическую программу для Путина, и о многом другом Павел Теплухин рассказывает в рамках проекта StartUp.
— Павел Михайлович, большинство наших нынешних «форбсов» скромно как-то бизнес начинали: кто джинсы варил, кто электродрелями торговал. А вы, академический ученый, сразу начали с создания биржи. Первой в стране...
— Эта биржа не была первой — к тому времени существовало множество товарных бирж. Нас же интересовала торговля ценными бумагами. Сначала это было просто академическое упражнение. В то время я работал в Центральном экономико-математическом институте Академии наук, который в конце 80-х был одним из соучредителей совместного советско-американского предприятия «Диалог». И тогда в рамках этого СП, где работали десятки тысяч людей, возникла идея запустить систему премирования работников акциями. Акционерных обществ не было, рынка, понятно, тоже, и эти акции, конечно, были больше виртуальными. Но хотелось, чтобы они приобрели какую-то стоимость. Для этой цели руководство института вызвало к себе несколько молодых сотрудников и спросило: знаем ли мы что-нибудь про биржу. Мы ответили утвердительно, и нам поручили создать такую внутреннюю биржевую площадку, на которой котировались бы ценные бумаги, выдаваемые работникам.
— Про биржу в то время у нас знали в основном по трилогии Теодора Драйзера...
— В общем, да. Наши знания были скорее теоретическими. И сначала было создано то, что получило название Столичная фондовая биржа. Потом этот опыт был взят за основу при создании Московской межбанковской валютной биржи. А раз есть биржа, на ней должна была появиться брокерская контора — чтобы осуществлять операции с акциями от имени многочисленных сотрудников. Этой конторой и стала «Тройка Диалог» в 1991 году. Это была деловая игра, не более. А деловые игры — это то, чем мы у себя в отделе института занимались профессионально. Моделировали поведение предприятия, его сотрудников, систему их мотивации и так далее в совершенно разных системах координат. Потом эта игра превратилась в реальность.
— Реальность соответствовала вашим теоретическим выкладкам?
— Я могу сказать по-другому. Мы сами создавали эту реальность. Нам было бы сложнее, если бы она к тому времени уже существовала и пришлось бы ее менять. А так как в СССР в то время не было бирж, не было брокерских контор, не было акций, то ту теоретическую модель, которую мы построили, используя свои знания, мы и воплотили в жизнь. В целом нам это было несложно, хотя и очень интересно. Мы даже не предполагали, что биржа, в создании которой мы принимали активное участие, через двадцать с лишним лет превратится в крупнейшую фондовую площадку страны, что будет создан единый центральный депозитарий. Мы просто проводили свою деловую игру.
— Забегая вперед: теперь, когда все это уже не игра, вы результатами довольны?
— Дело в том, что в этом сегменте конкуренция происходит не на национальном, а на глобальном уровне. У крупных российских эмитентов есть выбор, где им размещать свои акции — на Нью-Йоркской бирже или на Лондонской, а не только на Московской. В этом смысле ММВБ не является монополистом, а находится в конкурентной среде. Понятно, что, когда мы говорим о конкуренции бирж, имеем в виду не деньги. Это качество правовых систем, наличие или отсутствие клиентской базы, развитость или неразвитость современных технологий. Конкуренция — именно про это.
— Но когда вы с партнерами создавали «Тройку Диалог», такой конкуренции в помине не было.
— Конечно. Тогда никого не было. Тогда и рынка в России не было. Еще раз повторяю: это была игра. Игра на деньги, но все-таки игра. Мы у одних сотрудников покупали акции, другим продавали.
После этого я продолжал работать в институте Гайдара, в лаборатории, которая занималась вопросами приватизации. Там изучали различный ее опыт как в постсоветских, так и в капиталистических экономиках. Там и родилась некая конструкция, которая в конце концов была реализована в России. А уже на ее базе ваучер стал самой ликвидной ценной бумагой и родилась вся индустрия. Но это было уже в 1993—1994 годах. Система включила в себя и брокеров, и дилеров, и депозитарии, и клиринговые палаты, и так далее. Только тогда сформировалась вся та совокупность элементов, из которых состоит современный фондовый рынок. Он пошел от ваучеров. Через компанию «Тройка Диалог» их прошло несколько миллионов.
— Удалось выгодно реализовать чеки?
— Мы-то сами себе ничего не покупали. В то время были хотя и неглупыми, но небогатыми. Мы были только посредниками. Кто-то, у кого были капиталы, просил, чтобы мы купили ваучеры, которые потом использовались при приобретении тех или иных пакетов акций. Через «Тройку Диалог» прошло от трех до четырех процентов всех ваучеров, имевших хождение. Это довольно заметная доля. Конечно, мы не могли тягаться с западными брокерскими конторами. Но по сравнению с тогдашними российскими, такими как «РИНАКО Плюс», «Грант» — всех и не упомнишь, — были довольно крупным игроком.
— Что вы скажете о сотрудничестве с вашим тогдашним партнером Рубеном Варданяном?
— Роль Рубена в становлении компании трудно переоценить. Я все в игры играл, наукой занимался. А Рубен с самого начала был сфокусирован на построении именно «Тройки Диалог», чтобы она работала. И ее рост, национальный и международный успех, превращение в настоящую корпорацию маленькой брокерской конторы под названием «Тройка Диалог» — в первую очередь заслуга Рубена Варданяна.
— Вы фактически первыми начали создавать рынок коллективных инвестиций, работать в области private banking. Идеями подпитались в Лондонской школе экономики?
— По-разному. Идею развивать рынок коллективных инвестиций в начале 90-х подбросил один из наших соучредителей, американец Питер Дерби. Он так и говорил: если в России было 140 миллионов ваучеров, то, значит, какие-то представления о фондовых инструментах у населения имеются. Поэтому есть смысл создать массовый продукт, как в Америке. Конечно, предложить — это было одно, а сделать — совсем другое. Необходимо было написать несколько законов, построить с нуля инфраструктуру спецдепозитариев, спецрегистраторов, систему контроля за структурой активов в паевых инвестиционных фондах и так далее. Для граждан рынок коллективных инвестиций должен был быть таким же простым, как «Макдоналдс». Иначе он бы не заработал. И мы это сделали. Хотя работы было очень много.
В этом смысле запуск индустрии коллективных инвестиций был непростым. Сначала его правовая система создавалась на уровне указов президента, потом, после того как была наработана некая практика, написали закон. Закон очень тяжело проходил через Госдуму. Там были фракции, которые заявляли: «Ни пяди родной земли не отдадим» — и так далее. Это был 1996 год. А через 5 лет у нас уже была сотня тысяч клиентов. И когда нам говорили, что в России нет среднего класса, мы отвечали: «Зайдите к нам в офис «Тройки Диалог» и можете познакомиться». Так что это было заимствование чисто из американского опыта. Одновременно мы запустили еще и взаимный фонд в США. На нас смотрели как на полных идиотов: пришли какие-то русские, в Гарвардах не учились, куда им в наш калашный ряд! Но в июне 1996 года мы запустили первый американский инвестфонд, который управлялся россиянами. Стали занимать даже первые места в американских рейтингах. К нам начали относиться серьезно. Потом мы из этого бизнеса вышли.
А вот с private banking старт был другой. Я ездил в Лондон, приехал оттуда обогащенный идеями, какое-то время помогал российскому правительству, а потом решил, что нет, мне надо вернуться назад, в частный бизнес. И когда в середине 90-х я вернулся в «Тройку», долго думал, в чем мое конкурентное преимущество. С этого начинается любой бизнес-проект. И выяснилось, что мое главное конкурентное преимущество — это моя телефонная книжка, в которую были записаны номера всех известных на тот момент людей в России. Эти люди, которые так или иначе пользовались моими советами и оценками, позволяли себе звонить посреди ночи и спрашивать меня, что у нас будет с инфляцией и обменным курсом. И я решил, что я тоже могу позвонить им и поговорить о моих проблемах.
— Например, раскрыть вам какую-то инсайдерскую информацию?
— Нет, конечно. О чем вы! Вы же спросили, с чего начался private banking в нашей стране. Я и рассказываю. Я имел в виду, что многие в России не откажут уделить мне полчаса. А этого мне будет достаточно, чтобы объяснить им, что большие деньги — это одновременно и большие проблемы и я готов помочь с их решением.
— То есть, с одной стороны, вы создавали правила игры на фондовом рынке, а с другой, в эту игру играли сами. Не возникало конфликта интересов?
— У нас там стояли такие «китайские стены», что мама не горюй. Никаких конфликтов интересов и возникнуть не могло. Мало того, к нам приезжали американцы из их комиссии по ценным бумагам и внимательно смотрели, как мы исполняем прописанные в законах процедуры. И признавали, что требования у нас в этом смысле достаточно высокие.
— Тогда объясните, почему в стране с континентальными юридическими традициями право регулирования фондового рынка создавалось и до сих пор осуществляется на основе англосаксонской системы?
— Это действительно так. Случилось то, что случилось. Мы скопировали американские биржи и американский рынок и мало обращали внимания на континентальный европейский опыт. Наверное, это связано с тем, что американцы легки на подъем и охотнее делятся знаниями и опытом. А европейцы более консервативны. Объяснить это можно по-разному. С российскими масштабами американская модель нам ближе, чем европейская, где фондового рынка как такового мало. Так там повелось. Долей в капитале, тем более публично, там мало кто делится. Все построено на кредитах. Центрами финансового рынка являются банки, а не биржи. Это две разные модели. Но в тот момент, когда в России возникал свой собственный финансовый рынок, на эту тему вообще никто не думал. Хотя я не считаю, что была совершена ошибка.
— Видимо, от широты нашей территориальной и душевной и появились «МММ», «Русский дом селенга» и прочее в том же духе?
— Это было связано с отсутствием финансовой грамотности у населения, пробелами в законодательстве, недостаточностью опыта у регуляторов. Эта совокупность факторов привела к появлению финансовых пирамид. Они мешали всем: и регуляторам, и участникам рынка, и клиентам. После их банкротства люди были заражены геном недоверия еще долгие годы. А вся индустрия фондового рынка целиком и полностью зависит именно от уровня доверия к нему со стороны населения.
— Мы с вами поговорили про начало и середину 90-х. Настал черед 98-го. Как вам удалось тогда сохранить бизнес?
— 1998-й на самом деле мы вычислили. С коллегой из Гарвардского университета Эндрю Уорнером построили математическую модель рынка ГКО, и она предсказывала, что он должен грохнуться в сентябре 1998 года. Нашим научным руководителем тогда был Джеффри Сакс, если вы такого помните. Я эту модель представил своим партнерам в «Тройке Диалог» в конце мая — начале июня 1998 года. Если честно, мне не очень поверили. В тот момент многие ответственные государственные мужи со всех телеэкранов заявляли, что такого не может быть, потому что не может быть никогда. Но на всякий случай мы подстраховались и значительную часть денег из ГКО вывели. Более того, потом я придумал, как можно было бы избежать этого дефолта.
— И как же?
— Вы знаете, например, что в то время ни в одном законе и ни в одном нормативном акте в России не была закреплена стопроцентная гарантия государства по вкладам в Сбербанке? Но почему-то у всех граждан каким-то образом в голове всегда сидело мнение, что эти вклады гарантированы! Если хранишь деньги в сберкассе, то там все надежно! Кто им эту мысль вбил, не знаю. Как может быть, что государство банкрот, а самый крупный банк страны таковым не является? И я считаю, что тогда абсолютно по-честному государству надо было прийти в Сбербанк и сказать: «Ты пользуешься неявной гарантией государства, а за это надо платить».
— И, как на Кипре, постричь вклады граждан?
— Нет-нет. Ни в коем случае. Реструктуризацию следовало провести в отношении только портфеля ГКО Сбербанка. Сказать, что погашение купленных им «коротких» ГКО откладывается на два-три года. Этого даже никто и не заметил бы! И пассивы с активами у Сбербанка нормально бы сходились, и набега вкладчиков не было бы. Эту модель можно было применить. По цифрам получалось. Но сделали то, что сделали.
Так вот, мы предсказывали сентябрь. А 13 августа я обедал в Лондоне с коллегой из одного крупного западного банка. Это был четверг. И она мне среди прочего вдруг говорит: «Что-то сегодня не заплатил один русский банк». В этот момент нечто в мозгу щелкнуло, и я сказал: «Вот, началось...» Собственно, в запасе была только пятница. Я позвонил в компанию и предложил заплатить все налоги на полгода вперед. Мы это сделали. А потом, в понедельник, случилось — выплаты по ГКО заморозили.
— Академическая, как вы говорите, игра на деньги между тем продолжалась. В начале нулевых вы взялись за новый стартап: построили один из первых в России негосударственных пенсионных фондов.
— Первоначальная задумка была про другое. Когда Владимир Путин баллотировался в президенты, ему срочно нужна была программа экономического развития. Германа Грефа призвали в Центр стратегических разработок и поручили за пару месяцев сделать долгосрочную стратегию. Задача выглядела невыполнимой. Однако надо отдать должное Герману Оскаровичу, который поступил как талантливый менеджер, обратившись к экспертному сообществу с просьбой предоставить уже имеющиеся готовые концепции — нечто продуманное, прописанное — например, программы реформ и так далее. Так оказалось, что у нас в «Клубе 2015» была сформулирована концепция реформы пенсионной системы. Она и была предложена ЦСР, вошла в правительственную программу.
Все понимали, что распределительная пенсионная система должна умереть. Потому что когда у тебя на одного пенсионера приходится один работающий, вы должны заработать на себя, свою семью, а потом еще через госсистему распределения прокормить пенсионера, которого в глаза не видели. Понятно, что такая ситуация сложилась потому, что государство не позволило пенсионерам ничего накопить. Нужна была другая система. Какая? Накопительная. Как было перейти к ней? Главная проблема — проблема переходного периода. На этот переход должно уйти 20 лет. Как 20 лет платить пенсию тем поколениям, которые не накопили, но уже выходят на пенсию, и при этом дать возможность накопить трудоспособным? Только через приватизацию. Одно цепляется за другое. Для управления накоплениями нужны пенсионные фонды, управляемые частными компаниями. У государства неправильное понимание системы риска: у него мотивация не зависит от результата. Поэтому чиновники не должны управлять частными деньгами. А частники пусть инвестируют на фондовом рынке.
Конструкция была создана, нужные законы написаны. Сделали, работает. Теперь пытаются разрушить. Понятно, что бюрократам данная система неинтересна: такой массив денег и без ее контроля! Нападок и тогда было много, и сейчас немало. Последние, судя по всему, оказались результативными. К нынешним новациям правительства в пенсионной сфере я отношусь без энтузиазма.
— Вы участвовали в создании первой биржи. Тогда все получилось. Другие люди сегодня создают в Москве международный финансовый центр. Как вам такой стартап?
— Все может получиться. Это как Ницца, например. Никогда бы не было этого города, если бы некая группа друзей из Великобритании в XVIII веке не решила сделать международный курорт. Вот они приехали на Лазурный Берег Франции, построили Английскую набережную и вокруг нее город. Так же арабские сибариты приехали на Сардинию, построили несколько домов и решили там тусоваться. Какая такая Сардиния? Море там обычное, ничего особенного не растет. А курорт международного класса. Самая дорогая недвижимость. Так и с московским финцентром. Инфраструктура есть, Интернет скоростной есть. Замечательно! Но хоть один энтузиаст нашелся? Кто-то из инвесторов должен прийти и сказать: «Мне нравится». И у этого человека должны быть знания и авторитет.
— В свое время энтузиасты нашлись и собрались в «Клуб 2015»...
— Это случилось сразу после дефолта 1998 года. Было довольно больно, если честно. Мой знакомый Сергей Воробьев, который сейчас возглавляет компанию Ward Howell, лично знал многих топ-менеджеров и владельцев российских корпораций. Он нас, Андрея Арофикина, Романа Петренко, Константина Шаповаленко, Ольгу Дергунову и многих других, собрал у кого-то на даче и сказал: «Корпорации свои построили, а страну профукали». И мы решили, что надо сделать так, чтобы не стыдно было. И создали такой неформальный клуб. Мы обсуждаем будущее страны и стараемся делать что-то, чтобы оно становилось лучше. Назвали его «Клубом 2015», имея в виду, что к этому времени мы будем в предпенсионном возрасте и посмотрим, решили мы задачу или не решили.
— Осталось всего два года. Решили задачу?
— Сначала работали довольно успешно. Многие наши задумки реализованы. В том числе и пенсионная реформа, налоговая. Какие-то вещи — нет. Наверное, мы все немножко расслабились, опять сфокусировались на бизнесе. Так что сейчас клуб превратился в площадку для обмена опытом.
Константин Угодников
Анкета
Имя Павел Михайлович Теплухин.
Компания Группа Дойче Банк в России.
Должность Главный исполнительный директор.
Возраст 49 лет.
Место рождения Москва.
Образование Московский государственный университет (1986), Лондонская школа экономики (1993).
Год и возраст вступления в бизнес 1991 год, в 27 лет.
Когда получил первый миллион Существенно раньше, чем осознал это.
Нынешнее состояние Достаточное, чтобы заниматься любимой работой.
Цель в бизнесе Сделать мир красивее.
Место жительства Москва.
Отношение к политике За демократию и частную собственность.
Власти города пытаются решить проблему «распущенного поведения» среди гондольеров, власти региона — проблему поддельного просекко.
Городской совет Венеции получает все больше жалоб на пьяные выходки гондольеров, сообщает the Drinks Business. По информации The Daily Telegraph, ситуацию с историческим транспортом в городе недавно начали рассматривать на самом верху — это произошло после того, как один из претендентов в ассистенты гондольера подвергся эпизоду дедовщины, в ходе которого ему пришлось прыгнуть в Большой канал обнаженным.
После этого эпизода президент ассоциации гондольеров Никола Фалькони выступил с требованием ввести обязательные тесты на алкоголь и наркотики для всех перевозчиков.
«Учитывая, что случаи такого распущенного поведения становятся все более частыми, я предлагаю ввести проверки. Они будут проводиться без предупреждения. Мы пока не знаем, практичная ли это мера, но по крайней мере мы должны начать искать пути решения этой растущей проблемы», — поделился он в интервью итальянскому новостному агентству Ansa.
Порядок в регионе Венето власти пытаются навести и другими способами: молодой энолог Андреа Баттистелла был недавно назначен «полицеским просекко». В его обязанности входит выявление поддельного просекко и контроль за тем, чтобы в барах и ресторанах это вино всегда разливалось из бутылки, а не из декантера или в розлив. Нарушителям этого правила грозит штраф до €20,000.
FIAT ИСПОЛНИЛ ОПЦИОН НА ПОКУПКУ 3,3% CHRYSLER
Fiat оценил стоимость акций в 254,7 млн долларов, но продавец с этим не согласен
Итальянский автомобилестроительный концерн Fiat воспользовался опционом на покупку 3,3% акций своего американского конкурента Chrysler, которого он контролирует. Fiat оценил стоимость этого опциона (и, соответственно, 3,3% акций Chrysler) в 254,7 млн долларов, сообщает информагентство Bloomberg.
До осуществления этого опциона Fiat владела 58,5% Chrysler, который наряду с Ford и General Motors входит в так называемую "большую тройку" автопроизводителей США. Fiat получил первый пакет акций (размером в 20%) американской компании в разгар мирового кризиса, весной 2009 года. Chrysler пришлось согласиться на это в условиях банкротства. Впоследствии Fiat наращивал свою долю в Chrysler, выкупая, в частности, ценные бумаги у правительств Канады и США.
Bloomberg 30 мая сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что Fiat ведет переговоры о привлечении не менее 10 млрд долларов для полного поглощения Chrysler. Fiat пытается договориться о финансировании с пулом ведущих мировых банков. Итальянцы намерены использовать заемные средства для выкупа последнего не принадлежащего им пакета акций Chrysler. Fiat стремится приобрести 41,5% акций у траста Veba, который представляет интересы канадской профсоюзной организации United Auto Workers. Fiat и генеральный директор Chrysler Серджио Маркионне намерены завершить сделку с 41,5-процентным пакетом акций к концу лета этого года, знают источники агентства. Сделка будет закрыта, как только Veba и Fiat разрешат судебный спор о стоимости этого пакета акций, указывают они.
Договоренности с Veba о приобретении оставшейся доли в Chrysler не достигнуто до сих пор. Об этом 7 июля журналистам в Турине сообщил генеральный директор Chrysler Серджио Маркионне. "Нам пока нечего объявить", - цитирует топ-менеджера агентство.
К настоящему времени Fiat воспользовался уже тремя опционами на покупку акций Chrysler (итальянцы начали это делать в 2012 году). Они в совокупности делают Fiat владельцем 68,5% Chrysler.
Fiat получил опционы на покупку акций как часть условия спасения Chrysler от банкротства в разгар кризиса. Каждый из опционов дает право на покупку 3,3% американской компании. Итальянцы имеют право использовать опционы раз в 6 месяцев до 30 июня 2016 года. Однако Fiat все еще не договорилась с Veba о стоимости первого транша. Итальянцы полагают, что первый опцион стоит 139,7 млн долларов, Veba считает справедливой ценой 342 млн долларов. Стороны подали иски в суд штата Делавэр, чтобы разрешить этот спор.
Решение суда Делавэра ожидается уже в июле 2013 года, отмечает The Wall Street Journal. Вердикт суда будет иметь большое значение для обеих сторон, потому что он определит сумму, в которую итальянцам обойдется поглощение Chrysler. Fiat предложил Veba 198 млн долларов за второй опцион.
Инвестбанк Morgan Stanley в аналитической записке от 5 июня предположил, что покупка оставшихся 41,5% акций Chrysler обойдется Fiat в сумму от 2 до 5 млрд долларов
ДВА СПУТНИКА "ГЛОНАСС" БУДУТ ЗАПУЩЕНЫ ОСЕНЬЮ ЭТОГО ГОДА
Два запуска с Плесецка нужны для восполнения группировки спутников из-за недавней аварии ракеты-носителя "Протон-М"
Два спутника "Глонасс" планируется запустить с космодрома Плесецк (Архангельская область) в начале сентября и конце октября текущего года. Об этом генеральный конструктор ОАО "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (ИСС, предприятие-изготовитель спутников) Николай Тестоедов сообщил РИА Новости.
Два запуска с Плесецка нужны для восполнения группировки спутников "Глонасс" из-за недавней аварии ракеты-носителя "Протон-М", сказал Тестоедов. "Необходимое количество аппаратов мы доставим на орбиту в течение ближайших четырех месяцев, то есть по октябрь", - сказал генеральный конструктор. По его словам, спутники будут запущены с помощью ракеты-носителя "Союз".
Три спутника "Глонасс-М" были потеряны 2 июля из-за аварии ракеты-носителя "Протон-М". Спутники стоили 4,5 млрд рублей и не были застрахованы.
О том, что три новых спутника "Глонасс-М" 2 июля планируется вывести на орбиту, в середине июня 2013 года сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Перед этим командующий войсками ВКО генерал-майор Александр Головко сообщал, что на июль и декабрь 2013 года запланированы запуски четырех космических аппаратов "Глонасс". В конце апреля войска ВКО успешно запустили спутник орбитальной группировки ГЛОНАСС с космодрома Плесецк.
Рогозин 5 июля заявил, что потеря трех спутников "Глонасс" не нанесла "существенного ущерба" работе всей группировки, но ее необходимо будет восполнить. Действующая спутниковая группировка ГЛОНАСС имеет резерв, напомнил вице-премьер.
В декабре 2010 года ракета-носитель "Протон-М" также не смогла вывести на орбиту три спутника "Глонасс-М". Ракета упала в Тихий океан. В результате выяснилось, что авария произошла из-за комплекса системных ошибок, допущенных РКК "Энергия".
За состоянием группировки спутников ГЛОНАСС можно следить на сайте, созданном Роскосмосом. Всего в составе орбитальной группы ГЛОНАСС находятся 29 космических аппаратов. Используются по целевому назначению 24 спутника. 3 находятся в орбитальном резерве, 1 - на этапе летных испытаний, еще 1 - временно выведен на техническое обслуживание.
Порядка 12 журналистов получили ранения в ходе разгона демонстрации в Стамбуле, передает в воскресенье итальянское агентство Agi.
Сообщается, что полицейские арестовали 59 человек, принимавших участие в акции протеста. По некоторым данным, в ходе беспорядков задержан иностранец, национальность которого неизвестна, и двое журналистов.
Очередная антиправительственная демонстрация началась в центре Стамбула в субботу. Несколько тысяч человек собрались на площади Таксим. Когда толпа демонстрантов попыталась войти на территорию столичного парка Гези, который оцеплен полицией, начались столкновения. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.
Акции протеста начались в Стамбуле в конце мая из-за решения властей вырубить парк Гези в районе Таксим и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс в рамках реконструкции одноименной площади. Протестующих поддержали половина провинций Турции и турки, проживающие в странах Европы. Протесты переросли в волну выступлений против политики премьер-министра Тайипа Эрдогана.
Несколько станций римского метрополитена, а также многие улицы итальянской столицы оказались затопленными в воскресенье в результате проливного дождя, обрушившегося на столицу Италии.
В частности, из-за непогоды оказалась закрыта станция метро Термини, которая является единственной пересадочной станцией римской подземки.
Кроме того, одна из центральных улиц - виа дель Корсо, где расположены многочисленные магазины, популярные среди туристов, превратилась в настоящую реку, отмечает Corriere della Sera.
Стихия стала также причиной падения нескольких деревьев, что привело к затруднениям на дорогах.
Из-за непогоды многие жители итальянской столицы обратились за помощью к спасателям. В частности, менее чем за три часа более 80 вызовов было получено от автомобилистов, которые оказались заблокированными в гаражах и туннелях. Наталия Шмакова.
Согласно данным, опубликованным ОЭСР, уровень безработицы в странах ЕС в марте с.г. составил 10,9%, сохранившись без изменений с февраля с.г. В США этот показатель составляет 7,6%. В число стран с наиболее высоким уровнем безработицы входят: Испания – 26,7%, Португалия – 17,5%, Словакия – 14,5%, Ирландия – 14,1%, Италия – 11,5%, Франция – 11%. Данные по Греции по состоянию на март с.г. не приведены. По последним опубликованным данным уровень безработицы в указанной стране в январе с.г. составлял 23,9%. Самый низкий уровень безработицы в странах ОЭСР – в Южной Корее (3,2%) Согласно данным, опубликованным Министерством занятости Испании, количество безработных в июне с.г. сократилось на 127 248 чел. по сравнению с маем 2013 г. Таким образом, в государственной службе занятости безработных на июнь 2013 г. было зарегистрировано 4,76 млн. чел., что является самым низким уровнем с сентября 2012 г. В относительном выражении сокращение количества безработных составило 2,6%. Снижение числа зарегистрированных безработных было зафиксировано во всех отраслях, но наиболее заметным стало в сфере услуг (особенно в гостиничном и ресторанном бизнесе – в связи с началом туристического сезона), а также в строительстве и промышленности. Единственным сектором, продемонстрировавшим в июне с.г. увеличение числа безработных (+0,75%), было сельское хозяйство.
газета «Синко Диас»
ПАПА ИОАНН ПАВЕЛ II СТАНЕТ СВЯТЫМ
Папа Римский Франциск принял решение о канонизации двух покойных понтификов
В Ватикане действующий понтифик Франциск подписал декрет о канонизации Иоанна Павла II (в миру Кароль Юзеф Войтыла) и Иоанна XXIII( в миру Анджелло Джузеппе Ронкалли), сообщает Il Corriere della Sera.
Подпись Франциска стала одним из заключительных этапов, необходимых для канонизации покойных понтификов. Официальное объявление будет сделано в ходе специально созванной консистории, о дате проведения которой будет объявлено позднее. Оба покойных папы на данный момент после проведенного обряда беатификации являются блаженными.
Ранее официальная комиссия теологов, а затем и Ватикан подтвердили факт существования второго чуда, совершенного Иоанном Павлом II. Согласно подтвержденным данным, жительница Коста-Рики смогла излечиться от тяжелого заболевания головного мозга, вознося молитвы покойному Папе. Что касается Иоанна XXIII, то его канонизация будет проведена, хотя одного официального чуда ему недостает. "Очевидно, что Папе достаточно и одного признанного чуда, чтобы получить возможность канонизации. В комиссии кардиналов и епископов, входящей в Конгрегацию по канонизации святых, он собрал необходимое количество голосов", - рассказал глава пресс-центра Святого Престола Федерико Ломбардии.
Блаженный Иоанн Павел II родился в Польше в 1920 году. Понтифик возглавлял католическую церковь на протяжении 26 лет. Иоанн Павел II скончался 2 апреля 2005 года. Блаженный Иоанн XXIII родился в Италии в 1881 году. Он находился на римском престоле в течение 5 лет. В 1963 году Папа Иоанн XXIII скончался.
СОЮЗ ЮЖНОАМЕРИКАНСКИХ НАЦИЙ ВСТУПИЛСЯ ЗА ПРЕЗИДЕНТА БОЛИВИИ
На саммите UNASUR лидеры некоторых стран потребовали извинений от европейских государств, вовлеченных в скандал с Эво Моралесом и Эдвардом Сноуденом
Союз южноамериканских наций (UNASUR) на экстренно созванном саммите жестко раскритиковал США и потребовал извинений от Испании, Италии, Франции и Португалии в связи с беспрецедентным инцидентом с самолетом президента Боливии Эво Моралеса. Боливийский лидер получил поддержку и солидарность прибывших на саммит коллег по UNASUR - президентов Аргентины, Боливии, Эквадора, Суринама, Уругвая и Венесуэлы. Внеочередной саммит состоялся сегодня в городе Кочабамбе (Боливия), сообщает германское информагентство DPA.
Это совещание было созвано по предложению президента Эквадора Рафаэля Корреа. Он выразил возмущение дипломатическим скандалом, который разразился из-за подозрений со стороны США и ряда государств Европы о том, что президент Боливии попытался вывезти в свою страну разоблачителя американских спецслужб Эдварда Сноудена. Самолет боливийских ВВС Falcon Dassault доставил Эво Моралеса в Боливию после 17-часового полета около полуночи 4 июля из Москвы, где президент был на саммите газодобывающих стран. После того, как Португалия, Италия, Испания и Франция отказали самолету Моралеса в доступе к своим воздушным пространствам, боливийский борт был вынужден приземлиться в Вене (Австрия). Там он провел около 14 часов; за это время австрийские власти поднялись на борт самолета и не нашли там Сноудена.
Беспрецедентный отказ четырех европейских стран возмутил симпатизирующих Моралесу стран Южной Америки. На саммите UNASUR глава МИД Боливии зачитал резолюцию, утвержденную участниками встречи. В ней содержится требование к странам, нарушившим дипломатический иммунитет Моралеса, объяснить свое поведение и принести публичные извинения. Участники саммита UNASUR назвали случившиеся "опасным прецедентом нарушения международного права" и заявили о намерении подать жалобу в ООН.
Обыск самолета Моралеса в Вене является актом агрессии со стороны австрийских властей, заявил посол Боливии при ООН в Нью-Йорке Саша Лоренти. Дипломат сообщил, что ни секунды не сомневается: приказы закрыть воздушное пространство некоторых стран Европы поступили из США.
Правительство Ирландии получило запрос от американских властей на арест разыскиваемого США экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, пишет в пятницу издание Irish Times.
Правительство Ирландии уже передало предварительный ордер на арест Эдварда Сноудена отделу полиции, занимающемуся вопросами экстрадиции. Как уточняет издание, ордер был выпущен в качестве упреждающей меры, чтобы арестовать Сноудена в том случае, если он решит перебраться из Москвы на Кубу. В этом случае его рейс может остановиться для дозаправки в ирландском аэропорту Шаннон, пишет Irish Times.
"Мы думаем, он еще немного пробудет в России, но документы сейчас у нас, так что возможность использовать Шаннон для перелета в Кубу для него, возможно, исключена" - сказал представитель авиационных властей Ирландии.
Согласно местному законодательству об экстрадиции, полиция Ирландии может задержать Сноудена. После этого суд может постановить о необходимости содержать его под стражей до 18 дней. За это время власти США смогут полностью завершить процедуру экстрадиции, отмечает издание.
Где уже отказали в убежище Эдварду Сноудену
Приютить экс-агента ЦРУ отказались Франция, Италия, Нидерланды, Польша, Австрия, Финляндия, Ирландия и Испания. Помимо перечисленных стран Евросоюза, единственным членом сообщества, чьи власти не определились с предоставлением убежища Сноудену, остается Германия.
Почему Сноуден отказался остаться в России
Экс-сотрудник ЦРУ высказывал просьбу о том, чтобы остаться в России. Москва не выдаст Сноудена США, но при этом и в России американец, попросивший об убежище, не останется - он отозвал свою просьбу, узнав об условии президента России Владимира Путина перестать наносить ущерб американским партнерам.
Как развивалась история нового разоблачителя США
Сноуден, который 23 июня прибыл из Гонконга в Москву как транзитный пассажир, в начале июня распространил секретный ордер суда, по которому спецслужбы США получили доступ ко всем звонкам крупнейшего сотового оператора Verizon, а также данные о сверхсекретной программе американского Агентства нацбезопасности PRISM, позволяющей отслеживать электронные коммуникации на крупнейших сайтах. Власти США заявили, что утечки нанесли серьезный ущерб нацбезопасности страны. В настоящий момент Сноуден предположительно находится в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево".
Как Сноуден обвинил США в давлении на другие страны
Эдвард Сноуден обвинил США в оказании давления на лидеров других стран с целью не допустить получения им политического убежища, следует из заявления Сноудена, опубликованного на сайте Wikileaks.
Почему Сноудена нигде не ждут
Михаил Ростовский для РИА Новости: "Сегодня в результате глобализации весь мир превратился в одну большую деревню. Все страны фактически являются соседями США. Найдется ли у кого-то желание стать объектом их гнева? Если на кону будут жизненно важные интересы той или иной уважающей себя страны, то, наверное, найдется. Ну а если предмет раздора - всего лишь судьба американского гражданина, очень сильно насолившего своему же родному государству? У большинства стран мира сразу же срабатывает условный рефлекс: лучше отскочить в сторону и действовать по принципу "моя хата с краю"".
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо считает, что Испания не должна приносить Боливии извинения за проблемы, возникшие при пролете самолета президента Боливии над испанской территорией, сообщает телерадиокомпания RTVE.
Министр заявил, что не считает необходимым приносить извинения, так как "воздушное пространство Испании не закрывалось для самолета Моралеса", а также изначально была разрешена техническая посадка самолета в аэропорту Лас Пальмас де Гран Канария с целью дозаправки. Министр также отметил, у испанской стороны были данные, ясно свидетельствующие о нахождении на борту Моралеса разыскиваемого США экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, однако слова президента Боливии о том, что это не так, доказало ошибочность этих данных.
Самолет Моралеса, вылетевший во вторник из российской столицы, был вынужден совершить посадку в столице Австрии после того, как власти Франции и Португалии отозвали разрешение на использование своего воздушного пространства и аэропортов. Действия европейских стран вызвали жесткую реакцию в странах Латинской Америки.
Инцидент с Моралесом показал зависимость ЕС от США, считают эксперты
Испанская сторона позже заявила, что разрешение полета самолета боливийского президента над Испанией было дано изначально, однако самолет приземлился в Вене.
Президенты шести стран Союза южноамериканских наций UNASUR потребовали от Испании, Франции, Италии и Португалии "публичных извинений" за закрытие воздушного пространства для самолета президента Боливии Эво Моралеса. Сергей Сарымов.
В четверг, 27 июня 2013 года, в порту г. Салоники впервые в этом сезоне пришвартовался (с суточным пребыванием) круизный лайнер Aida Aura, с 1.300 немецкими туристами на борту.
Круизное судно Aida Aura, плавающее под итальянским флагом, принадлежит компании Aida Cruises. Судно имеет 12 палуб (персонал - 418 человек).
В последующем Aida Aura посетит порт Салоники (с ночевкой) 10 и 24 июля текущего года, а также 7 и 21 августа, отправляясь из Салоники по направлению к острову Самос.
Посещение Aida Aura порта Салоники с суточным пребыванием - это первый шаг по направлению администрации порта сделать Салоники портом приписки (home port), то есть портом захода и отбытия судов, следующих по круизным маршрутам, что, несомненно, положительно скажется на развитии туризма.
По словам председателя и управляющего советника порта г. Салоники Сте?льоса Ангелу?диса, город Салоники может стать «стабильным направлением для круизных судов, плавающих в акватории Средиземного моря, поскольку он обладает многолетней историей и, соответственно, историческими памятниками, а также богатым рынком и портом, который располагается прямо в «сердце» города».
Увеличение спроса и цен на продукцию, выращиваемую сельскохозяйственными производителями Италии, подталкивает и поставки фруктов и овощей из страны на внешние рынки.
Согласно информации за первый квартал текущего года, опубликованной FruitImprese, итальянские поставщики отправили на экспорт порядка 947 тысяч тонн плодовоовощной продукции, что на 12,4% меньше показателей прошедшего периода и в денежном выражении составляет 1,73 млрд евро (+7,8% к результатам первого квартала 2012 года).
Абсолютно все категории продукции увеличились в своей стоимости: +3,5% у овощей, 23% у цитрусовых, 10,5% у остальных видов свежих фруктов и 1,9% у сухофруктов.
Франция имеет собственную систему глобальной электронной слежки, похожую на американскую, утверждают журналисты французской газеты Le Monde.
Они отмечают, что Франция достаточно слабо возмущалась, когда узнала, что спецслужбы США собирают информацию о телефонных звонках и контактах в интернете европейских граждан. Как сообщал Digit.ru, наиболее пристальное внимание уделялось проживающим в Германии, хотя жители европейских стран, в том числе Франции, также находились "под колпаком".
Журналисты газеты Le Monde считают, что для этого есть две причины. Во-первых, во Франции уже знали об этой американской системе, а, во-вторых, французские спецслужбы сами собирают данные о деятельности в интернете и телефонных звонках пользователей на территории страны.
Французские спецслужбы, как утверждают журналисты, перехватывают и анализируют сообщения электронной почты, sms, социальные сети и даже телефонные счета, причем перехваченная информация сохраняется многие годы.
Журналисты вычислили название системы - General Directorate of External Security (DGSE) - и обнаружили в открытом доступе документы, свидетельствующие не только о ее существовании, но и о некоторых деталях функционирования. Например, найдены свидетельства контекстного поиска и формирования метаданных, описывающих структуру и содержание контактов между людьми во Франции и при их контактах за границей.
В конце прошлой недели немецкое издание Spiegel сообщило, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) прослушивало представительства Евросоюза в Вашингтоне и Нью-Йорке и взламывало их компьютерные сети. Издание ссылается на находящийся в распоряжении экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена секретный документ АНБ, с которым удалось ознакомиться журналистам. В воскресенье британское издание Guardian со ссылкой на документ, предоставленный Сноуденом, сообщило, что АНБ прослушивало 38 иностранных посольств и дипломатических миссий, в том числе посольства союзников по НАТО - Франции и Италии.
Италия не предоставит политубежище экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену, сообщает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на главу МИД Италии Эмму Бонино.
Выступая с речью в парламенте, Бонино отметила, что любой запрос о предоставлении политубежища должен быть подан лично на границе или на территории Италии.
"Таким образом, нет законных оснований принять такой запрос, который, по мнению правительства, не может быть также удовлетворен на политическом уровне", - сказала она.
Почему Сноудена нигде не ждут
Беглый экс-сотрудник ЦРУ, обнародовавший секретные данные спецслужб США, уже вторую неделю, предположительно, находится в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево". Он разослал запросы 21 стране с просьбой об убежище, но пока никто не выразил готовность его предоставить.
Во вторник стало известно, что соответствующий запрос со стороны Сноудена поступил по факсу в посольство Италии в Москве.
Источники в МИД обратили внимание на то, что в данном случае имеет место "процедурная аномалия": запрос о предоставлении политического убежища должен исходить от лица, находящегося на территории страны, в которой запрашивается убежище.
Россия на европейском фоне: причины отставания
4. Почему мы считаем, что идем особым путем?
Дмитрий Травин
Итак, мы сформулировали тезис о том, что каждая страна стремится к развитию, ориентируясь на соблазнительные достижения соседей. В идеале любой народ желает пройти свой исторический путь, позаимствовав у лидеров их успехи (быстрый рост ВВП, социальную справедливость, военную мощь, разумное политическое устройство), но не заимствуя всякие неприятности (революции, гражданские войны, диктатуры, экономические кризисы).
Иными словами, мы движемся вперед, видя перед собой идеализированный образ. Некоторые люди прямо говорят: «Давайте жить как в Европе», «Давайте пойдем западным курсом», «Давайте соорудим американский капитализм (или шведский социализм, или немецкое экономическое чудо, или английскую демократию)». Но почему же тогда не менее распространенными у нас являются представления об особом пути России? Почему люди говорят, что мы — особая православная цивилизация или особая евразийская культура? Или просто особая страна, где демократия — не обычная, а суверенная, где экономика — не рыночная, а артельная и где народ — не просто народ, а народ-богоносец?
«Идеалисты» и «особисты»
«Идеалисты» и «особисты» часто спорят до хрипоты, но почти никогда не могут переубедить друг друга. Рациональные аргументы в таких спорах не действуют. «Идеалисты» численно доминируют в периоды «бури и натиска», когда кажется, что вот-вот возобладают разумные перемены и мы вскоре увидим на практике все то, о чем мечтали. «Особисты» доминируют в «года глухие», когда выясняется, что результат осуществленных перемен сильно не совпал с идеалом и, значит, «жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе».
Иначе говоря, проблема идеалистов состоит в том, что они не принимают во внимание зависимость от исторического пути, тормозящую развитие, и особенно ловушки модернизации, которые могут завести ее на боковой путь. А в чем же состоит проблема «особистов»?
Любому человеку трудно признать, что он хуже другого. Точнее, он может это признать, если надеется догнать лидера в будущем: разбогатеть, сделать яркую карьеру или великое открытие, вырастить замечательных детей. Если ж таких надежд нет, то с отставанием можно смириться, понимая, что обладаешь иными ценностями. Я — не красивый, но умный. Я — неудачлив в делах, но счастлив в браке. Я — не успешен, но сделал для страны больше, чем карьерист.
В ряде случаев стремление достичь душевного равновесия при неудачах может стимулировать человека к поиску своих выдуманных достоинств и к принижению успехов других. Все взяточники, а я — честный и потому бедный. Все бездуховны, а я — непризнанный гений и потому одинок.
Представления об особом пути народа сродни таким интеллектуальным построениям. По этой именно причине они становятся популярны в период провала реформ, иностранных оккупаций, гражданских войн и революций, а также резкого обострения нищеты при экономических кризисах. Самим своим поиском особого пути Россия показывает, что она во многом похожа на другие страны, поскольку отнюдь не одни только мы пытались отыскать свою национальную специфику на долгом и трудном историческом пути.
Рассмотрим несколько интересных примеров того, как разные западные государства, которые в нашем представлении часто выглядят представителями некоего единого европейского пути развития, на самом деле, проходя через крутые повороты истории, декларировали наличие своего особого пути.
Персональный договор с Богом
Первый пример такого рода — Португалия. Для нее сложной эпохой стали XVI—XVII века, когда эта маленькая страна должна была сосуществовать на Пиренейском полуострове с самым сильным европейским государством — Испанской державой Габсбургов.
С одной стороны, Португалия гордилась прошлым — формированием империи, великими географическими открытиями, завоеванием заморских территорий. Ведь все эти достижения были обеспечены чрезвычайно малыми силами, что свидетельствовало, как говорила мифология (созданная в том числе и великим португальским поэтом Камоэнсом в его «Лузиадах»), о героизме и могуществе лузитан (португальцев). С другой же стороны, по объему военных и финансовых ресурсов Португалия была не сопоставима с Испанией, а потому могла запросто потерять свою независимость, как потеряли ее все прочие государства, расположенные на Пиренейском полуострове.
Утрата независимости действительно произошла при Филиппе II Испанском. В результате несколько десятилетий Португалия находилась под властью короны Габсбургов. Фактически встал вопрос о том, имеет ли Португалия право на существование или же это часть Испании, наряду с Кастилией, Арагоном, Леоном, Эстремадурой, Андалусией, Галисией.
И вот когда этот вопрос стал всерьез беспокоить общество, появилась своеобразная португальская теория особого пути. Она была сформулирована в многотомном труде «Лузитанская монархия», публиковавшемся на протяжении более 130 лет. Монах Бернарду ди Бриту в первых частях повествования начал рассказ с тех времен, когда мир был еще лишь задумкой Создателя. «Как выяснилось», само существование Португалии входило изначально в замысел Бога. А из этого, естественно, следовало, что существование независимой страны является не исторической случайностью, но составной частью Божественного плана по сотворению мира. Господь, согласно «Лузитанской монархии», лично спустился на землю, чтобы создать новое государство и Сам беседовал об этом с военным лидером Афонсу Энрикишем, который стал первым португальским королем.
В произведениях различных национальных авторов можно обнаружить, что португальские герои превосходят всех прочих в мировой истории, включая Александра Македонского, Траяна и т. д. «Нет на известной нам земле народа, которому все люди были бы обязаны больше, чем португальцам», — отмечал Амадор Аррайш. А в одной книге 1631 года встречается следующее «логическое» умозаключение: испанцы побеждают все другие народы. История показывает, что португальцы побеждали и испанцев. Значит, португальцы — самый храбрый народ на земле.
Подобная мифология была чрезвычайно важна для эпохи испанского владычества. Возможно, именно она, наряду с регулярно переиздававшейся поэмой Камоэнса, во многом обеспечила восстановление португальского государства.
Следующий пример — Польша. Теория «особого пути» формируется на польских землях примерно в то же время, что и на португальских. И так же как в Португалии, в Польше это было связано с тяжелым периодом существования государства, с непосредственной угрозой его независимости.
Начиналось польское мифотворчество еще с того, что в XV веке возникла идея происхождения шляхты от древних сарматов. Зафиксирована она, в частности, в знаменитых «Анналах» историка Яна Длугоша. Сама по себе эта идея в общем-то не сильно отличалась от близких по духу многочисленных мифов о происхождении народов, распространенных в других странах. Древние римляне, например, возводили себя к еще более древним троянцам.
Пока Польша была сильна, значение мифотворчества не выходило за определенные рамки. Однако в XVII столетии ситуация стала резко меняться в худшую сторону. Целый ряд военных неудач поставил под сомнение существование некогда мощного государства. Страшные удары по полякам были нанесены в основном шведами (знаменитый «Потоп»), но и Россия активно расширялась за счет своего ослабевшего западного соседа.
На этом фоне в Польше сформировалась так называемая идеология сарматизма. Доминирующее положение католицизма привело к возникновению своего рода мессианизма. В сарматизме закрепилось представление об исключительной роли поляков в осуществлении Божественного промысла. Это отражалось, например, в убеждении, что сам Бог покровительствует Речи Посполитой. И потому среди шляхты пользовался популярностью миф о Польше как об оплоте христианства, убеждение, что именно Речь Посполитая призвана защитить христианский мир от его многочисленных врагов.
Это убеждение получило во второй половине XVII столетия серьезное фактическое подкрепление в связи с тем, что именно польский король Ян Собеский одержал несколько впечатляющих побед над турками и остановил их продвижение на Запад, защитив, в частности, Вену. Польша действительно на некоторое время стала спасителем христианского мира, и это утвердило старое представление шляхты об особом предназначении страны.
Сербский миф об особом пути в некотором смысле противоположен мифу польскому. Поскольку Сербия долго находилась под турецкой оккупацией, сравнительно поздно обрела свою государственность и, увы, не смогла прославиться великими подвигами на земле, особый путь народа стал трактоваться как путь построения «Небесной Сербии» — величественной и лучезарной, которую образовали многие миллионы праведных сербов, достигнув тем самым цели, поставленной перед народом самим Господом.
На протяжении долгих лет страданий формировались представления, которые ярко отразил в ХХ веке святой Николай Сербский (Николай Велимирович). Он писал, в частности, что ни один другой народ в мире так верно не служил Христу. Именно в этом, а не в земных деяниях состоит предназначение сербов. Какой иной народ так любит истину и так нелицемерно говорит правду? Какой иной народ построил так много храмов на Балканах? Какой иной народ не знал в своей истории борьбы между церковью и государством? У какого иного народа столь много правителей добровольно ушло от власти в монастырь?
Особые страдания, которые пришлось претерпеть сербам, согласно трактовке св. Николая, являются признаком богоизбранности, «ибо кого Бог любит, того и наказует». Много мучились на своем веку и другие народы, но ни один не претерпел таких мук. Даже русские на треть не страдали, как сербы.
Особый путь для сербов — отнюдь не фигуральное выражение. Они даже могут его описать совершенно конкретно. «История сербов, — отмечал св. Николай, — вся трагична. Путь народа ведет по опасной крутизне над бездной. Этим путем может пройти без страха лишь лунатик. Такие ужасы подстерегают на этом пути. Если бы сербы смотрели вниз, в пропасть, над которой грядут, они устрашились бы и скоро упали и пропали. Но они глядели ввысь, в небо, на судьбоподателя Бога, с верой в Него — и шагали бессознательно, или едва сознавая, что делают. Поэтому они смогли преодолеть путь по отвесным скалам, какими ни один народ белой расы доселе не проходил».
А вот главный вывод, который делает св. Николай: «Подобно тому, как Христос определил исключительно большую задачу своему любимому ученику — святому Иоанну, так Он поставил большую задачу и сербскому народу, уготовав ему великую миссию меж ближними и дальними народами». Православным славянам и прочим православным народам предстоит спасти человечество. Опираться спасатели будут на Россию, как самое мощное государство, но вооружаться им предстоит программой сербского народа.
Философия, предполагающая всемирную мессианскую роль сербов, по понятной причине, скептически относилась к югославскому государству, сузившему масштабы деяний народа до малого региона. Но любопытно, что в социалистической Югославии после Второй мировой войны идея особого пути не исчезла, а трансформировалась, придав мессианству земное измерение. Югославы, ведомые сербами, как самой большой нацией, полагали, что они строят единственно правильный социализм, основанный на рабочем самоуправлении, а не на бюрократическом централизме, как это было в Советском Союзе. Югославская экономическая модель оказалась совершенно уникальной. Она вдохновляла сторонников особого пути вплоть до момента развала Югославской федерации, вызванного помимо прочего и ущербностью рабочего самоуправления.
Описанные выше португальский и польский примеры имеют лишь косвенное отношение к современным мифам, поскольку рождались в иную эпоху и были ориентированы на восприятие лишь сравнительно небольшой привилегированной частью общества. Гораздо большее значение имеет для нас мифология времен распространения национализма, поскольку сегодняшние представления об особом пути России корреспондируют напрямую именно с ними. Сербский миф как раз из их числа. Но и крупнейшие европейские страны не избежали в своей истории подобного мифотворчества.
Рассмотрим, каким образом националистическая мифология развивалась в Англии. Еще в середине XVI века из уст крупных деятелей церкви можно было услышать странные заявления о том, что у Бога есть национальность. «Господь — англичанин», — заявил, к примеру, будущий епископ лондонский Джон Эйлмер. Он призвал своих соотечественников благодарить Господа по семь раз на дню за то, что тот создал их англичанами, а не итальянцами, французами или немцами. «Господь со своими ангелами сражался на ее (Англии. — Д. Т.) стороне против чужеземных врагов», — напоминал епископ.
Эти заявления, впрочем, были скорее сродни ранней португальской и польской мифологии; о них говорилось выше. Другое дело — высказывания, обращенные к широким народным массам, распространившиеся в английском обществе несколько позже. К концу XVI столетия в Англии появляются любопытные славословия в честь английского языка. «Итальянский язык — благозвучен, но не имеет мускульной силы, как лениво-спокойная вода; французский — изящен, но слишком мил, как женщина, которая едва осмеливается открыть рот, боясь испортить свое выражение лица; испанский — величественен, но неискренен и ужасен, как дьявольские козни; голландский мужественен, но очень груб, как некто все время нарывающийся на ссору. Мы же, заимствуя у каждого из них, взяли силу согласных итальянских, полнозвучность слов французских, разнообразие окончаний испанских и умиротворящее большое количество гласных из голландского; итак, мы, как пчелы, собираем мед с лучших лугов, оставляя худшее без внимания».
Забавно, что через полтораста лет Михайло Ломоносов соорудил похожее славословие в адрес русского языка. «Карл V, римский император говаривал, что ишпанским языком — с Богом, французским — с друзьями, немецким — с неприятелями, итальянским — с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того, богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка».
Англия не испытывала ужасов иностранного господства, как Португалия или Польша, однако в середине XVII столетия для этой страны настал вдруг чрезвычайно тяжелый момент. Рухнула монархия, общество оказалось расколото противоборствующими группировками. Именно в эпоху английской революции, когда народ испытывал чрезвычайные трудности, представление об отдельных особенностях нации стали постепенно трансформироваться в своеобразную теорию «особого пути». Как евреи времен Ветхого Завета имели особый договор с Богом, так и англичане времен восстания пуритан считали себя вторым Израилем, постоянно возвращаясь к этой метафоре в парламентских спичах и памфлетах, а также в церковных церемониях. Трудности, которые англичанам приходилось преодолевать на практике в сравнении с другими народами, компенсировались в сознании тем, что именно себя пуритане считали народом избранным, народом мессианским, народом, призванным установить истинную Церковь на земле взамен окончательно разложившейся Римско-католической.
Мы наш, мы новый мир построим
Понятно, что представления об особом пути XVII века имеют совершенно иную окраску, нежели представления XX—XXI столетий. Религиозный элемент у англичан играл несопоставимо бЛльшую роль, чем может играть сейчас, тогда как, скажем, популярных ныне рассуждений об особом пути в экономике, насколько известно, тогда не имелось. Однако в общих чертах ситуацию различных эпох роднит именно то, что на крутых поворотах истории в эпоху распространения национализма народ поддерживает себя мифотворчеством, в котором говорит о своей особости, о своих преимуществах по отношению к другим народам, которые кажутся более благополучными и преуспевающими.
Во Франции подобные мессианские представления сформировались также в эпоху революции, но поскольку это событие отстояло от английской революционной эпохи примерно на полтора столетия, язык национализма оказался совершенно иным — светским и не содержащим никаких отсылов ко «второму Израилю» или к особому договору народа с Господом.
Государство времен Великой французской революции находилось в глубоком экономическом и политическом кризисе. Хозяйство страдало от страшной инфляции, в городах не хватало элементарных продуктов, а власти увязли в бесконечных обсуждениях идей свободы, равенства и братства. По мере усиления кризиса эти дискуссии перерастали в кровавые стычки между самими революционерами. Завершались эти разборки массовыми репрессиями. Недавно еще самое сильное государство Европы ныне могло позавидовать любому соседу, живущему скучной, размеренной, однообразной жизнью. Более того, Франции угрожала иностранная интервенция, ставящая под угрозу само существование молодой нации. В этой ситуации элиту поразил тяжелый психологический кризис, выходом из которого стала невиданная доселе консолидация общества.
Постепенно у французов сформировалось представление о том, что страдание от собственных неурядиц есть на самом деле не что иное, как великое страдание во имя всего человечества. В христианской традиции, где Бог был распят на кресте и погиб ради искупления первородного человеческого греха, подобная трансформация идеи страдания была, наверное, вполне естественной. Франция ощутила себя «распятой» именно потому, что несла всему миру прогрессивные идеи свободы, равенства и братства.
При таком интеллектуальном повороте страдания сразу же стали осмысленными. Соперничество политических клик, неудачные денежные эксперименты, озлобление против вчерашних господ — все это вдруг превратилось в элементы великой миссии, выпавшей на долю самого лучшего, самого передового народа Европы. Патриотический дух проник в сердце общества. Интервенция оказалась отбита. Более того, французская революционная армия под звуки «Марсельезы» понесла революцию на своих штыках в соседние страны, где еще правили ненавистные тираны, отрицающие свободу, равенство и братство.
Впоследствии наполеоновская армия, несколько трансформировав ту же самую идею, несла Гражданский кодекс и буржуазные свободы туда, где еще доминировало обычное право, разбавленное феодальными установлениями. Для дворянской элиты Центральной и Восточной Европы Буонапарте являлся не кем иным, как узурпатором божественного права наследственных монархов. Но для французов, проникшихся национальной идеей избавления всего мира от тирании, узурпаторами были как раз наследственные монархи. А Наполеон стал авторитарным лидером, персонифицирующим дух нации, воплощающим в себе весь комплекс идей свободы, равенства и братства. О том, что в империи не осталось даже следов присутствия этой великой триады, ощутивший собственное величие народ задумываться, естественно, уже не мог и даже не хотел.
Французский особый путь выглядел как путь самой передовой нации, прокладывающей дорогу к свободе, равенству и братству для всего человечества. Французы не говорили, что мы, мол, другие, что мы не такие, как все. Они полагали, что являются самой развитой европейской нацией, и их особость состоит в том, чтобы раньше других пройти по пути преобразований и помочь другим народам встать рано или поздно на путь построения общества, избавленного от тирании.
Однако в Германии в XIX веке эпоха становления национализма в полном смысле сформировала теорию особого пути. Исследователь этого вопроса Луи Дюмон отмечал, что «немцы выставляли и пытались навязать свое превосходство лишь потому, что они немцы, тогда как французы сознательно утверждали только превосходство универсальной культуры, но наивно отождествляли себя с ней в том смысле, что считали себя наставниками человеческого рода».
Представление об особом характере германской культуры (понимаемой, естественно, в широком смысле) сумело стать для народа определяющим. Германия представлялась местным националистам неким духовным гигантом, возвышающимся посреди других европейских народов, погрязших в суете и тщеславии, в мелких заботах, связанных с функционированием рыночного хозяйства. Немцы же с их великой поэзией, музыкой, философией оказывались якобы совершенно чужды мелочам. Они выстраивали свое национальное бытие исключительно на великих идеях и на глобальных свершениях. Как древние греки в свое время считались образцом физического совершенства, так немцы теперь видели себя образцом совершенства духовного.
Германия стала противопоставлять себя абстрактно понимаемому Западу. Примерно так же, как считают сегодня многие в России, немцы рубежа XIX—ХХ веков считали Запад неким расплывчатым целым, отличающимся от Германии отсутствием духовных начал. Для того чтобы четко оформить это противопоставление, германские интеллектуалы стали использовать понятия «цивилизация» и «культура». На Западе, с их точки зрения, доминировала цивилизация с ее борьбой за выживание, с ее эксплуатацией человека человеком, с ее бездумным использованием рынка. В Германии же над ценностями цивилизации превалировала культура. Она предполагала формирование развитой, эффективной экономики без тех эксцессов, которые сопровождают развитие хозяйства на Западе. Она предполагала единство общества вместо гоббсовской войны всех против всех. Она предполагала социальную защищенность вместо вражды, наживы, корысти.
Не случайно именно Отто фон Бисмарк первым в Европе добился больших сдвигов в деле создания систем социального страхования. Не случайно именно в Германии получило особо динамичное развитие картелирование крупного бизнеса. Не случайно именно Германия чрезвычайно активно защищала отечественного производителя от иностранной конкуренции. Все эти мероприятия, рассматриваемые порой как независимые, изолированные, на самом деле являлись элементами единой системы патерналистского государства.
У разных немцев в их национальном мировоззрении могла быть различная культура. Кто-то видел величие Германии в творениях Гегеля, а кто-то в том, что в сравнении с французским рабочим немец защищен государством. На самом деле, естественно, защита была условной, и по основным параметрам немец начала ХХ века оказывался даже беднее своего западного соседа. Но национальная идея живет всегда своей собственной жизнью, мало связанной с реальностью.
В Первую мировую войну немцы шли сражаться не только за своего кайзера. Они защищали германскую культуру, германский образ жизни от «русских варваров» на Востоке и от «неправильной» цивилизации на Западе. Утвердив в сознании свое культурное превосходство над врагом, немцы тем самым компенсировали трудности становления рыночной экономики, нищету и убогость жизни, реально существовавшее неравноправие социальных слоев. Возможно, поэтому война была столь долгой и кровавой. Не все были пронизаны таким антивоенным настроением, как, скажем, хорошо известные нам герои Ремарка.
Даже лучшие интеллектуалы Германии чувствовали себя представителями иного мира, нежели мир Запада. Великий мыслитель Макс Вебер считал, что культурная задача Германии и ее историческое предназначение — не допустить господства американизма в мире. «Просить немца быть приверженным тому <…>, что народы Европы называют свободой, — писал будущий лауреат Нобелевской премии по литературе Томас Манн, — было бы <…> равнозначно требованию к нему совершить насилие над своей природой». А вот еще цитата из «раннего» Т. Манна, ставшего к концу жизни сторонником демократии: «Немецкий народ никогда не сможет полюбить демократию, по той простой причине, что он никогда не сможет полюбить политику, и что многажды ославленное „чиновничье полицейское государство“ есть и остается наиболее приемлемой и глубоко желаемой немецким народом формой государственного существования».
Социолог Эрнст Трёльч называл воодушевление, вызванное войной, возвращением «веры в дух» — дух, который торжествует над «обожествлением денег», «нерешительным скепсисом», «поисками наслаждения» и «тупым раболепствованием перед закономерностями природы». Причем такого рода высказывания отражали мнение значительного числа немецких интеллектуалов. Так, в самом начале войны более трех тысяч профессоров в коллективном письме выразили возмущение тем, что враги Германии хотят противопоставить дух немецкой науки тому, что они называют духом прусского милитаризма.
После поражения Германия была серьезно оскорблена гигантскими репарациями и демилитаризацией Рейнской зоны, в которую французы ко всему прочему в 1923 году еще и ввели свои войска. На этом фоне идеи национальной исключительности и реваншизма только прогрессировали. В конечном счете дело дошло до торжества национал-социализма. Вторая мировая война являлась для немцев логическим продолжением Первой.
Идея особой германской культуры трансформировалась в идею особой арийской расы. Конечно, эти две модификации принципа особого пути существенно отличались друг от друга и в некотором смысле даже были противоположны (нацисты, например, жгли на кострах многие из тех книг, которые составляли истинную гордость немцев). Но, думается, если бы идея национальной исключительности не сформировалась на рубеже XIX—XX столетий, национал-социализм не имел бы в Германии таких прочных корней.
Весьма характерно, что параллельно с германской идеей особого национального пути на той же примерно основе развивалась идея итальянская. Фашистский лидер Бенито Муссолини стремился построить корпоративистское государство, в котором вся нация оказывалась едина в своем противостоянии иному миру. Причем идейной базой фашизма стало выведение итальянских корней из истории Древнего Рима. Тем самым национальная культура ставилась, как и в Германии, превыше всех других культур.
Итальянский путь к единству нации в свете фашистской идеологии становился абсолютно уникальным, неповторимым по той хотя бы причине, что не было больше культур, сопоставимых по значению с культурой Древнего Рима. И хотя на практике корпоративизм так или иначе использовался в различных странах, у итальянцев формировалось иллюзорное чувство гордости за свой особый путь.
«В крови у нас есть что-то такое…»
Когда представления о том, что Россия — особая страна, впервые стали пользоваться популярностью? Наверное, вскоре после трагического краха восстания декабристов. В этот момент у многих интеллектуалов возникло ощущение, что не оправдались ожидания национального расцвета, пробужденные яркой картиной, нарисованной Карамзиным в «Истории государства Российского». И вот уже Петр Чаадаев в конце 1829 года пишет печальные строки: «Внутреннего развития, естественного прогресса у нас нет, прежние идеи выметаются новыми, потому что последние не вырастают из первых, а появляются откуда-то извне. <…> Мы растем, но не созреваем, мы подвигаемся вперед, но в косвенном направлении, т. е. по линии, не приводящей к цели. <…> В крови у нас есть что-то такое, что отвергает всякий настоящий прогресс. Одним словом, мы жили и сейчас еще живем лишь для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его; пока, чтобы там ни говорили, мы составляем пробел в порядке разумного существования».
В общем, все люди как люди, а мы в России развиваемся особым способом. Со времен «Философических писем» Чаадаева на протяжении почти уже двух столетий пессимистические представления об особом пути выглядят примерно одинаково. Подобные взгляды, кстати, являются не только уделом интеллектуальных кругов. Когда простой человек говорит, что немцы вкалывают, а наши лишь водку жрать горазды, он в меру своего понимания выражает примерно то же, что ранее в «философическом» виде сформулировал Чаадаев.
Но чаще широкие массы захватывают оптимистические, мессианские представления, согласно которым наш особый путь состоит не в том, чтобы преподать другим народам печальный урок, а в том, чтобы их спасти. По сути дела, пессимистическая и оптимистическая трактовки проблемы особого пути являются двумя сторонами одной медали. Различие не в сути проблемы, а в том, что на один и тот же вызов люди различного психологического склада реагируют по-разному.
Удивительным образом даже у Чаадаева пессимизм во взгляде на прошлое сочетался с надеждой на то, что Россия в будущем каким-то волшебным образом ответит на «важнейшие вопросы, которые занимают человечество». Но если мечты Чаадаева были предельно абстрактны, то славянофилы сформировали уже вполне конкретную теорию особого пути, в которой аккуратно были подогнаны друг к другу и прошлое, и настоящее, и будущее страны. До поры до времени теоретические построения такого рода оставались лишь предметом споров, происходивших в узких кругах. Однако в кризисной ситуации второй половины XIX столетия они вдруг вышли на широкий простор.
Мессианские представления об особом пути России получили широкое распространение в обществе на фоне разочарования в незавершенном характере Великих реформ Александра II. Интеллигенты не получили всех тех свобод, а крестьяне — всех тех земель, на которые рассчитывали. Однако трагизм несбывшихся ожиданий обернулся для значительной части народа эйфорией панславизма, достигшей апогея в годы Русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Возникло представление о том, что именно русскому солдату предстоит совершить благородное дело освобождения различных славянских народов от ига иноверцев.
В дальнейшем распространение в нашей стране марксизма создало условия для еще более масштабного мессианского представления. В исходной своей основе предельно рационалистическое учение Карла Маркса не предоставляло никаких возможностей для мессианства. Согласно теории прибавочной стоимости, капиталист присваивает часть продукта, созданного рабочим, а потому пролетариат по мере роста своей сознательности должен прийти к логичному выводу о необходимости экспроприировать экспроприаторов. Здесь нет ничего «от сердца», все исключительно «от головы».
Ленин полностью перевернул марксизм и поставил его с «головы» на «сердце». Революционная Россия, как «слабое звено в цепи империализма», может первой осуществить пролетарскую революцию. А потом поспособствует преобразованиям в других странах. Идея мировой революции, начинающейся в России, стала самым масштабным выражением идеи особого пути нашей страны. Марксистам, в отличие от панславистов, предстояло спасти не только замученных турками «братушек», но всех братьев по классу, замученных мировым капиталом. «Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла родина моя», — писал в начале сороковых годов ХХ века яркий большевистский поэт, излагая в образной форме великую мессианскую идею, которая могла скрасить советскому человеку муки репрессий, коллективизации и индустриализации.
Можно долго описывать, каким образом коммунистическая идея постепенно делала из убогих, забитых обывателей сильных, уверенных в себе фанатиков, но в данном случае стоит, пожалуй, ограничиться лишь цитированием гениального романа, в котором автор сумел уловить дух происходящей в умах трансформации. Речь идет о «Чевенгуре» Андрея Платонова.
На чрезвычайно мрачном фоне романа, насыщенном тенями несчастных, неприкаянных, голодных людей, появляется вдруг фигура странствующего рыцаря революции Степана Копёнкина, проникнутого идеей избавления всего человечества от страданий, связанных с эксплуатацией, и совершающего подвиги в память прекрасной девушки Розы Люксембург. Вот несколько цитат:
«Копёнкин воодушевленно переменился. Он поднял чашку с чаем и сказал всем:
— Товарищи! Давайте выпьем напоследок, чтобы набраться силы для защиты всех младенцев на земле и в память прекрасной девушки Розы Люксембург! Я клянусь, что моя рука положит на ее могилу всех ее убийц и мучителей! <...>
— Роза! — вздыхал Копёнкин и завидовал облакам, утекающим в сторону Германии: они пройдут над могилой Розы и над землей, которую она топтала своими башмаками. Для Копёнкина все направления дорог и ветров шли в Германию, а если и не шли, то все равно окружат землю и попадут на родину Розы.
Если дорога была длинная и не встречался враг, Копёнкин волновался глубже и сердечней. Горячая тоска сосредоточенно скоплялась в нем, и не случался подвиг, чтобы утолить одинокое тело Копёнкина.
— Роза! — жалобно вскрикивал Копёнкин, пугая коня, и плакал в пустых местах крупными, бессчетными слезами, которые потом сами просыхали. <...>
Роза! — уговаривал свою душу Копёнкин и подозрительно оглядывал какой-нибудь голый куст: так же ли он тоскует по Розе. Если не так, Копёнкин подправлял к нему коня, иссекал куст саблей: если Роза тебе не нужна, то для иного не существуй — нужнее Розы ничего нет».
Мессианизм платоновского героя, конечно, сильно гипертрофирован. Однако трудно представить себе Гражданскую войну, сталинскую индустриализацию, а также Великую Отечественную без миллионов таких копёнкиных, готовых отдать свою жизнь за идеал, поскольку сама по себе эта жизнь в условиях непрерывного ужаса голода, лагерей, оккупаций и братоубийственных схваток, в общем-то, уже ничего не стоит. Человек, которого раздавила история, чувствовал себя несчастным. Но человек, который призван историей дать счастье всему человечеству ценой невиданных мук, ощущал, что нет ничего важнее того особого пути России, на который ее наставили то ли Бог, то ли Маркс, то ли Сталин, то ли еще кто.
Нынешние российские представления об особом пути являются адаптацией больших мессианских идей прошлого к реалиям общества потребления. Пролетарий 1930-х—1940-х, у которого не было никакой собственности, мог и впрямь мечтать дойти до Ганга, тем более что в армии еды было больше, чем в разоренной деревне. Сегодняшний представитель зарождающегося среднего класса в армии служить не готов. Пешему походу на Ганг или конному маршу во спасение Розы Люксембург он предпочитает воскресную прогулку на собственном автомобиле за город. Однако и этот человек, испытывая неудовлетворенность состоянием нашего общества, мечтает порой об особом пути России. Или, точнее, о том, чтобы чувствовать себя гражданином великой державы, а не обычной страны, мучительно пробирающейся по пути догоняющей модернизации.
На бытовом уровне представления об особом пути трансформируются сегодня в антиамериканизм — в попытку противопоставить наш образ жизни некоему «базовому», который, как полагают многие, навязывается России из-за океана. Антиамериканизм тоже (как и представления об особом пути в целом) не является уникальной особенностью нашей страны. В той или иной степени он характерен для многих народов современного мира, причем довольно частые ошибки во внешней политике США создают для антиамериканизма питательную почву. Однако в России он подпитывается еще и несбывшимися ожиданиями 1980-х—1990-х годов. Трудности эпохи реформ в обществе потребления уже не могут породить чего-то похожего на былые мессианские идеи освобождения человечества или хотя бы славянского мира. Но отторжение условного «американского пути» они в значительной части общества все-таки порождают.
Проблема формирования представлений об особом пути в обществе потребления — это проблема своеобразной «любви-ненависти».
С одной стороны, на практике мир, обеспечивающий товарное изобилие, оказывается для широких масс населения привлекательнее следования мессианским идеям прошлого. Этот мир доступен: его можно пощупать, приобрести за деньги, сделать частью своего образа жизни. Если в прошлом представления об особом пути порождались объективными обстоятельствами, препятствовавшими спокойному развитию, то теперь такое развитие оказывается доступно даже для многих людей, живущих в «провалившихся» государствах, то есть тех государствах, которые не могут сформировать нормальные жизненные условия для своих граждан.
С другой же стороны, разрыв между успешными и «провалившимися» государствами есть реальность, которую многие ощущают на собственной шкуре. Российский гражданин хотел бы иметь те возможности, которыми обладает американец или житель Евросоюза, но он не имеет их сегодня. На сознание россиян влияют разрыв в уровне доходов, нехватка комфортабельного жилья, недостатки отечественного социального страхования, визовый барьер, отделяющий нас от стран Запада, и многое другое. Преодоление объективно существующих преград, конечно, возможно, но оно требует колоссальных затрат сил, которые доступны отнюдь не каждому. Соответственно, для значительной части общества возможность пощупать Западный мир — это реальность, а намерение сделать его частью своего образа жизни — не более чем намерение.
Вся эта история «любви-ненависти» напоминает знаменитую пьесу Бернарда Шоу «Пигмалион». Суть той истории состояла в следующем. Профессор Хиггинс «подобрал на улице» цветочницу Элизу с намерением сделать из нее настоящую леди. Девушку отмыли, приодели, накормили и научили правильно говорить по-английски. Создали фактически совершенно другого человека. И этот человек влюбился в своего создателя. Однако по завершении профессорского эксперимента Элиза оказалась Хиггинсу не нужна. Она не только не получила ответной любви, но даже не получила места в том прекрасном мире, которым ее соблазнили. Трагический разрыв между собой и лощеным профессором отмытая, одетая, накормленная и хорошо говорящая по-английски девушка ощущала значительно острее, нежели грязная, малообразованная цветочница, никогда не бывавшая в приличных домах. Не удивительно, что в момент отчаяния Элиза швырнула в «циничного экспериментатора» его туфлями.
Нынешний российский антиамериканизм — это попытка «швырнуть туфлями» в своего создателя, заявив тем самым не столько о своем особом пути, сколько об особой позиции в том положении, которое мы поневоле занимаем. Америка «соблазнила» нас рынком и демократией, «отмыла, одела, накормила» и научила правильно выражаться. По сути дела, она создала у широких масс представление, будто можно быстро пройти путь от цветочницы до светской леди. Но на самом-то деле нам надо по-прежнему торговать цветами, и лишь тот, кто будет чрезвычайно успешен в этом бизнесе, получит со временем доступ к светской жизни.
Конечно, в прямом смысле нельзя говорить, будто сегодняшнюю Россию создала Америка. Реформы мы делали сами со всеми их успехами и провалами. Однако не стоит преуменьшать влияние идеализированного образца. В позднее советское время на фоне нарастающих дефицитов и деградации правящей страной геронтократии у многих людей формировалось не вполне адекватное представление о жизни на Западе, почерпнутое в основном из красивых американских и французских фильмов. Наверное, многим казалось, что, похоронив коммунизм и проведя минимальные преобразования, можно сделать нашу жизнь похожей на соблазнительное кино. Естественно, ничего подобного на деле не вышло.
Вместо кинематографической сказки пришлось претерпевать все трудности реформ. Более того, сравнительно быстро рухнули представления о том, что мы сильно нужны Западу и, значит, он должен нам помогать. «Кормили» и «одевали» нас только поначалу, в годы перестройки, когда Америка пыталась понять, можно ли трансформировать «империю зла» во что-то цивилизованное. Но объем зарубежных кредитов, предоставленных в наиболее трудный и ответственный момент трансформации советской экономики в рыночную, был незначителен.
Наконец, немаловажное значение имело то, что Белый дом перестал говорить с Кремлем как с равным по значению партнером, представляющим сверхдержаву. Более того, Америка по возможности стремилась к тому, чтобы вывести Восточную Европу из-под влияния Москвы и предоставить бывшим странам Варшавского договора и бывшим республикам Советского Союза возможность постепенного вхождения в НАТО и Евросоюз. Все это сильно обидело российское руководство, оно стало все чаще допускать в своих выступлениях жесткую риторику, что не могло не повлиять на фрустрированное реформами и разочаровавшееся в «западной сказке» население. Так, за сравнительно короткий срок мы прошли путь от надежды построить на родной земле жизнь в стиле а-ля Голливуд до антиамериканизма, затронувшего широкие слои населения.
Однако подобный антиамериканизм уже не породит истинного мессианизма. Он просуществует до тех пор, пока трудности трансформации не уйдут в прошлое, и со временем полностью потеряет всякую связь с представлениями об особом пути. В какой-то степени антиамериканизм сохранится, если Америка будет по-прежнему державой, предлагающей миру свои правила игры, но русский мессианизм разделит судьбу английского, французского и немецкого.
Продолжение цикла статей о пути модернизации России последует через несколько номеров.
Опубликовано в журнале:
«Звезда» 2013, №7
МНЕНИЯ
Отраслевые эксперты пересмотрели прогноз объемов производства персиков и нектаринов в странах ЕС, так как неблагоприятные погодные условия уже отразились на посадках в Испании и Греции. Пересмотрены планы производства фруктов, выдвинутые в начале года и апреля, после которого и «вмешалась» природа.
Выпавший в Греции и Македонии град уже видимо сказался на будущей урожайности – снижение приблизительно на 24% и 29%. А в Испанию этой весной пришли град и штормы, особенно сильно затронувшие сады Каталонии. В этой стране ожидаемое снижение производства может фиксироваться на уровне 12% у персиков и 7% у нектаринов.
Портал freshplaza приводит и прогноз понижения урожайности в Италии: персики – 6% и нектарины – 13%, а также во Франции – 4% и 10% соответственно. Повлияла погода и на производство абрикосов. Урожай этого вида фруктов, как ожидается, снизится на 44% в Греции, 14% в Испании, 37% в Италии и 16% во Франции.
Все данные приводятся в сравнении с прошедшим 2012 годом.
Этой статьей ИА "FruitNews" открывает серию публикаций специального проекта "Путь банана". В его рамках мы постараемся проследить путь банана к российскому потребителю от плантации до полки магазина на примере продукции, которая выращивается в Эквадоре, так как большая часть бананов привозится в Россию именно из этой страны.
Начиная наше путешествие, мы хотим поблагодарить Pro Ecuador, директора российского представительства этой организации Карлоса Лема Боне и Ассоциацию экспортеров бананов Эквадора (AEBE), которые оказали огромную помощь в организации поездки представителей ИА "FruitNews" в эту страну, подготовке программы встреч и проведении интервью с официальными лицами и представителями бизнеса Республики Эквадор.
В дополнение к официальным встречам, в рамках этого проекта мы посетили банановую плантацию, понаблюдали за упаковкой и отправкой бананов, увидели процесс погрузки бананов в порту, побеседовали со многими представителями банановой отрасли, а также стали участниками Международного бананового форума, где Ирина Козий, директор ИА "FruitNews" выступила с докладом о российском рынке бананов и тенденциях плодоовощной отрасли.
Статьи, фотографии и цифры, собранные в ходе нашей поездки, Вы найдете в следующих материалах спецпроекта "Путь банана".
Бананы в Эквадоре
Республика Эквадор не является самым крупным, но все же остается одним из ведущих производителей бананов, обеспечивающим примерно треть от мирового урожая этого фрукта. Банановая отрасль Эквадора обеспечивает около 10% от полного объема продукции, экспортируемой из страны на внешние рынки. Бананы - второй по размеру продукт экспорта из этой страны после нефти, и именно поэтому ему уделяется такое большое внимание на государственном уровне.
В общей сложности, под выращивание бананов в стране отведено порядка 214 тысяч гектаров земли. Основные плантации сосредоточены на востоке этого центральноамериканского государства, в регионах – Эсмеральдас (Esmeraldas), Пичинча (Pichincha), Котопакси (Cotopaxi), Боливар (Bolivar), Лос Риос (Los Rios), Гуайас (Guayas), Манаби (Manabi), Канар (Canar), Азуай (Azuay) и Эль Оро (El Oro).
Правительство страны и руководство организации Pro Ecuador стремятся к увеличению экспорта и усилению поставок бананов, как по всему миру, так и в Россию, так как она является крупнейшим рынком сбыта выращенной в Эквадоре продукции.
По итогам 2011 года поставки бананов из Эквадора распределялись следующим образом:
Россия – 23%;США – 18%;Италия – 14%;Германия – 11%;Бельгия – 6%;Чили – 5%;Сербия и Черногория – 4%;Турция (не только поставки в страну, но и транзит в Иран и Ирак) – 3%;Нидерланды – 2%;Прочие страны – 14%.
- Бананы - как Coca Cola, для которой стратегия бизнеса строится на 3A: availability (прим. ред. - наличие продукта в любой точке продаж), affordability (прим. ред. - доступность продукта по цене) и acceptability (прим. ред. - приемлемость продукта по качеству и вкусу для большинства потребителей),- считает Карлос Лема Боне.
Торговый центр The Dubai Mall информирует посетителях о форме одежды во время священного месяца Рамадан, который начнется 8 июля. Администрация комплекса призывает всех посетителей уважать национальные обычаи и выбирать скромную, закрытую одежду. Листовки карманного размера напечатаны на восьми языках мира, в числе которых английский, арабский, французский, русский, итальянский, немецкий, хинди и китайский. Их можно взять на любой из информационных стоек комплекса или получить из рук персонала. «Мы призываем покупателей уважать культурные особенности страны», - говорится в заявлении центра. Нужно отметить, что данная тема не раз вызывала бурные дебаты на интернет-форумах. В то время как местные жители считают слишком открытую одежду, особенно на женщинах, оскорбительной и недостойной, многие туристы не согласны с введением дресс-кода.
Средняя стоимость туров по самым популярным туристическим направлениям с вылетом из Москвы за июнь выросла на 22% и составила 25,8 тысячи рублей.
Еще в мае этот показатель был равен 21, 2 тысячи рублей, говорится в исследовании поисковика туров OnlineTur.ru.
Индекс Горящих Туров равен средней стоимости тура в рублях на одного человека при двухместном размещении на семь ночей. В стоимость тура входят проживание, перелет, медицинская страховка и трансфер до отеля, поясняет Infox.
Индекс составляется как среднее арифметическое от минимальных цен российских туроператоров по 10 основным туристическим направлениям. Это Египет, Турция, Таиланд, ОАЭ, Италия, Чехия, Доминиканская Республика, Куба, Мальдивы, Вьетнам.
Самым популярным направлением среди российских туристов ожидаемо стала Турция. На эту страну приходится треть всех бронирований. Наши соотечественники продолжают выбирать Турцию и для покупки недвижимости и для отдыха. Оставшиеся четыре места в пятерке лидеров заняли Египет (15,7%), Греция (9,7%), Испания (5,2%) и Кипр (5,1%).
Кроме того, большое увеличение спроса показали Черногория – на 44% (доля 2,3%), Тунис - на 29% (доля 4%), Таиланд - на 14% (доля 4,9%) и Болгария - на 7% (доля 3,1%).
Министерство инфраструктуры Украины вместе с Укравтодором продолжают привлекать международных инвесторов и искать возможности для участия в финансировании строительства и реконструкции украинских дорог отечественных инвесторов.
В частности, МИУ ведет переговоры относительно продолжения модернизации международных транспортных коридоров на территории Украины с такими международными финансовыми организациями, как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Международный банк реконструкции и развития. В рамках сотрудничества с этими финансовыми институтами уже внедряется 3 проекта по реконструкции и капитального ремонта стратегически важных международных коридоров: части автомобильных дорог М-03 (Киев-Харьков), которая ориентировочно нуждается в 650 млн. долл. США; М-05 (Киев-Одесса), оценочной стоимостью 200 млн. евро; и Г-01 (Киев-Чернигов), которая нуждается в 400 млн. евро. Кроме того, сейчас ведутся переговоры о расширении сотрудничества с международными финансовыми учреждениями и привлечение их к развитию автомобильных дорог:
- Знаменка - Луганск - Изварино, на участке Донецк - Днепропетровск - Луганск, протяженностью 217 км и оценочной стоимостью 10,5 млрд. грн.;
- Днепропетровск - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка, протяженностью 148 км, для завершения которого необходимо 7,4 млрд. грн.;
- Автомагистраль в г. Запорожье вместе с двумя мостам через р. Днепр, протяженностью 9,1 км, в том числе: 7 развязок и 26 сооружений. Для завершения первого пускового комплекса выделено 800 млн. грн.;
- Строительство последней очереди обхода г. Донецк, длиной 25,9 км. Стоимость работ - 2,8 млрд. грн.;
- Строительство второй очереди обхода г. Днепропетровск, длиной 7,0 км. Для завершения 4 очереди предусмотрено 565,6 млн. грн.
Положительный опыт сотрудничества с международными финансовыми учреждениями показал необходимость и новые возможности совершенствования мер по контролю качества выполнения подрядчиками дорожных работ. Согласно международным стандартам, технический надзор за соответствием и своевременностью выполнения работ выполняет независимый инженер-консультант, который избирается на конкурсной основе. В частности Укравтодор уже имеет положительный опыт работы служб независимого технического надзора во время ремонта автомобильных дорог Киев-Чоп, Киев-Харьков-Довжанский, Киев-Ковель-Ягодин, финансируемых за счет международных финансовых организаций. Технический надзор осуществлялся компаниями "Mott MacDonald Group Limited (Великобритания), "Louis Berger SAS" (Франция), IRD (Франция), EGIS (Франция), High-Point Rendel (Великобритания), Safege Consulting Engineers & IRD Engineering (Бельгия, Италия)
Как отметил во время брифинга в Кабинете Министров Министр инфраструктуры Владимир Козак, в Украине такой способ контроля пока возможен только в рамках проектов с международными организациями, поскольку законодательством не закреплены гарантийные сроки на объекты автомобильных дорог.
"В настоящее время Укравтодор дорабатывает проект новой редакции ДБН В.2.3-4: 201Х: "Автомобильные дороги. Часть 1. Проектирование. Часть 2. Строительство", где будут установлены гарантийные сроки эксплуатации объектов автомобильных дорог, например, на земляное полотно до 10 лет, асфальтобеионне и цементобетонное покрытие от 3 до 8 лет", - рассказал Министр. Установлены гарантийные сроки обяжут подрядчиков нести ответственность в случае нарушения строительных требований.
А ради использования опыта независимого технического контроля на других объектах, финансируемых без привлечений кредитов МФО Укравтодор до конца года при поддержке Всемирного банка инициировал проведение аудита для оценки существующей системы контроля качества дорожно-строительных работ в нашей стране. Предполагается, что независимый аудитор разработает рекомендации по совершенствованию системы контроля качества выполнения строительных и ремонтных работ. "Мы сделаем систему на уровне международных", - подчеркнул Владимир Козак.
Также рассматривается вопрос финансовой ответственности подрядчика за некачественную работу. Для этого будет создан страховой гарантийный фонд, средства которого могут направляться на покрытие расходов, связанных с выполнением некачественных строительных работ, в течение гарантийного срока.
Кроме того, продолжается поиск новых возможностей для привлечения не только международного, но и отечественного частного капитала в развитие автомобильных дорог. Так, одной из новых форм государственно-частного партнерства станет концессия. По словам Министра, Укравтодор уже подготовил 7 проектов строительства новых дорог, которые в ближайшее время будут выставлены на концессионные конкурсы. Первоочередными из этих проектов являются:
- строительство и эксплуатация автомобильных дорог по направлению Краковец - Львов - Броды - Ровно длиной 258 км, ориентировочная стоимость - 13 млрд. грн.
- строительство, ремонт и эксплуатация автомобильной дороги от границы с РФ (КПП Щербаковка") - Харьков - Новомосковск. Общая длина участков дороги, которые включаются в проект - 209 км, ориентировочная стоимость работ - 3,9 млрд. грн.
- строительство и эксплуатация I и II очередей Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева от автомобильной дороги Киев-Чернигов-Н. Яриловичи в Киев-Ковель-Ягодин длиной 151,6 км, стоимость - 24,9 млрд. грн."Подготовка документации продолжается. Думаю, что уже осенью мы предложим концессионерам условия участия в конкурсе", - отметил Владимир Козак.
По условиям такого государственно-частного партнерства инвестор должен на 100% профинансировать строительство и берет на себя риски за увеличения расходов на строительство и эксплуатацию. Власть, в свою очередь, принимает решение о Проекте, финансовую модель возврата инвестиций, предоставления государственные гарантии по обязательствам Государственного партнера и устанавливает максимальную плату за проезд по новой дороге.

Бюджетная авиакомпания Volotea подтвердила свои намерения начать полеты из Международного аэропорта "Киев" уже с 2014 года.
Volotea - испанская бюджетная авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Барселоне. Флот состоит из 9 однотипных самолётов Boeing 717, рассчитанных на перевозку 125 пассажиров.
Возможные направления, которые сейчас рассматривает авиакомпания Volotea - города Европы: Мадрид, Марсель, Порту, Болонья, Берлин, Бухарест, Краков, Дублин, София, Штутгарт, Манчестер.
Международный аэропорт "Киев" в марте 2011 подписал договор с авиакомпанией Wizz Air-Украина, в апреле 2013 - с итальянской авиакомпанией Air One и испанским дискаунтером Vueling Airlines. Таким образом, в 2014 году из аэропорта "Киев" будут летать 5 авиакомпаний, которые позиционируют себя как лоукост компании.
Итальянские стальные гладиаторы: победа или смерть?
Крупнейшие стальные компании страны ведут отчаянную борьбу за выживание, вступив в самый драматичный период в своей истории. Решение проблем Ilva и Lucchini является вызовом и для «Плана Таяни», который либо докажет жизнеспособность, либо умрет вместе со столпами итальянской черной металлургии.
На минувшей неделе лидеры итальянских профсоюзов обратились к правительству с предложением принять ряд мер, способствующих оздоровлению отрасли. Одним из них может стать создание производственного альянса между двумя крупнейшими сталепроизводителями - Ilva и Lucchini. Lucchini может организовать выпуск полуфабрикатов для поставки на Ilva, испытывающую дефицит после закрытия части мощностей.
План поддержали в Marcegaglia, гендиректор которой Антонио Марчегалья заявил, что «с технической точки зрения план может сработать, ведь ранее Lucchini уже поставляла полуфабрикаты на Ilva». Но, говорит Марчегалья, «необходимо учитывать, целесообразно ли это экономически и соответствует ли рыночным условиям..». Немаловажен и технический фактор – ведь предприятие в Пьомбино выпускает длинномеры, в то время как в Таранто – плоский прокат.
В профсоюзах резонно отмечают, что «европейские металлурги только и ждут смерти заводов Piombino и Taranto, чтобы украсть их клиентов». Сейчас многие потребители в Италии, в т.ч., клиенты Ilva и Lucchini, вынуждены восполнять нехватку продукции за счет импорта. За 4 месяца 2013 г. импорт метпродукции из не входящих в ЕС стран вырос на 40%, до 2,642 млн. т, в т.ч., ввоз листа почти удвоился – до 1,35 млн. т.
Решение вопроса об интеграции Ilva и Lucchini - в руках правительства, которое управляет компаниями через «антикризисных комиссаров». Внешним администратором Ilva является Энрико Бонди, Lucchini – Пьеро Нарди. Именно им предстоит определить, является ли такое сотрудничество возможным.
Проблемы Ilva и Lucchini дестабилизировали итальянскую черную металлургию. Дело не только в снижении производства, речь о 25-30 тысяч прямых и косвенных рабочих мест. Это также рост затрат на импортный прокат, которые лягут на себестоимость итальянской машиностроительной продукции. Антонио Гоцци, глава ассоциации производителей стали Federacciai, оценивает увеличение расходов для местных производителей до € 5 млрд. в год, что приведет ряд компаний к банкротству. Влияние кризиса в стальной отрасли на итальянский сектор инфраструктуры, строительства и автомобилестроения также будет ощутимым.
Именно поэтому правительство контролирует ситуацию на Ilva и Lucchini, ставя задачу сохранить эти заводы, пусть даже ценой частичного сокращения мощностей. Особенно это важно для менее развитого юга Италии, где и так остры проблемы занятости.
Еще 5 лет назад итальянская стальная отрасль была одной из самых динамичных и инвестиционно привлекательных в ЕС. По уровню потребления на душу населения (500 кг в год), страна входила в Топ-10 в мире. С емким внутренним рынком Италия выступала крупным нетто-импортером полуфабрикатов и плоского проката, и нетто-экспортером сортового проката.
В 2012 г. потребление стали в Италии упало на 20%, до 21,7 млн. т, производство – на 5%, до 27,3 млн. т. В нынешнем году потребление составит в лучшем случае 20,5 млн. т, производство – 23 млн. т. В январе-мае производство снизилось до 10,5 млн. т (-15,6% к АППГ).
Завод Ilva в Таранто останавливает уже третью из пяти доменную печь (№ 2) из-за слабого спроса. Напоним, что модернизация всех домен с целью снижения загрязнения окружающей среды является обязательным условием для возобновления полноценной деятельности меткомплекса в Таранто.
Тем временем у другой проблемной компании – Lucchini, находящейся в стадии банкротства, появляется шанс найти нового собственника. Одним из претендентов на ее актив Piombino является швейцарская Klesch, которая ищет возможности синергии с недавно купленным у компании Leali прокатным заводом в Odolo (провинция Брешия).
Реальное предложение от швейцарских инвесторов может существенно видоизменить бизнес-план выхода Lucchini из кризиса, подготовкой которого занимается «временный комиссар» Пьеро Нарди. Первоначально предполагалось продать всю компанию как единое целое, однако, очевидно, что продать ее частями быстрее и проще. По неподтвержденным данным, в приобретении завода в Триесте высказывала заинтересованность итальянская группа Arvedi. Напомним, что в 2011 г. Lucchini продала подразделение Ascometal французской Bidco, принадлежащей Apollo Global Management.
К слову, в регионе Пьомбино на западе стране работает также завод ArcelorMittal Piombino, а еще в «итальянскую семью» компании Лакшми Миттала входят предприятия Avellino и Canossa.
Неясно будущее и крупнейшего производителя нержавеющей стали – Acciai Speciali Terni, выставленного на продажу финской Outokumpu по требованию ЕК. Производство на AST рентабельно, но будущий собственник (среди претендентов – Aperam и Arvedi) вынужден будет закрыть часть мощностей Terni из-за перепроизводства нержавеющей стали в Европе.
В непростом положении находятся и другие меткомпании – Marcegaglia, Arvedi и Dalmine. Лишившись стабильных поставок полуфабрикатов и г/к проката, они вынуждены больше ориентироваться на импорт. Сейчас цены низки, в т.ч., за счет демпинговых поставок выведенного из-под ареста проката из Таранто, однако их страшит будущая зависимость от импортеров из Азии и Восточной Европы, качество продукции которых – пока «закрытая книга».
В Италии надеются, что помочь отрасли должен план Еврокомиссии по поддержке стального сектора. Как и когда, никто не знает, ведь план Антонио Таяни – это рамочный документ, в который еще предстоит встроить конкретные инструменты и механизмы. Если же с помощью плана еврокомиссара Таяни не удастся спасти 2 крупнейшие итальянские стальных компании, значит, кому нужен такой план?
Максим Белов

Putin Toys With Obama as Syria Burns and Snowden Runs Free
Garry Kasparov on the pathetic kowtowing to Putin—and the terrifying historical echoes of such behavior.
Barack Obama and Vladimir Putin sat across from each other at the G8 meeting last month in Northern Ireland, but their positions on Syria could not be further apart. The G8 statement on Syria that came out from the summit was a triumph for Putin and also a victory for what I would call “consensus through cowardice.” Getting rid of the murderous dictator Bashar al-Assad is not one of the document’s pledges. Incredibly, al-Assad is not even mentioned—no doubt at the insistence of his greatest supporter, Putin. For the sake of a hypocritical display of unity, Obama and the others signed a worthless statement that could have been written in the Kremlin.
President Barack Obama meets with Russian President Vladimir Putin in Enniskillen, Northern Ireland, on June 17, 2013. (Evan Vucci/AP)
Since the Russian connections of the Boston Marathon bombers came to light, the myth of common ground between Putin and the West has received a lot of lip service on both sides. It is useful to Putin both at home and abroad to maintain the illusion that he wants greater integration with Europe and better relations with the United States. In both places there have been recent moves to sanction the Kremlin and Putin’s thugs for human rights violations and criminal activity. Putin needs to show his allies he can still protect them.
This does not mean Putin will cede any ground on anything that matters to him, at least not while Obama and the rest fail to apply real pressure. The latest evidence is the bizarre affair of Edward Snowden, the American NSA employee who leaked classified information about domestic surveillance programs. Then he got on a flight from Hong Kong to Russia and according to reports he’s been sitting in Sheremetyevo airport since Sunday trying to figure out his next move. The U.S. wants Snowden extradited for espionage, and when someone else wants something it’s a chance for Putin to show what “cooperation” really means to him.
First came Putin and Foreign Minister Sergei Lavrov’s statements that Snowden wasn’t technically in Russian territory while in the airport and, therefore, was outside of Russian jurisdiction. Of course Putin feels he has jurisdiction to send tanks into Georgia and military personnel into Syria, and Kremlin critics in London have the odd habit of being murdered. But not the Moscow airport—it’s out of reach! Even that legal loophole expired days ago, however, so now it’s just a matter of Putin wanting to squeeze the most attention and annoyance out of this little accident.
Will Obama and David Cameron pose for more photos with Putin while their dithering guarantees the destruction of the remaining moderate elements among the Syrian rebels?
Reflecting Putin’s opportunism, the Kremlin is now suggesting this situation is an opportunity to create an extradition treaty between Russia and the United States. This would be a grave blow to human rights, and the mere suggestion of such a thing illustrates the dangers of treating an authoritarian state like a democratic nation. An extradition pact assumes that the signatories play by similar rules of justice and have similar values. Imagine an agreement between North and South Korea in which Northerners escaping that colossal gulag were forced to return to misery and death simply because Pyongyang requested it. Putin would use such a treaty to persecute innocent Russians who have escaped his grasp by fleeing the country. Disobedient businessmen, disloyal functionaries, and opposition activists—these are the “criminals” the Kremlin wishes to pursue. An extradition treaty with a country that keeps political prisoners would be a moral outrage.
As for the other direction such an accord would cover, consider the case of Andrei Lugovoi, the former KGB agent wanted by British authorities investigating the 2006 murder by radioactive polonium-210 poisoning of Alexander Litvinenko in London. Lugovoi was the prime suspect, leaving a radioactive trail and accused by the victim on his deathbed. Not only did Putin refuse to extradite Lugovoi to be questioned in the U.K., but he allowed him to become an anti-Western propaganda star who soon won a seat in the Russian Parliament (Duma).
This whole Snowden charade is entirely in keeping with Putin’s technique of having it both ways. He gets to look like a tough guy for standing up to Obama on an issue that matters to Putin not at all while at the same time he pretends he is cooperating as best he can. If Snowden were actually valuable there would be no public show. He’d be in a bunker deep under KGB headquarters, and the Kremlin would be in full denial mode. Or he’d likely never have been let out of China. And as at the G8 meeting, other leaders are too afraid to challenge this flagrant hypocrisy, which further emboldens Putin.
Since Putin’s assault on democracy and human rights began in Russia in 2000, I have used the term “G8” under protest. It remains the G7, or the derisive “G7+1” used by Canadian Prime Minister Stephen Harper prior to Enniskillen. (This was a rare display of backbone that he had to humiliatingly withdraw a few days later.) It is the group of great industrial democracies, and it is difficult to say on which of those two qualifications Putin’s Russia is the greater failure. When Putin hosted the G8 in Saint Petersburg in 2006, he talked about how Russia was becoming more democratic. Seven years of crackdowns later, his government has begun churning out one draconian law after another, many of which contravene the international treaties and human rights accords Russia has signed. The latest is a bill that criminalizes “gay propaganda,” which can be broadly interpreted as anything about homosexuality.
To judge from the G8 Syria statement, one is greater than seven. It is a vague wish list about “diplomatic pressure” and condemning this and supporting that without a commitment to action. And how could there be with Putin there? It is preposterous that the so-called leaders of the free world in Northern Ireland signed a consensus document on Syria with Putin while the Kremlin is supporting al-Assad’s war machine with advanced weapons and Russian military personnel. He got what he wanted, which is to extend the conflict for as long as possible while dragging neighboring powers deeper into the mire. Along with supporting a fellow dictator, this outcome keeps the price of oil high, the only thing Putin and his allies at home really care about.
Cynically referring to the al-Assad regime’s vicious war of oppression against the Syrian people as a civil war is a mendacious trick that invites parallels to the Spanish Civil War. Francisco Franco’s rebellion against the elected government of Spain in 1936 eventually turned the country into the host of a grinding proxy war that could have been avoided by early decisive action. But France and the Great Britain, eager to avoid conflict and even more eager to reach an accord with Hitler’s Germany, immediately promoted a policy of nonintervention regarding the coup by Franco’s forces. Of course, Germany and Italy supplied the Spanish fascists regardless, Hitler providing air power and Mussolini ground forces. Putin’s Russia is happy to take the role of Hitler’s Germany in this bloody reenactment in Syria, while Iran and Hezbollah are playing the Italians.
With no help from Britain and France, by 1938 the Spanish Republican forces were dominated by the only remaining government sponsor, Stalin’s Secret Police, meaning communism and fascism were soon the only options. Although the positions of the rebels and the government are reversed in Syria, the escalating proxy war and the fatal tentativeness of the pro-democracy forces are clearly echoed. Many in the West worry that arming the Syrian rebels will lead to al Qaeda coming to power there. But by withholding support this outcome becomes more likely, not less. If the primary source of support to the Syrian rebels remains the Saudis, it should be no surprise if al Qaeda is the main beneficiary. Will Obama and David Cameron pose for more photos with Putin while their dithering guarantees the destruction of the remaining moderate elements among the Syrian rebels? If yes, the options will soon be limited to al Qaeda and Hezbollah.
The G8 statement refers to bringing all sides of the Syrian conflict to the table. If this conference between a murderer and his victims does take place with G8 oversight, I can suggest a time and place. This September will mark the 75th anniversary of the Munich Agreement, the infamous act of appeasement that permitted the Nazi annexation of Czechoslovakian territory. British Prime Minister Neville Chamberlain hailed the result of the agreement as “peace for our time.” So September 29 in Munich would be the ideal symbolic location for a Syrian “peace conference,” if anyone is left alive to sit across from al-Assad. Perhaps the G7 leaders know the Munich story, but it appears their history books are missing the following chapters. If I am not mistaken, a few important events occurred after Chamberlain’s triumphant declaration, and they were not long in coming.
Garry Kasparov is a former world chess champion and an elected member of the Russian opposition movement’s Coordinating Council.
Первый из двадцати российских лайнеров Sukhoi Superjet 100 был поставлен мексиканской авиакомпании Interjet, которая ранее сделала один из самых больших заказов на парижском авиасалоне в Ле-Бурже.
Первый из двадцати российских лайнеров Sukhoi Superjet 100 был поставлен мексиканской авиакомпании Interjet, которая ранее сделала один из самых больших заказов на парижском авиасалоне в Ле-Бурже. Таким образом, ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» и ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» очень оперативно приступили к выполнению контрактных обязательств и начали поставки в далекую Латиноамериканскую страну уникальных самолетов, оснащенных самым современным оборудованием и построенных по новейшим технологиям.
По словам президента Interjet Луиса Гарза, мексиканцы счастливы получить свой первый SSJ100, получив при этом возможность участвовать в ближайшем международном авиашоу с современной техникой, раскрашенной в фирменные цвета: «Авиационная промышленность шагнула далеко вперед, а ведь в нашем парке до настоящего момента имеются самолеты, в которых применяется бензиновая электростанция. Мы очень рады, что для организации коммерческих полетов в Мексике нам посчастливилось заключить контракт на поставку SSJ-100, ведь эти самолеты идеально подходят для внутренних перелетов средней протяженности. Подобная авиатехника будет способствовать оказанию услуг самого высокого класса, а комфорт уникального магистрального лайнера, как и сниженные эксплуатационные затраты, позволят нашей компании стать лидером в регионе».
Заметим, что Sukhoi Superjet 100 для мексиканского авиаперевозчика поставляется с эксклюзивным интерьером от компании Pininfarina. Этот самолет принимает на борт до 93 пассажиров, что является оптимальным количеством для выполнения полетов внутри страны. Обслуживанием SSJ-100 в Мексике займется компания SuperJet International, которая будет действовать при поддержке программы SuperCare, финансируемой экспортными агентствами России, Италии и Франции.
Италия начала выдавать российским туристам годовые визы
Начиная с июля 2013 года, россияне, отправляющиеся на отдых или в путешествие по Италии, получат визу сразу сроком на 1 год. Об этом сообщил посол Италии в России - Антонио Дзанарди Ланди, подтвердив, что это решение уже одобрено МИДом Италии.
Причем, туристы, ставшие «завсегдатаями» Италии и часто посещающие эту страну, могут получить визы на срок более года – до трех лет.
В какой-то степени, принятию такого решения, поспособствовал майский сбой в итальянском консульстве с выдачей виз. Тогда у многих туристов поездка оказалась на грани срыва. Антонио Дзанарди Ланди извинился за проблемы, вызванные задержкой с выдачей виз и сказал, что, собственно, сбой и произошел-то из-за большого количества поданных в консульство заявлений и лежащих там на рассмотрении дел.
Теперь «дела пошли веселей»: уже за несколько июльских дней было оформлено порядка 9000 виз для граждан России. А в прошлом месяце, только в Москве, их было выдано свыше 100 000.
Срок оформления туристической визы в Италию составляет 5 рабочих дней.
Впервые за последние 12 лет популярный горнолыжный курорт Кортина-д’Ампеццо, что в регионе Венето, открыл свои лыжные трассы в конце июня.
После непродолжительного периода похолодания, когда температура воздуха оставалась ниже средней для этого времени года, в горах выпал снег. Это позволило открыть для любителей горнолыжного спорта трассы на склонах вершин Тофана и Ра-Валлес, на высоте около 2500 метров, сообщает Италия по-русски.
За первую субботу, 29 июня, своей летней работы Кортине-д’Ампеццо принял 150 посетителей, которые смогли вдоволь покататься и забыть, что на дворе лето.
С 30 июня летний лыжный сезон открылся и в Червинии (Валле-д’Аоста).
Наши соотечественники активно интересуются итальянскими горнолыжными курортами. Причем предпочитают не только отдыхать, но и инвестировать в их строительство.
Польский производитель рельсового транспорта компания PESA Bydgoszcz, о чьей заинтересованности в организации производства новых двухсистемных локомотивов в Украине заявило 1 июля Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами, не видит возможности сотрудничества, по крайней мере, до 2017 года по причине отсутствия реальных заказов на его продукцию.
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь компании Михал Журовский, отвечая на запрос агентства.
Он сообщил, что представители компании посетили Украину с визитом в мае текущего года и на первой встрече с вице-премьер-министром Александром Вилкулом действительно высказывали свой интерес к украинскому рынку.
"Во время этой встречи PESA Bydgoszcz задекларировала желание наладить сотрудничество с украинской компанией для создания и поставок рельсового транспорта в Украине и других странах СНГ. Вице-премьер сказал, что Украине в первую очередь нужно грузовые локомотивы (400-500 штук в течении ближайших трех лет), что он знает производственный профиль PESA, ему нравится новый разработанный PESA локомотив и рекомендует начать сотрудничество с днепропетровской компанией "Электровозстроение" в контексте строительстве локомотивов", - отметил пресс-секретарь.
Представители польской компании в июне посетили указанное предприятие, которое подтвердило заинтересованность сотрудничеством, но на следующей встрече в Министерстве инфраструктуры при участии представителей Государственного агентства по инвестициям им сообщили о том, что первые заказы компания может получить через 3-4 года.
"Нам сообщили, что заказы на локомотивы для "Укрзализныци" уже распределены на ближайшие 3 года у других поставщиков", - отметил пресс-секретарь.
"В связи с этим потерян смысл налаживания быстрого сотрудничества с указанной компанией", - подчеркнул он.
Журовский сказал, что потенциальные возможности сотрудничества на сегодняшний день настолько неконкретные, что PESA не видит перспектив работы с предприятием "Электровозстроение".
По данным государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, PESA после ряда встреч в Украине решила изучить возможность производства производство новых двухсистемных локомотивов.
Справка. PESA Bydgoszcz SA - одна из крупнейших в Европе компаний, занимающихся производством, модернизацией, и разработкой рельсового подвижного состава с более 160 летней историей. Компания, контрольный пакет которой контролирует ряд частных инвесторов из Польши, производит, в частности, локомотивы, электропоезда, трамваи, которые поставляет на рынки 8 стран: Беларуси, Чехии, Казахстана, Литвы, Германии, Польши, Румынии, Украины, Венгрии и Италии.
В МОСКВЕ ЗА ПОЛГОДА КУПИЛИ ЭЛИТНЫХ НОВОСТРОЕК НА $579 МЛН
Самая дорогая квартира куплена за $13 млн, всего же было приобретено 225 элитных квартир. Средняя цена метра оказалась выше 17 тысяч долларов.
За первое полугодие 2013 года на первичном рынке ЦАО было реализовано порядка 225 квартир, что на 44% ниже аналогичных показателей 2012 года (тогда было куплено 400 объектов, сообщают аналитики Contact Real Estate.
В денежном эквиваленте за первое полугодие 2013 было реализовано квартир на общую сумму 579,154 млн долларов, что на 22% ниже аналогичных показателей предыдущего года (тогда 746,238 млн долларов). Следует отметить, что за второй квартал 2013 года было продано 110 квартир на сумму 335 млн долларов.
Самыми дорогими проданными объектами за полугодие стали:
1. ЖК "Остоженка Парк Палас" - 374,3 кв. м - $13 млн
2. Barkli Virgin House - 239,2 кв. м - $8,665 млн
3. Barkli Park - 283,5 кв. м - $7,293млн
4. Barkli Virgin House - 177,6 кв. м - $6,467 млн
5. Barkli Virgin House - 167,2 кв. м - $6,186 млн
6. ЖК "Афанасьевский" - 204,9 кв. м - $5,181 млн
7. Barkli Virgin House - 179,1 кв. м - $4,4775 млн
8. "Итальянский квартал" - 195,14 кв. м - $4,29 млн
Больше всего квартир было куплено в Barrin House, "Литераторе" и "Итальянском квартале.
За полугодие было продано 32 148 кв. метров, что ниже аналогичных показателей 2012 года на 42% (тогда 56 тысячи кв. метров).
При этом объем предложения вырос на 11% до 223,8 тысяч кв. метров. Среди новых проектов: ЖК Grand DeLuxe, ЖК "Булгаков", ЖК "Плотникоff", а также апартаментные комплексы Turandot Residences, "У Патриарших"и "Сады Пекина".
Средневзвешенная цена квадратного метра по итогам 1-го полугодия выросла на 2,7% по отношению к началу года и составила 17 316 долларов.
Денис Попов, управляющий партнер Contact Real Estate пояснил: "Несмотря на то, что количество продаж снизилось, рынок элитной недвижимости все равно демонстрирует неплохие результаты. Растут бюджеты сделок и площади покупаемых квартир. Несомненным лидером как по объему первичного предложения, так и по спросу остается района Хамовники
Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства внесло на рассмотрение правительства республики «Государственную программу по развитию орехоплодных культур (орех грецкий, фисташка, миндаль) в Кыргызской Республике до 2025 года».
В качестве причин начала инициативы ведомство называет необходимость повышения эффективности перспективности отрасли, которая может внести существенный вклад в экономику Киргизии и формирование дохода от сельского хозяйства страны в целом. К тому же республика обладает весьма благоприятными климатическими условиями и возможностью выращивать сразу несколько различных сортов орехов.
В настоящее время под посадку ореховых и плодовых культур в Киргизстане отдано порядка 644 тысяч гектаров, из них 41 тысячи гектаров – грецкий орех, 33,8 тысяч гектаров – фисташковые деревья и 2,7 тысяч гектаров – миндальные. А среднестатистический валовой сбор первой разновидности с одного гектара – всего лишь 100-140 килограмм, в то время как в Италии, Турции, Иране и других странах – около 3-5 тонн с той же территории.
- Если учесть, что в среднеурожайные годы валовой сбор грецких орехов в КР может составлять до 3000 тонн (учтенный лесхозами урожай) и стоимость ореха в скорлупе на внутреннем рынке составит от 80 до 120 сомов, то общий доход может оцениваться до 300 млн сомов,- говорится в обосновании Агентства.
В Китае началась настоящая "винная лихорадка" - местные бизнесмены стремятся закупить в Европе как можно больше вин до того, как власти Поднебесной введут новый налог.
Речь идет об антидемпинговом налоге на европейские вина с целью поддержать китайских производителей. В прошлом году несколько китайских винных компаний обратились в Министерство торговли КНР с жалобой на то, что европейским виноделам несправедливо предоставляют государственные дотации.
Такое отношение к производителям из Старого Света со стороны китайских властей вредит развитию винной индустрии в Поднебесной, заявили бизнесмены. Руководство КНР, судя по всему, прислушалось к жалобам своих предпринимателей: антидемпинговый налог на импортные вина из Европы, по предварительным данным, будет введен уже в августе.
Это и спровоцировало "винную лихорадку". Бено Малагги, директор транспортной компании Humann and Taconet, Wine and Spirits Logistics заявил, что из-за участившихся просьб китайских бизнесменов отправить закупленные им вина в КНР как можно скорее темпы отгрузки в его фирме возросли в два раза по сравнению с обычными параметрами.
"За последние 10 дней мы вместо обычных 5-6 контейнеров с вином в неделю отправили 12-15 контейнеров", - заметил Малагги. "Очевидно, что вина, отгруженные в Китай до того, как налог будет утвержден, не будут им облагаться, поэтому они (китайские бизнесмены - DrinkTime) просят нас отправить закупленный товар как можно скорее", - полагает господин Малагги.
Жозе Луис Хермоза, представитель организации IWSR, изучающей мировую алкогольную индустрию, отметил, что сообщения о торговых войнах, как правило, оказывают влияние на рынок, однако предсказать, как ситуация будет развиваться в случае с Китаем, довольно трудно.
Хермоза добавил, что в первые три месяца 2013 года активность китайских покупателей на винном рынке оставалась в норме. Так, потребление игристых европейских вин возросло на 21%, причем лидировали напитки из Италии.
За аналогичный период, с января по март 2013 года продажи неигристых вин из Старого Света возросли на 31%, при этом тут лидировала Франция. А вот продажи балкового вина упали на 22%. "Во втором квартале мы можем заметить влияние торговой войны на рынок, но на данной стадии точно оценить ее воздействие будет сложно", - пояснил представитель IWSR.
Авиакомпания "Трансаэро" с 28 июня начала полеты из аэропорта Внуково в испанский город Жирона, сообщает Flight-Airline.com.Рейс UN 347/348 будет выполняться два раза в неделю. Вылет из Москвы по пятницам и воскресеньям в 22:05, прилет в аэропорт Жироны в 00:25 следующего дня, обратный вылет осуществляется по понедельникам и субботам в 01:20, прилет во Внуково в 07:35. Время указано местное. Полеты будут выполняться на комфортабельных лайнерах Boeing 737-300 из нового высокотехнологичного терминала А аэропорта Внуково.
Жирона - город на северо-востоке Испании, в автономном сообществе Каталония. Графство Жирона - одно из 14 первоначальных каталонских графств. В 1351 г. король Арагона даровал своему старшему сыну титул герцога Жиронского. С тех пор "принц Жиронский" - официальный титул наследника арагонской короны.
Жирону исторически считали "последним мостом в Африку" или "первым бульваром Европы". Стратегическое расположение города, который был построен на Виа Августа ("Дороге Августа") - определило его дальнейшую судьбу. Дорога Виа Августа тянулась от Рима до Севильи и являлась стратегически важным объектом, для защиты которого в 76 г. до н. э. римлянами была возведена крепость Герунда. Массивная фортификационная стена хорошо сохранилась до наших дней. Надо сказать, что даже сегодня она выполняет своего рода защитную функцию. Дело в том, что старая часть Жироны - это квартал богатых людей и большая часть улиц не предназначена для посетителей. Но раз в году в начале мая, когда в Жироне проходит праздник цветов, в течение десяти дней город-крепость открывает свои ворота для всех желающих.
В Жироне стоит не только прогуляться по старинным улочкам исторического центра, набережным с "подвешенными" домами, но и посетить собор Жиронской Девы Марии. Сооружение строилось в несколько этапов, причём не по одному эскизу, а в зависимости от предпочтений правящей верхушки города. За основу был взят сохранившийся римский храм, который с 1015 по 1604 гг. реконструировался в романском стиле. За XV век собор приобрёл несколько дополнительных скульптур. В 1730 г. был построен фасад в стиле барокко, а позже - готический портик. Внутри зал с нефами был полностью переделан в готическом стиле, а установленные витражи считались одними из лучших среди сделанных испанскими мастерами. К сожалению, многие были утеряны или испорчены, и процесс восстановления закончился только к 2011 году закреплением последнего витража с абстрактными мотивами от ирландского художника Шона Скулли.
Ещё одна интересная особенность Жиронской Девы Марии - одна из гаргулий, которые традиционно представляют собой неких животновидных (чаще всего похожих на ящериц) существ. Но на одной из стен собора укреплена единственная во всём ансамбле гаргулья-человек. Её называют "каменная ведьма" или "ведьмой собора". Легенда гласит, что когда-то в городе жила женщина, отдавшаяся дьяволу и занимавшаяся колдовством. Она так ненавидела религию, что оскверняла собор, кидаясь в него камнями. Однажды чудесным образом она превратилась в камень, и её установили на одной из стен, чтобы из её уст вместо проклятий лилась только дождевая вода (через специально проделанное отверстие во рту).
Если пройтись вниз по улочкам и выйти к дому 19 на Calle Calderers, то можно в прямом смысле прикоснуться к легенде города - перед этим домом стоит колонна с небольшой львицей, которая фигурирует во многих фольклорных историях Жироны. По поверью, каждый, кто желает в целости и сохранности продолжить свой путь и когда-нибудь вернуться сюда, должен поцеловать заднюю часть львицы. Поскольку высота колонны около четырёх метров, внизу предусмотрительно построены специальные ступеньки для поцелуев.
25-27 сентября 2013 года в г.Чезена, Италия пройдет 30-ая ежегодная международная выставка Macfrut – крупнейшее отраслевое мероприятие плодоовощного сектора Средиземноморского региона.
Компания Cesena Fiera и ООО "РК Маркетинг" приглашают представителей российских импортеров фруктов и овощей, поставщиков оборудования, технологий и упаковки, розничных предприятий принять участие в работе выставки Macfrut в составе российской делегации.
Для участников делегации компания Cesena Fiera предлагает бесплатный пакет услуг, который включает в себя:
трансфер по прибытию и отъезду в аэропорт (Болонья, Римини, Форли),размещение и питание в отеле (HB),билеты на посещение выставки Macfrut,услуги переводчика,ежедневный трансфер отель – выставка – отель,ланч в дни работы на выставке,участие в программе конференций, семинаров и других официальных мероприятий Macfrut,посещение компаний - производителей свежих фруктов с организованным визитом.
Официальная российская делегация принимает участие в работе выставки с 2009 года. За это время выставку Macfrut посетили более 60 человек из 20 компаний: представители ведущих российских импортеров, компаний оптовой торговли, федеральных и региональных розничных сетей и отраслевой прессы. По отзывам делегатов, выставка Macfrut является отличной площадкой для знакомства и поддержания контактов с итальянскими компаниями – поставщиками плодоовощной продукции, а также для развития деловых отношений и дальнейшего сотрудничества.
Получить подробную информацию о выставке или заполнить регистрационную форму участника российской делегации можно на странице выставки Macfrut2013 на сайте FruitNews.

«С КАЖДЫМ ДНЕМ МЕНЯЕТСЯ НАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРОШЛОМ»
С профессором германистики Губертом Орловским беседует Лукаш Мусял
— Я помню, господин профессор, что на письменном столе в вашем кабинете, когда вы еще работали в познанском Институте германской филологии, стояла репродукция акварели Пауля Клее «Angelus novus». Почему?
— Меня не столько интересовала сама акварель, сколько ее истолкование, которое сделал несколько позднее Вальтер Беньямин. По сей день оно не оставляет меня равнодушным.
— Это истолкование повествует об ангеле, выглядящем так, «словно он готовится расстаться с чем-то, на что пристально смотрит. Глаза его широко раскрыты, рот округлен, а крылья расправлены. Так должен выглядеть ангел истории. Его лик обращен к прошлому. Там, где для нас — цепочка предстоящих событий, там он видит сплошную катастрофу, непрестанно громоздящую руины над руинами и сваливающую всё это к его ногам. Он бы и остался, чтобы поднять мертвых и слепить обломки. Но шквальный ветер, несущийся из рая, наполняет его крылья с такой силой, что он уже не может их сложить. Ветер неудержимо несет его в будущее, к которому он обращен спиной, в то время как гора обломков перед ним поднимается к небу. То, что мы называем прогрессом, и есть этот шквал» (пер. с нем. Сергея Ромашко). Что вас, человека, называющегося себя иногда в шутку «человеком прозаическим», интригует в этом поэтическом образе?
— Меня интригует прошлое, меняющееся по мере того, как мы отдаляемся от него. Или по-другому: картины прошлого, настоящего и будущего, представленные одновременно, но именно этой своей одновременностью вызывающие беспокойство. Мы видим, что оставляет после себя история, но не знаем, что ждет нас в будущем. Более того, с каждым наступающим днем меняется и тот образ прошлого, каким мы его видим. С того момента, как я прочитал этот текст, а может даже еще раньше, во времена моего детства, — и осознаю я это лишь теперь — я начал думать о литературе, художественной литературе как о скупом фрагменте большого мира смыслов, создававшихся некогда, в прошлом, людьми, обществами, человечеством. Я полностью разделяю мнение Беньямина: наш взгляд на прошлое меняется (Беньямин даже употребил в другом месте не слишком модное сегодня слово «диалектический» взгляд): оценивая прошлое, мы постоянно пересматриваем нашу точку зрения.
В определенном смысле Вальтер Беньямин не сказал ничего нового. Иными словами, он лишь выразил то, что ранее отметил Кант, — что не существует познания вне времени и пространства. Об этом говорит, впрочем, и название тридцатого тома «Познанской немецкой библиотеки», в редактировании которой я принимаю участие: «В пространстве мы читаем время» (автор труда — Карл Шлёгель). Не существует познания вне времени и пространства — таким образом, каждое новое познание совершается в новом культурном пространстве, в новом мире знаков и хотя бы уже по этой причине оно всегда будет отличаться от более ранних.
— Интересно, что Беньямин сводит прошлое к руинам — на них-то и взирает Ангел Истории. Что представляют собой эти руины? И что вы, исследователь прошлого, ищете в них?
— Что ищу? Не отвечу напрямик. Меня всегда большее всего волновал вопрос «почему?». Почему человек — человек как личность, но прежде всего как общественная личность, то есть такая, самосознание которой формируется, в частности, и какой-то более широкой группой, — поступает так, а не иначе? Я считаю, что литература — это чрезвычайно ценный инструмент познания группового самосознания, поэтому нашей главной задачей — нашей, то есть литературоведов и прочих гуманитариев, — стала попытка дать ответ на вопрос, почему те или иные социальные группы совершали в прошлом то, что совершали. В этот момент возникает, разумеется, множество дополнительных вопросов, без которых первый вопрос был бы общим, причем банальным. Итак, для примера: в какой мере мы можем считать себя хозяевами нашей индивидуальной и коллективной жизни, коль скоро в исторических процессах столь значительную роль играет случай (или, обращаясь к терминологии Ричарда Рорти, контингенция)? При этом, говоря об исторических процессах, я имею в виду не столько политическую или экономическую историю, сколько то, что создаёт ментальные матрицы в виде религиозных и интеллектуальных убеждений, в виде матриц самосознания и т.п.
Если исходить из моего личного опыта, то думаю, что, глядя на моё происхождение и социализацию, следовало бы говорить обо мне как о представителе своеобразного «меньшинства в меньшинстве». Правда, на первый взгляд могло бы показаться, что я отношусь к преобладающему большинству: я происхожу из семьи безусловно католической, с родословной, которую я проследил (во всяком случае в Вармии) от начала XVIII века. Таким образом, мое происхождение — этнически польское. Добавьте к этому вероисповедание, повлиявшее на весь мой облик, — в данном случае со всей определённостью католичество. Чего еще желать, чтобы заслужить звание представителя большинства? Однако если присмотреться повнимательнее, то окажется, что вармийское католичество было католичеством диаспоры, сравнительно немногочисленной, погруженной в море немецкой этнической стихии. Последняя же по сути была в основном евангелической, или если точнее — лютеранской. И в качестве таковой оказывала значительное влияние на форму вармийского католичества. Я иногда в шутливой форме привожу это к некоей упрощенной формуле: когда житель Мазовии или Галиции отправлялся паломником в Ченстохову, то возносил молитвы Деве Марии с просьбой отремонтировать ему испорченную крышу. А житель Вармии просто ставил стремянку и, не обращаясь к сверхъестественным силам, делал это сам. Итак: да, католичество, но несколько иного рода. Впрочем, и польскость иная, если рядом с нами, в нашей деревне, жили немцы — лютеране и католики. Так что наша жизнь была, уже хотя бы по этой причине, жизнью на пограничье, жизнью меньшинства среди других меньшинств.
Такая ситуация научила меня одному: не доверять обобщениям, не доверять слову. Разумеется, с одной стороны, я ценю его весомость (ведь именно отсюда взялся мой позднейший интерес к исторической семантике или долговременным стереотипам), однако с другой — я всегда чутко реагировал на фальшь, которая может в нем содержаться и часто опирается как раз на распространенные обобщающие суждения, на коллективные ментальные матрицы. Эту фальшь я ощущаю, вижу так четко именно потому, что сам происхожу из культурного пограничья, где почти каждый был «меньшинством в меньшинстве», то есть кем-то, кто всегда был немного аутсайдером, чей взгляд как на немецкие, так и на польские дела всегда был «чужим». Видите ли, «Познанская немецкая библиотека», в редактировании которой я участвую, была бы совершенно иной, если бы я был родом, например, из Чехии. Конечно, ее название, «Познанская немецкая библиотека, а не, скажем, «Польская немецкая библиотека, — это некий маркетинговый прием, некий реверанс городу, в котором я жил, учился в вузе, работал и работаю. Но ведь, задумывая ее, я исходил также из того, что существует некто еще, кто как «виртуальный житель Познани» трезвее и рациональней видит немцев и немецкие дела, без излишней эмоциональности.
— Иными словами, житель Вармии открыл для себя в жителе Познани братскую душу.
— Да, потому что невозможно скрыть, что всё это так или иначе находит отражение в моем личном сентиментальном чувстве, которое приобретает подчас чуть ли не анекдотическое свойство. Когда я обращаюсь к таким сюжетам, то вспоминаю, например, что в наших вармийских, чрезвычайно скромных, домашних библиотечках книжек было очень мало. Причина проста: у нас в Вармии не было своей интеллигенции. Слой интеллигенции составляли священники и монахини, но они не сумели создать вокруг себя такую интеллектуальную ауру, какая царила, например, в домах немецких пасторов. Поэтому и не происходило (вос)производства вармийского культурного капитала. Но весьма интересно, что среди тех немногочисленных книг, которыми мы располагали дома, многие были изданы именно в Познани, тамошним Издательством Св. Войцеха. Это были мои первые встречи с польскими книгами, еще в те времена, когда я учился в немецкой школе (1944).
— Вы рассказываете с такой широтой, с таким характерным «орлиным» блеском в глазах о переплетении корней своего вармийского самосознания, хотя наверное с подобным самосознанием, немного «размытым», немного «подозрительным», нелегко жилось после войны, когда многокультурность еще не была в моде?
— Такая ситуация несомненно вынуждала постоянно делать выбор, который другим, рожденным где-то в «этнически польской» Мазовии или где-нибудь под Радомом, наверняка делать не приходилось. Между тем мое самосознание формировалось как производное определенного выбора, который, безусловно, происходил с помощью культуры, понимаемой как мир смыслов и знаков. На этом я был помешан и, наверное, помешан по-прежнему: мир для меня существует главным образом через тексты. Правда, они представляют собой переход к реальному миру, но все же первичны они. Конечно, миры эти бывали разными, однако два из них были особенно важными: польский «мир текстов», как бы сказал Рышард Ныч, мир Вармии до 1945 г. и более поздний, и мир немецких текстов. Что касается этого второго, тут дело вновь приобретает признак почти анекдотический. В то время, сразу после войны, я был «мародером» (кстати, мародерство — это огромное явление, о котором стоило бы написать целый роман. Что такое было мародерство? Как оно меняло людей?), я похищал книги. Вокруг полно красноармейцев, которые бегали, кричали, ездили на санях и на машинах, пили, насиловали, а я, восьмилетний подросток, прокрадывался в немецкую лесную сторожку, где надеялся найти немецкие книги.
И в своих расчетах я не ошибся: книги там действительно были. Я также отправлялся по железной дороге в свою «родовую» деревню Большая Пурда, чтобы привезти оттуда толстенные подшивки «Газеты ольштынской» конца XIX века, которые нашел в библиотеке моего деда. Хотя бы вот так я постоянно делал выбор.
Но пойдем дальше: в гимназии у меня немецкий язык не преподавали. Вступительный письменный экзамен в вуз я, правда, сдал, но слабо, на тройку с минусом. Так у меня же на протяжении семи лет, с конца войны и до 1952 года, не было живого контакта с этим языком! И я ограничивался лишь пассивным чтением — энциклопедии Брокгауза или романов Карла Мая. Я читал также много книг, издававшихся во времена Третьего Рейха, которые я, надо понимать, стащил. Еще и сейчас в моем собрании есть изумительные образцы печати того времени. Вы сами понимаете, что немецкая культура не была для меня тогда культурой «высокой». Ибо мои первые с ней контакты происходили не в стерильной академической обстановке, а среди случайно найденных газет, брошюр, идеологических пропагандистских изданий, книг про индейцев, то есть благодаря этому богатейшему космосу раздобытых после войны «обрывков текстов», которые, я думаю, доставили бы большую радость и самому Беньямину.
— Я вот думаю, зачем всё это было нужно вам, в то время подростку, у которого за плечами было столько болезненных переживаний, связанных с войной? Откуда возник у вас интерес к языку, культуре, истории своих, как бы то ни было, мучителей? Откуда позднее — уже в связи с занятиями германистикой — произошло возвращение к тому, что неизбежно должно было быть связано с воспоминанием о боли и страданиях? С разными травмами, о которых вы пишете хотя бы в своей книге «Вармия издалека»?
— Когда я обо всем этом размышляю, то пытаюсь понять, когда, собственно, я начал осознавать все ужасы войны. На протяжении очень долгого времени мне казалось, что жестокость, страдание и смерть — это нечто очевидное. Что вот так просто это и должно быть. Что и дядя должен был погибнуть, и отец тоже. Впрочем, прежде чем это произошло, мой отец в течение нескольких недель возил в Ольштын советских офицеров, с которыми у него сложились хорошие отношения. Причем несмотря на то что до этого красноармейцы забрали у нас пару великолепных коней, закололи всех свиней, а зерно пустили на производство водки (к счастью, мать избежала насилия, хотя она была в то время еще молодой женщиной; в нее влюбился, платонически, русский повар, и он иногда подбрасывал нам кое-что из еды). Однако потом в окрестностях появились энкаведешники, которые забрали из нашей и из окрестных деревень около тридцати мужчин. Дядя умер от голода и истощения еще на этапе, а отец немного позже, в лагере под Харьковом. Для меня, в то время восьмилетнего мальчишки, это было в каком-то смысле обычным делом: когда приходит враг, то он убивает, насилует, грабит.
А кроме того... я вовсе не хотел изучать германистику. Я тогда думал, что выбрать: полонистику или право. Право — в связи с моим интересом к криминалистике и вообще в связи с интересовавшим меня вопросом «почему?». Почему человек, почему группа людей совершает то или это? Вынужденно? Обязательно ли это? Сколько в их действиях свободной воли, а сколько подчинения «впечатанным» в их сознание ментальным матрицам. Это интереснейший вопрос, на который, к сожалению, удивительно редко обращают внимание. А ведь чтобы выжить, человеку требуется не только тепло, еда, крыша над головой, но также смысл. Возможности у него, как мне кажется, тогда две: или «Sinnfindung» (нахождение смысла) или «Sinnsuche» (поиски смысла). Первое предполагает, что человек находит какой-то смысл, чаще всего в больших нарративах, например, религиозных. И такая ситуация очень удобна. Но что делать человеку, который не может найти никакого смысла в существующих мировоззренческих или идеологических текстах? Тогда, наверное, ему надо попытаться отыскать его самостоятельно, хотя бы так, как это предлагал делать Альбер Камю. Виктор Франкл, австрийский еврей и психиатр, который выжил в Аушвице, написал в какой-то работе, что к тем влечениям, которые перечислял и описывал Фрейд, следовало бы добавить еще одно, весьма важное, а именно влечение к смыслу. У его истоков — тем самым мы возвращаемся к исходной точке — стоит вопрос «почему?». Почему этот «черный ящик», который зовется моим ближним, поступает таким, а не иным образом? В случае с немцами, представителями определенной общественной группы во время Второй Мировой войны, это особенно загадочный вопрос, и при этом он имеет колоссальное значение. Собственно он и привел меня к проекту «Познанской немецкой библиотеки», к этому своеобразному «лексикону немецкости». Согласен, лексикону субъективному, но ведь в этой интеллектуальной «игре» принимает участие множество людей, соглашаясь с предлагаемыми в ней правилами игры.
Мои коллеги всегда невероятно радуются, когда под конец своей профессиональной работы получают от своих учеников и сотрудников так называемую «книгу на память». А между тем у меня самая замечательная книга на память, какую только можно себе представить: расписанная на тридцать объемистых томов — и наверняка их будет еще больше. А какие авторы принимают участие в этом мероприятии! Ведь не только те, кто дает свои тексты, я назову лишь некоторых: Вальтер Беньямин, Готфрид Бенн, Норберт Элиас, — но и польские исследователи, выдающиеся специалисты в своей области, которые принимают участие в работе над этой «Библиотекой» в качестве редакторов отдельных томов, авторов предисловий и даже переводчиков. Все они, каждый в отдельности и вместе взятые, составляют тот обширный космос, каким является «Познанская немецкая библиотека», кладезь открытой немецкости.
— Нельзя не заметить, что в нашей беседе, мы все время находимся словно бы в орбите размышлений Беньямина...
— Безусловно, это так и есть, хотя нечего скрывать — этот амбициозный замысел Беньямина никогда не дождется своей полноценной реализации, поскольку в конце концов всё, на что мы можем рассчитывать, — это фрагменты, обрывки целого, попытки, иногда более, иногда менее удачные. Наверняка было бы хорошо, если бы у нас в Польше появилось больше подобных проектов, пусть это будут «библиотеки» русская, украинская или французская. Особенно русская была бы для нас чрезвычайно важна, ибо она позволила бы нам — подобно тому, как «Познанская немецкая библиотека», — в какой-то степени дать новое определение нашей «польскости». Ведь как общество, как нация, мы идентифицируем себя не по сравнению с чехами, словаками или украинцами (к последним мы относимся просто, я бы сказал, утилитарно), а прежде всего по сравнению с немцами и с русскими. Наше отношение к ним можно было бы определить — что вполне правомерно отмечает в последнее время хотя бы философ Адам Хмелевский — как опасный микст из комплексов неполноценности и мании величия.
Весьма любопытно, что специалисты в области политической, то есть «событийной», истории — а таких у нас в Польше полным полно — как правило не замечают такого рода вопросов. Я называю их долговременными сенсациями. Примером этого — чтобы на какое-то мгновение покинуть поле наших локальных интересов — может послужить ситуация на Балканах. Инициированные там некогда разделы (во времена Марии-Терезии пограничные земли Габсбургской монархии заселили воинственными сербами, которые должны были противостоять туркам) в значительной степени функционируют по сей день, прочно войдя в существующие на этих землях ментальные матрицы. Но и в нашем обществе существуют, конечно же, определенные неменяющиеся принципы, постоянно действующие образцы поведения (которые не следует путать с национальным духом, ибо такового не существует), как например «код фольварка», «синдром фольварка».
Впрочем, в подобном духе высказывался Антоний Мончак, исследователь проблемы клиентелизма, который по-прежнему у нас распространен, являя собой один из важнейших образцов поведения, хотя бы в форме церковного клиентелизма. Разумеется, в случае с немцами мы тоже имеем дело с определенными принципами и ментальными матрицами. Но они приобрели форму, отличную от нашей, и осознанию этого должна послужить в частности, «Познанская немецкая библиотека». Она показывает, что в истории должны приниматься во внимание не только «событийность» и факты, но также и то, что происходит в головах людей. В частности, в одном из томов серии, получившем название «Sonderweg. Споры о “немецком особом пути”», ставилась задача наглядно осветить этот вопрос.
— На протяжении тринадцати лет существования ваш издательский проект прочно встал на ноги, недавно он дождался выхода уже тридцать первого тома. Вы хотели благодаря «Познанской немецкой библиотеке» «объяснить» полякам Германию?
— В таких вопросах я — лютеранин. Лютер сказал: «Даже если я знаю, что завтра мир разлетится на куски, я все равно посажу яблоню». Кто знает, может быть, этот проект и есть такая яблоня? С того времени, как он появился, я насчитал около сотни рецензий, но самое важное для нас даже не эти рецензии. Самое важное — ссылки и цитаты, а они в последнее время появляются всё чаще и чаще. Причем во всем этом важна не столько личная сатисфакция — важен тот факт, что в наш академический дискурс постепенно внедряется новый тип семантики, новый способ мышления. А это, естественно, находит отражение и в университетской педагогике. В библиографиях многих семинаров, которые проходят на исторических и политологических факультетах, уже появляются ссылки на публикации «Познанской немецкой библиотеки».
— Сегодня интерес в Польше к совместному польско-немецкому прошлому, к немецкой литературе, философии, социологии, искусству явно ослабевает. Вина ли в этом самой Германии, которая уже, возможно, не способна нас интеллектуально «соблазнять», или, может быть, прежняя парадигма взаимных отношений, которая давала столь великолепные плоды в дискуссиях 90 х годов, исчерпала себя?
— Формулировка «соседство обязывает» не утратила своего значения по сей день. Более того, по некоторым соображениям сегодня она гораздо важнее, нежели в 90-е годы. Линия политического водораздела была в то время в каком-то смысле более четкой: тут мы, там они. Между тем сегодняшняя ситуация выглядит значительно более неопределенной. По-прежнему некоторые политические партии пытаются поигрывать немецкой картой. Если один из высокопоставленных польских политиков говорит, что Северный газопровод означает повторение пакта Риббентропа—Молотова, то он использует формулировки, в которых немецкость (и российскость, кстати говоря, тоже) вновь оказываются синонимом зла. Иными словами, этот политик прибегает к инсинуации, давая понять, что Германия и Россия вместе способны лишь на козни, направленные, разумеется, против поляков. Однако он не задал вопроса, почему польская сторона вовремя не присоединилась к этому выгодному как с политической, так и с экономической точки зрения делу. У меня же нет претензий к Бисмарку по поводу того, что он, согласно собственным политическим интересам, проводил Kulturkampf, в ходе которого Польше здорово досталось. У меня есть претензии к нашим политикам, которые не в состоянии уследить за самыми простыми вещами. И которым недостает прагматизма. Конечно, я далек от мысли, что не следует бдительно следить за инициативами немецкого общества и государства. К сожалению, наш инструментарий, используемый в подходе к этому вопросу, — начиная с публицистических кругов и заканчивая министерскими — лишь служит подтверждением того, что задача более близкого ознакомления польского «мыслящего класса» с интеллектуальными и ментальными категориями широко понимаемой немецкой культуры остается, как мне кажется, и по сей день актуальной.
Что касается поставленного вами вопроса, то я скажу так: в познанском Западном институте я участвую в проекте, имеющем целью подвести итоги тех политических, общественных, культурных, экономических и пр. перемен, которые произошли в Германии за последние два десятилетия. Сфера, которой я занимаюсь, касается изменений в немецком культурном пейзаже. Таким образом, я систематически наблюдаю за всем, что в этом смысле происходит на другом берегу Одры. И отмечаю там огромное богатство предложений в области культуры.
Я наблюдаю за переменами в культурном пейзаже немецких городов начиная с 1989-1990 гг., чтобы привести какой-то впечатляющий пример, слежу за архитектурой, музеями и галереями — с точки зрения отношения их к прошлому. Ведь это один из интереснейших аспектов в области культурных перемен на европейском континенте за последние десятилетия! А мы в Польше не имеем об этом ни малейшего представления. Мы говорим: ну да, я был в Париже, Лондоне, Риме, Барселоне (разумеется, чтобы увидеть творения Гауди). А что, спрашиваю я, происходит в Германии? Боже мой, послушайте, да взять хотя бы Берлин, один только Берлин за последние два десятилетия был с культурной точки зрения перепахан буквально полностью! Музеи экзотических культур в Далеме, прекрасный Музейный остров, существующий еще со времен Фридриха Вильгельма и недавно отреставрированный, или новый музейный комплекс на Потсдамской площади, я уж не говорю о знаменитом Музее топографии террора или Памятнике жертвам Катастрофы. А сколько всего происходит сегодня в бывших столицах малых немецких княжеств! Дессау, Бауцен, Хемниц — и хоть бы одна собака у нас заинтересовалась великолепной современной архитектурой, которая там в последнее время создается. Иногда мне хочется привести письмо Гейне, отправленное в 1822 г. из Познани, куда он ездил навещать своих польских коллег, с которыми провел студенческие годы; писал он примерно вот что: поляки едут в Париж, чтобы научиться модным манерам и приобрести духи, не обращая внимания на Германию — этот сермяжный «Kartoffelland», через который они проезжают. Может быть, тогда это было оправдано, может быть, Франция действительно в то время могла предложить гораздо больше в сфере культуры и цивилизации, чем Германия. Но почему же сегодня повторяется всё та же ситуация, как будто ничего в истории не изменилось?
— Вы могли бы обозначить какие-то перспективы выхода из этого тупика? Или вы тоже склонны считать, что известная парадигма в наших взаимных отношениях окончательно исчерпала себя, что закончилась определенная очень важная эпоха?
— Проблема состоит в том, что у нас по-прежнему не так уж много исследователей — как тех, кто хорошо разбирается в истории польской культуры со всеми ее «болевыми точками», так и тех, кто способен должным образом понять специфику немецкой стороны. Несомненно, это затрудняет взаимопонимание. Но к этому добавляется еще одна проблема. Если поколению немецких «Flakhelfer-Generation», из которого вышли Гюнтер Грасс, Зигфрид Ленц, Криста Вольф и Ганс-Дитрих Геншер, еще было свойственно какое-никакое чувство вины за то, что случилось в прошлом, то более младшим поколениям — и это, как я хотел бы особо подчеркнуть, вполне понятно — такое чувство вовсе не присуще. Между тем польская сторона (в том числе молодежь) по-прежнему демонстрирует раздражающую меня позицию, в основе которой лежит постоянная претензия: мы страдали, поэтому вы нам должны всё время что-то давать. Разве я преувеличиваю? Может, и преувеличиваю. А может, и нет.
— Своеобразной эпитафией «тучным» 90-м годам стала недавно выпущенная вами антология «Моя Германия — мои немцы. Воскрешение памяти». В этой публикации, имеющей очень важное значение, собраны высказывания нескольких десятков польских исследователей, публицистов, писателей и переводчиков, основанные на их личном и автобиографическом опыте общения с немцами...
— ...связанные, что следует обязательно подчеркнуть, с переоценкой собственной личности, с воскресшими воспоминаниями. Категория воскрешения памяти, которую я на протяжении многих лет упрямо стараюсь «протащить» в дискурс гуманитарных наук, в данном контексте является ключевой, хотя не я был ее автором (о «воскрешении памяти» первым сказал, насколько я знаю, Норвид). О чем здесь идет речь? Постараюсь объяснить: у гуманитария — историка, историка искусства, социолога, неважно — всегда есть какая-то собственная биография, очень личная. Спустя годы он возвращается к ней, еще раз ее переосмысливает, совершая своеобразную переоценку собственной личности с точки зрения времени, которое у него осталось за плечами, с точки зрения собственного жизненного пути, с точки зрения собственного интеллектуального уровня и т.п. Не столько заново выстраивая собственную биографию, сколько вскрывая одно за другим наслоения из забытого, которые скопились в его сознании за всю истекшую жизнь.
Как возникла идея антологии «Моя Германия — мои немцы»? В свое время я был удивлен и даже изумлен тем смыслом, который был заложен в интервью Рейнхардта Коселлека, данном накануне его неожиданной смерти. Во всех более ранних публикациях этого прекрасного ученого не получала никакого отражения его личная жизнь. И вот мы вдруг узнали, что Коселлек, родом из Горлиц и выходец из патриотической, но не нацистской семьи, принимал участие в войне как солдат Вермахта. Как-то уже в конце войны он был схвачен красноармейцами, которые привезли его в Аушвиц с целью преподать ему, так сказать, «наглядный урок». Мы можем легко догадаться, что он там увидел. Я не уверен, что ему не пришлось собственными руками — а до этого дело тоже доходило — переносить трупы, которые лежали там буквально штабелями. Вспоминая то время, Коселлек использует характерное слово «einbrennen» — «вытравлять», «выжигать». Всё это были картины, которые остались в его памяти на всю жизнь. Прочитав это, я подумал, что надо бы поспрашивать у польских ученых, самых разных, а также у политиков, публицистов, журналистов, писателей: а как они относятся к этому самому «немецкому вопросу», и не только в личном плане, но в более широком смысле, на фоне исторических процессов. Вот так и родилась идея этой книги.
— Эта антология оправдала ваши ожидания?
— В ней содержится много интересных высказываний, хотя, что скрывать, некоторые авторы отнеслись к поставленной перед ними задаче слишком буквально, другие же ограничились обычным перечислением («что, где, когда»). Но и это о чем-то свидетельствует. Так что, в общем и целом я доволен. Антология содержит почти пятьдесят текстов (в частности, Ежи и Барбары Шацких, Ежи Едлицкого, Генрика Самсоновича, Стефана Хвина). У истоков всего этого лежит, безусловно, воскрешение памяти, которое становится таким образом категорией аналитической. И я надеюсь, что как таковая она войдет в дискурс польских гуманитарных наук. Впрочем, уже появляются первые признаки этого.
— Невозможно в этом контексте не вспомнить слова Макса Вебера, который сто лет назад предложил собственное определение культуры, и написал, что «она всего лишь конечный фрагмент той лишенной смысла бесконечности событий в мире, который с точки зрения человека обладает смыслом и значением». Вы очень часто приводите эти слова в своих работах.
— Да, ибо, по моему мнению, данное определение — самое замечательное, во всяком случае, наиболее подходящее определение культуры, которое когда бы то ни было и кто бы то ни было предложил. Оно может быть приложимо как к великим культурным процессам, так и к более мелким повседневным событиям. Прихожу я вчера в кабинет, в котором мы сейчас с вами беседуем, и вижу, что столы расставлены не так, как обычно. Так, думаю я про себя, тут был семинар. А может, и нет, может, просто кто-то на этом столе занимался любовью? Так или иначе, некие знаки существуют, и их следует прочитывать по возможности очень добросовестно.
— Вы сказали: «Только крик боли — это подлинное, остальное — конструкты». Речь идет о насилии, в самых разных его проявлениях. Очень часто вы обращаетесь к таким жертвам насилия, которые не дождались собственного рассказа, которых обошли вниманием великие исторические повествования.
— Меня интересуют люди обойденные, меньшинства в меньшинствах. У меньшинств чаще всего не бывает своих памятников, музеев, исторических памятных мест и т.п. Недавно у меня в очередной раз была возможность посетить Ольштын. Некоторое время тому назад там возник новый, прекрасно расположенный университетский кампус. На его территории поставили памятник жертвам Катыни. И очень хорошо. Только у меня сразу возник вопрос: а почему же там не поставили, как впрочем, и во всём Ольштыне, ни одного памятника замученным во время войны жителям Вармии? А ведь что-то же с этими людьми произошло, их нет, они исчезли. Вот так просто взяли и исчезли? А если это не так, то почему для них нет места в исторической памяти? На тему первого попавшегося кавалерийского полка, откуда-нибудь из захолустья Подолья, можно встретить множество монографий, работ, очерков. О каждом «кресовом» местечке существуют публикации, лучше ли хуже ли, но они есть. Чтобы в этом убедиться, достаточно переступить порог Главного магазина научной книги им. Болеслава Пруса в Варшаве, где полки буквально прогибаются под тяжестью книг подобного рода. А что с Вармией и ее жителями? Ее нет, нас нет. Нас, жителей Вармии, нет. Вот отсюда и боль. Ведь что остается? Ничего не остается. В этом смысле я — «последний из могикан». Мой сын уже считает себя «исконным познанским жителем», не говоря уж о моих любимых внуках...
Я РОДИЛСЯ В ОЛОНЦЕ
В семейном альбоме хранится снимок 1902 г. — на коленях у няни-карелки сидит улыбающийся годовалый мальчик. Это Витольд Пилецкий. Немногим известно, что этот выдающийся поляк, организатор движения сопротивления в концлагере Аушвиц (Освенцим), которого считают одним из самых смелых участников Второй Мировой войны, появился на свет в карельском Олонце, где его отец Юлиан Пилецкий по окончании Лесного института в Петербурге работал в должности старшего ревизора в Лесном департаменте министерства государственных имуществ.
Сейчас согласовывается вопрос о том, как почтить память ротмистра Витольда Пилецкого в Олонце. Уже в этом году памятник ему должен появиться на пересечении центральных улиц города — Урицкого и Ленина. Инициатива польских диаспор Петербурга и Петрозаводска встретила понимание и доброжелательное отношение как в министерстве культуры Республики Карелия, так и в администрации Олонецкого района. К работе над памятником приступил петрозаводский скульптор Людвиг Давидян.
Ротмистр действительно был личностью необыкновенной: стойкий солдат, земледелец, общественный деятель и немного художник. Род Пилецких происходил с Новогрудчины (ныне Белоруссия). Витольд Пилецкий родился 13 мая 1901 года. Он писал: «Деды мои активно участвовали в восстании 1863 года. Последний из них, Юзеф Пилецкий, был сослан в Сибирь, его имения в Лидском и Новогрудском уездах были конфискованы, а детям его, и моему отцу в том числе, затрудняли пребывание в стране. Потому-то и родился я в Олонце Олонецкой губернии от отца Юлиана и матери Людвики, урожденной Осецимской. Там я жил до девяти лет».
В 1910 г. мать вместе с детьми переехала в Вильно. Там Витольд учился сначала в торговой школе, затем в гимназии им. Иоахима Лелевеля. Одновременно он участвовал в скаутском движении. В декабре 1918 г. в рядах 1-й Виленской харцерской роты он защищал Вильно от немцев, а также от большевиков, с которыми полтора года спустя сражался на подступах к Варшаве.
В межвоенный период он окончил кавалерийскую школу подхорунжих в Грудзёндзе, был офицером запаса Войска Польского. Как землевладелец успешно хозяйствовал в семейном имении Сукурче близ Лиды. Преданный своей семье, он посвящал много времени воспитанию детей — Зоси и Анджея. Был увлеченным общественником, помогал бедным, основал земледельческое общество и молочную ферму, организовал Школу подготовки кавалеристов, а также участвовал в Союзе польского харцерства. Он находил время и для своих художественных увлечений — живописи, рисунка и поэзии. Две картины его кисти доныне украшают костел в Крупе, в Белоруссии.
Эту спокойную жизнь резко нарушило начало Второй Мировой войны. В сентябре 1939 г. Пилецкий вначале командовал кавалерийским эскадроном 19-й пехотной дивизии в окрестностях Пётркува-Трибунальского, а затем стал заместителем командира кавалерии 41-й запасной пехотной дивизии, которая направлялась на юго-восток страны. После разгрома дивизии немцами ему удалось пробраться в Варшаву, где он был одним из организаторов Тайной Польской армии, со временем влившейся в СВБ-АК*. В 1940 г. во время уличной облавы он добровольно дал себя арестовать и вывезти в концлагерь Аушвиц под конспиративным именем Томаш Серафинский. В колонне его прогнали через ворота с надписью «Arbeit macht frei». Он стал заключенным №4859. Испытывая ад на земле, он занимался организацией подпольных структур в лагере. Главной целью созданного им Союза военных организаций было передавать на волю информации об условиях жизни и положении в лагере, а также пересылать известия узникам и поддерживать их дух. Позже он вспоминал: «Мы ежедневно всеми силами боролись за то, чтобы в трубу [крематория] ушло как можно меньше польских жизней, и день иногда казался годом». Именно Пилецкий в одном из донесений первым предал гласности, что немцы в Аушвице испытывали применение «циклона-Б» в газовых камерах на советских военнопленных.
Опасаясь раскрытия, в 1943 г. Витольд Пилецкий предпринял отважную попытку побега, и после недолгого пребывания в Висниче ему удалось добраться до Варшавы. Составленное им донесение из Освенцима, «Рапорт Витольда», было передано в Лондон. Сам же он приступил к службе в диверсионном командовании АК, где был повышен в звании до ротмистра. В период, предшествовавший Варшавскому восстанию, он начал создавать тайную организацию политически-военного характера «НЕ» — «Независимость». Командовать ею было доверено полковнику Эмилю Фильдорфу «Нилу». В августе 1944 г. «Витольд» сражался в 1-й роте «Варшавянка» и командовал отрядом в группировке «Хробрый-II», упорно обороняя один из редутов повстанцев.
После поражения восстания он был в плену в лагерях Ламсдорф и Мурнау. Позже вступил во 2-й Польский корпус генерала Владислава Андерса, располагавшийся тогда в Италии. В качестве офицера разведки он предпринял, кажется, свою самую трудную и наверняка самую трагическую по последствиям миссию. В конце 1945 г. он нелегально вернулся в страну. В Варшаве устроился на работу кладовщиком в строительной фирме. Собрав вокруг себя группу доверенных лиц, он начал сбор и передачу в Италию информации о политической ситуации в Польше, о терроре, репрессиях по отношению к солдатам и офицерам подполья, боровшимся за независимость, общественных настроениях. Несмотря на предостережения и приказ уехать из страны, Пилецкий решил продолжать свою деятельность. Он был арестован 8 мая 1947 г. и посажен в Х корпус Мокотувской тюрьмы. Несмотря на жестокие пытки, он делал всё, чтобы снять обвинения со своих соратников, которых тоже арестовали и отдали под следствие. В военном трибунале в ходе процесса группы «Витольда» ротмистр Пилецкий был обвинен в шпионаже в пользу 2-го корпуса, сотрудничестве с иностранной разведкой, подготовке покушений на функционеров госбезопасности и нелегальном хранении оружия. За «преступные деяния» он был приговорен к смертной казни и убит 25 марта 1948 г. на Раковецкой** выстрелом в затылок. Семье тело не выдали. Его похоронили тайно, вероятно, под стеной Военного кладбища на Повонзках в секторе Л, где теперь стоит памятник, посвященный «Политическим заключенным, боровшимся за независимость Родины, невинно казненным в Варшаве в 1945-1956 гг.». В 2012 г. Институт национальной памяти начал эксгумационные работы с целью установить личности покоящихся там жертв на основании кодов ДНК.
Попытки добиться отмены приговора, а позже реабилитации, предпринятые близкими, матерью, женой и детьми, встречали решительный отказ. Для коммунистической власти он до конца остался «врагом народа и Народной Польши». Только 1 октября 1990 г. Военная палата Верховного суда отменила приговор по делу Витольда Пилецкого, пять лет спустя он был посмертно награжден Командорским крестом ордена Возрождения Польши, а 30 июля 2006 г. — орденом Белого Орла.
Пять лет тому назад, в 60-ю годовщину смерти Витольда Пилецкого, польский Сенат принял специальное постановление по вопросу о восстановлении в коллективной памяти поляков этой героической личности, до того времени известной, по большей части, историкам и всё более малочисленному кругу товарищей по оружию. Институт национальной памяти открыл специальный сайт в интернете и выпустил стостраничный альбом.
В этом году память о человеке редкостной смелости и отваги, для которого самоотверженная служба Родине на всем протяжении жизни, невзирая на обстоятельства, была наивысшей ценностью, будут чтить и в России.
Эва Зюлковская
* СВБ-АК — Союз вооруженной борьбы (польск. Zwiazek Walki Zbrojnej, ZWZ) — основная организация польского Сопротивления 1939-1942 гг. Целью СВБ являлось восстановление независимости Польши. 14 февраля 1942 г. СВБ был реорганизован в Армию Крайову (АК). — Пер.
** На Раковецкой ул. в Варшаве находится Мокотовская тюрьма. — Пер.

Подъем и падение демократии? Меритократия?
Как глобализация меняет общества
Резюме: Парадокс современного мира в том, что демократизация общества, по иронии судьбы, приводит к утрате избирателями влияния и возникновению социального неравенства. В то же время глобализация освободила элиты, но лишила их легитимности и способности управлять.
Сегодня во главе большинства стран мира стоят выборные правительства. Генеральные директора крупнейших банков и международных корпораций, как правило, – лучшие, умнейшие и талантливейшие люди, окончившие с отличием один из ведущих университетов мира. У граждан выше уровень образования, они лучше информированы, их права надежнее защищены, и они способы сопротивляться авторитаризму государства больше, чем когда-либо прежде. Политические и деловые элиты разношерстнее, нежели прежде, с точки зрения этнического, гендерного, расового и классового состава, но теснее связаны между собой и гораздо однороднее в том, что касается культурных вкусов и представлений о способах управления государством. Но ни развитие демократии, ни успех меритократов не снижают растущего беспокойства широкой общественности по поводу того, что функционирование рыночной экономики не соответствует ожиданиям, она не отличается эффективностью и стабильностью, политическая система не корректирует огрехи рынков, а экономические и политические модели несправедливы в своей основе.
Что привело к нынешнему кризису: недееспособность демократических режимов или провал меритократических элит?
РАЗВЕ ЭТО ДЕМОКРАТИЯ, ГЛУПЫШ?
То, что более века тому назад было справедливо в отношении монархии, – «это очевидная форма правления, [потому что] в отличие от чего-либо другого она понятна большинству человечества», – ныне в полной же мере можно отнести к демократии. Демократический идеал царствует безраздельно, и воля народа, выраженная в свободных и справедливых выборах, считается единственным реальным источником легитимной, законной власти. В XXI веке демократия практически избавилась от своих критиков, но, к сожалению, не от внутренних противоречий.
В июне 2006 г., когда Роберт Фицо триумфально победил на честных выборах и сформировал правительство Словакии в коалиции с экстремальными националистами Яна Слоты, Конституционный суд объявил, что некий гражданин подал иск об отмене итогов всеобщего голосования. Он заявил, что республика не смогла создать «нормальной» избирательной системы, а потому нарушила конституционное право граждан на мудрое государственное управление. В глазах истца избирательную систему, которая привела к власти столь разношерстную коалицию, нельзя признать «нормальной».
В аргументе есть доля истины. Право на разумное управление может вступать в противоречие с правом голоса и свободным волеизъявлением. Эта нестыковка в демократической системе всегда нервировала либералов. Суеверные люди, знакомые с трудами влиятельного либерального мыслителя XIX века Франсуа Гизо (1787–1874), могли бы заподозрить, что словацкий гражданин, обратившийся в Конституционный суд, – его реинкарнация.
Именно Гизо со своими коллегами был «доктринером», который не жалел красноречия, чтобы доказать, что демократия и хорошее государственное управление могут сосуществовать только в режиме ограниченного избирательного права. С его точки зрения настоящий сюзерен – это не народ, а человеческий разум. Поэтому голосование следует обсуждать с точки зрения правоспособности, а не прав. В XIX веке правоспособность определялась наличием недвижимости, имущества или образования. Только людям, имевшим необходимое образование или достаточно недвижимости, можно было доверить право выбора. Современным преемникам Франсуа Гизо труднее определить критерии правоспособности – почти у всех имеется какое-то образование, в то же время многие неохотно раскрывают информацию о своем имуществе и недвижимости. Получается, единственная гарантия того, что разум будет править бал – это введение всеобщего избирательного права. Но универсальное голосование не обязательно влияет на все сферы правления. Подобное мы все чаще наблюдаем в Евросоюзе.
Хотя мы все согласны с тем, что демократия означает способность граждан влиять на решения, затрагивающие их интересы, на деле этого не происходит. Им часто навязывают волю правительств, которые они не выбирали. В глобализированном мире мы все больше зависим от решений, принимаемых другими – теми, кто никогда не был и никогда не будет частью нашего общества. Поэтому появляется вполне естественное желание позаботиться о том, чтобы те самые «другие» не сделали неверный выбор от нашего имени.
По правде говоря, демократия никогда не была надежной гарантией против человеческих ошибок. По своей сути демократическое общество – общество, способное на самокоррекцию. Оно позволяет гражданам действовать на основе коллективного опыта, извлекая из него какой-то смысл и пользу. Поэтому неслучайно демократические конституции фактически представляют путеводители или инструкции по недопущению катастрофического сценария. Например, при чтении Основного закона Германии становится понятно, что это руководство по предотвращению прихода к власти демократическим путем второго Адольфа Гитлера. Таким образом, легитимность и преуспевание демократий не зависят от их способности обеспечивать всеобщее процветание и благоденствие (автократические режимы иногда вполне справляются с этой задачей). Успех не зависит и от того, насколько система делает людей счастливыми (нам хорошо известны многие демократические общества, в которых люди несчастны). Однако он определяется умением демократии корректировать политику и формулировать общие цели. Но именно это важное преимущество демократии подвергается сегодня сомнению.
Главный вопрос в том, смогут ли национальные демократии оставаться самокорректирующимися обществами, будучи зажаты в тисках между властью рыночной стихии и разочарованием избирателей. В книге «Парадокс глобализации» гарвардский экономист Дэни Родрик доказывает, что есть три способа преодоления коллизии между национальной демократией и мировым рынком. Можно ограничить демократию, чтобы обеспечить конкурентоспособность на мировых рынках, или сократить участие в глобализации в надежде на построение демократической законности на родине. Или глобализировать демократию за счет национального суверенитета. Однако нельзя одновременно жить в условиях гиперглобализации, демократии и самоопределения, хотя именно к этому стремится большинство правительств. Они хотят, чтобы у людей было право голоса, но не готовы позволить им выбирать «популистскую политику». Стремятся снижать расходы на рабочую силу и игнорировать социальный протест, но не могут публично согласиться с необходимостью «сильной руки». Одобряют свободную торговлю и независимость, но хотят быть уверены, что при необходимости (в момент кризиса, подобного нынешнему) вернутся к госуправлению экономикой. Так что вместо того чтобы выбирать между суверенной демократией, глобализированной демократией и авторитаризмом, дружественным по отношению к глобализации, политические элиты пытаются переосмыслить суть демократии и суверенитета, чтобы сделать невозможное возможным. В итоге мы получаем демократию без права выбора, суверенитет, лишенный всякого смысла, и глобализацию, не опирающуюся на легитимность.
То, что до недавнего времени было конкуренцией между государственной демократией и авторитаризмом, сегодня превратилось в спор между двумя видами утверждения об «отсутствии альтернативной политики». Главный лозунг демократической Европы гласит, что «не существует политической альтернативы» жесткой экономии, и избиратели, меняя правительства, бессильны изменить экономическую политику. Брюссель конституировал многие макроэкономические решения, такие как уровень бюджетного дефицита и государственного долга, фактически выведя их за рамки электоральной политики.
В России и Китае, в свою очередь, твердят, что «нет политической альтернативы» нынешним лидерам. Правящая элита проявляет больше гибкости, когда дело доходит до экспериментов с разными экономическими курсами, но выводит за рамки уравнения саму возможность бросить вызов тем, кто у власти. Людям не позволяют избирать «не тех», поэтому выборы либо контролируются, либо их итоги фальсифицируются, либо они вовсе отменяются под предлогом «хорошего управления страной». В последние годы мы видим в этих странах усиливающуюся нетерпимость к политической оппозиции и диссидентству.
Поэтому нелегко понять, становятся ли наши демократии неуправляемыми из-за усиления влияния общества на процесс принятия решений или же голос граждан утратил силу из-за растущего воздействия мировых финансовых рынков и расширения демократического принципа самоуправления, который выходит за рамки политики.
ДИАЛЕКТИКА РЫНОК–ГОСУДАРСТВО / ХОЗЯИН–РАБ
Хотя история – лучший аргумент в пользу неразрывного единства демократии и рынка (в конце концов, большинство процветающих обществ являются рыночными демократиями), противоречия между этими двумя понятиями также хорошо известны любому исследователю. Хотя в демократиях все люди считаются равными (голос каждого взрослого гражданина имеет одинаковую силу), принцип свободного предпринимательства приводит к тому, что полномочия отдельных людей во многом зависят от того, какую экономическую стоимость они создают и каким недвижимым и движимым имуществом владеют.
Таким образом, справедливо ожидать, что среднестатистический избиратель в демократии будет защищать имущество богатых только в надежде, что это повысит и его шансы разбогатеть. Если капиталистическая система не имеет народной поддержки, то демократия не потерпит неравенства, воспроизводимого рынком. Опасения, что демократия уничтожит рыночные механизмы, широко распространены на правом фланге политического спектра. В то же время левые боятся, что материальное неравенство, постоянно воспроизводимое рынком, превратит демократический процесс в дешевую подделку. Джон Дюнн убедительно доказывает, что расхождение между идеалами эгалитарного общества и демократии объясняет всемирную привлекательность демократии в наше время. Именно радостное открытие, что современные выборы таят в себе опасности для богачей и сулят по крайней мере какие-то выгоды практически всем, способствует триумфу демократии в современном мире. Исторически противоречия между демократией и рынком разыгрывались на национальной почве. В последние три десятилетия рамки и фокус дискуссии резко сдвинулись.
Последним действием Сильвио Берлускони в ранге премьер-министра Италии осенью 2011 г. был проезд через толпы протестующих, которые выкрикивали: «Шут!» и «Позор!». Улицы за президентским дворцом заполнили демонстранты, скандировавшие лозунги, размахивавшие итальянскими флагами и стрелявшие в воздух пробками от шампанского, пока 75-летний медиамагнат подавал прошение об отставке президенту Италии. В одном углу хор пел «Аллилуйя» под аккомпанемент импровизированного оркестра. В другом ликующая толпа била в барабаны. Автомобили сигналили, пешеходы пели. Все походило на начало революции, но в действительности ничего подобного не произошло. Падение Берлускони едва ли можно назвать победой «власти народа». На самом деле триумф переживала власть финансов. Не воля избирателей сокрушила коррумпированную и неэффективную клику. Сигнал о том, что кавалер должен уйти, поступил от могущественного альянса финансовых рынков, брюссельской бюрократии и руководства Европейского центробанка во Франкфурте. Тот же альянс назначил преемника Берлускони на посту премьер-министра Италии – бывшего европейского комиссара и технократа Марио Монти. У людей на улицах Рима были веские основания, чтобы одновременно торжествовать и ощущать бессилие. Одиозный премьер ушел, но избиратель перестал быть самой влиятельной фигурой в раздираемой кризисом Италии. Празднование конца режима Берлускони напоминало воодушевление итальянцев, которые приветствовали победоносную армию Наполеона в 1796 году. Народ на улицах был не действующим лицом истории, а всего лишь зрителем.
В капиталистических демократиях правительства по-прежнему зависят от доверия избирателей, но характер зависимости изменился. В посткризисной Европе мы наблюдаем странное разделение труда между избирателями и рынками, когда дело доходит до работы правительств. Избиратели вправе решать, кто сформирует кабинет, – от их голосов все еще зависит «выбор» правящей партии, но рынки решают, какую экономическую политику будет это правительство проводить, независимо от того кто победил на выборах. Из жарких дебатов о будущем институциональной архитектуры еврозоны становится понятно, что новые правила еще больше ограничат способность избирателей влиять на принятие решений в сфере экономики. Но по логике гегелевской диалектики взаимоотношений между господином и рабом слабые национальные демократии все время «подкладывают свинью» всемогущим финансовым рынкам, как это случилось в Италии. Через год после того как по требованию рынков к власти пришел Монти, избиратели проголосовали за протестующего комедианта Беппе Грилло и за... Сильвио Берлускони, потому что чем больше политики пытаются лишить избирателей самой возможности ошибаться, тем больше у избирателей стимулов голосовать за скандальных личностей. «Феномен Грилло» в том, что комедиант-революционер ухитрился прельстить каждого четвертого итальянского избирателя, не пообещав, что будет лучше управлять, а заверив, что вообще не собирается входить в правительство со своей партией.
КОГДА ЛЮДИ ГОЛОСУЮТ ЗА ВСЕ
В 1972 г. социальный психолог Вальтер Мишель решил провести необычный эксперимент, чтобы понять, чем объяснить жизненный успех. Эксперимент был обезоруживающе прост. Каждому ребенку в детском саду «Бинг», расположенному на территории Стэнфордского университета, дали кусочек пастилы. Если ребенок не съедал его сразу, ему обещали два кусочка вместо одного. Цель заключалась в том, чтобы установить, как долго каждый ребенок сможет сопротивляться искушению и как это связано с его будущим. Вопреки господствующей точке зрения, утверждающей, что успех в жизни зависит исключительно от умственных способностей, эксперимент Мишеля указывал на то, что разум во многом находится во власти самоконтроля (результаты подтвердили его правоту). Способность сопротивляться искушению проглотить пастилу оказалась важнее для будущего успеха, чем высокие показатели IQ. В конечном итоге самоконтроль и сила воли оказались существеннее интеллекта.
Открытия Мишеля едва ли удивили протестантских теологов, которые давно уже учат, что жизнь на земле – не более чем сопротивление искушению съесть сладенькое. Ирония в том, что как раз в то время, когда Мишель опытным путем доказывал, что успех в основном зависит от того, что «вы не позволяете себе что-то сделать», западный мир двигался в противоположном направлении.
Социолог Даниэл Белл задался вопросом, не будет ли тотальная победа рынка в конечном итоге опаснее, чем распространение социалистической идеологии. Он беспокоился, что когда логика рынка будет принята в других сферах человеческой деятельности, таких как политика или культура, капитализм может стать собственным могильщиком. Разве эта логика не дает о себе знать в наш век, когда мы переживаем кризис управляемости? «Рынки – это машины для голосования, – сказал однажды Вальтер Ристон из “Ситибанка”. – Они функционируют посредством референдумов». Разве неверно то, что расширение демократического принципа самоуправления путем внедрения всенародного голосования по любому вопросу, не связанному напрямую с политикой, на практике способствует делегитимации институтов представительной демократии и снижению качества государственного управления?
Сегодня мы голосуем за все – за лучшую песню, за самый безвкусный фильм, за мастера-стоматолога. Младшее поколение не обязательно обретает опыт поведения в демократическом обществе на политическом поле. Можно сказать, что демократия стала вездесущей. Например, футбол все больше демократизируется. В 2008 г. команда третьего английского дивизиона «Эббсфлит» сделала большой шаг в направлении футбольной демократии – за скромный взнос в 35 фунтов стерлингов болельщики получили право управлять командой. С помощью интернета они в режиме реального времени голосовали по всем важным вопросам – от трансфера игроков и распоряжения бюджетом до дизайна сувениров и клубной символики, продаваемой в специализированных магазинах. 32 тыс. болельщиков из 122 стран присоединились к тому, что можно назвать «предельной футбольной фантазией». Люди получили возможность напрямую руководить футбольными командами в момент, когда стали утрачивать возможность влиять на государственную политику. Однако безудержное распространение демократии стерло границы между разными сферами человеческой деятельности – теми, где решения должны приниматься путем всенародного голосования или референдума и теми, которые должны зависеть от профессионализма и компетентности, – и одновременно делегитимировали выборные органы демократии.
Десять лет назад британское агентство YouGov провело сравнительное исследование группы политически активных молодых людей и заядлых участников реалити-шоу «Большой брат». Результаты разочаровали: британские граждане полагали, что их интересы лучше представлены в «Большом брате». Им было легче отождествлять себя с обсуждаемыми там героями и идеями. Шоу сочли более открытым, прозрачным и лучше представляющим их интересы. Формат реалити-шоу давал возможность почувствовать себя значимыми людьми в обществе. На самом деле именно демократические выборы должны были пробуждать подобные чувства, но не смогли этого обеспечить. Логические последствия подобного настроя налицо – снижение избирательной явки в большинстве западных демократий. С другой стороны, менее всего склонны приходить на избирательные участки бедные, безработные и молодежь – все те, кто теоретически должны были бы проявлять больший интерес к использованию политической системы для изменения своей участи.
Поэтому парадоксальный итог расширения демократического принципа самоуправления и выведения его за рамки политического процесса состоит в том, что теперь, когда мы голосуем за все, собственно политические полномочия избирателя резко сократились.
В эпоху устойчивых национальных демократий простой избиратель и гражданин обладал полномочиями, потому что был одновременно солдатом, работником и потребителем. Имущество богатых зависело от готовности работников защищать капиталистический порядок. Избиратель-гражданин имел большое значение, потому что защита страны зависела от его мужества в противостоянии с врагами. Он был важен, потому что его труд делал страну богатой, а потребление было двигателем экономики.
Чтобы понять, почему сегодня граждане на Западе не могут легко контролировать политиков демократическими способами, стоит взглянуть на размывание невыборных форм зависимости политиков от граждан. Когда гражданин-солдат заменяется профессиональной армией и беспилотниками, один из главных мотивов, по которым элита может быть заинтересована в общественном благополучии, существенно ослабевает. Заполнение рынка труда низкооплачиваемыми иммигрантами и перемещение производства товаров в страны с дешевой рабочей силой также уменьшают готовность элит к сотрудничеству. В течение нынешнего экономического кризиса стало очевидно, что показатели американского фондового рынка больше не зависят от потребительского спроса жителей США – и это еще одна причина, по которой граждане теряют рычаги воздействия на правящие группы. Именно уменьшение влияния гражданина – солдата, потребителя и работника – объясняет утрату избирателями полномочий и реальных прав, а также растущую неуправляемость современных демократий.
ЭТО ЭЛИТЫ, ГЛУПЫШ?
Еще один ключевой вопрос, на который надо найти ответ – почему меритократические элиты вызывают у людей такое негодование и неприятие. «Меритократия, – писал Ральф Дарендорф, – довольно неблагозвучное слово. Оно означает власть тех, кто имеет заслуги, то есть власть наиболее одаренных и образованных. Кто не желал бы жить при меритократии? Она, конечно, предпочтительнее плутократии, где богатство и состояние определяют статус человека в обществе, или геронтократии, в которой возраст выводит человека на вершину социальной лестницы, или даже аристократии, в которой главное значение имеют унаследованные титулы и состояния». Философы Платона, наверно, были одними из первых известных нам меритократов, которые претендовали на власть по причине собственных познаний и компетентности. Сложность окружающего мира объясняет, почему естественно ожидать от людей, что они хотят видеть на руководящих должностях наиболее образованных и компетентных людей. Складывается впечатление, будто сложность мира естественным образом должна сделать меритократию востребованной. Но на практике все гораздо сложнее.
Легитимность экспертов и профессионалов стала одной из первых жертв усложнения окружающего мира. Хотя наука и технология играют в нашей жизни все более заметную роль, исчезли «консенсус экспертов» и ссылки на науку как авторитетный источник. Нынешние дебаты об изменении климата – хрестоматийный пример дискуссий, в которых у обеих сторон имеются свои ученые, приводящие научные доказательства для обоснования двух противоположных точек зрения. Оказалось, что социальные издержки меритократии не так уж малы. Как ни странно, сам термин «меритократия» впервые появился не в древнем трактате о хорошем правлении, а в названии антиутопического сочинения британского социолога Майкла Янга, опубликованного в середине прошлого века. По мнению Янга, меритократическое общество – не мечта, а кошмарный сон. Это общество, для которого характерно вопиющее неравенство доходов; его граждане утрачивают чувство политической общности, демократия становится надувательством, перспективная социальная мобильность заменяется элитами, стоящими на страже своих интересов и не пускающими других в свой узкий круг. Вознаграждение людей в соответствии с их способностями и уровнем образования означает, что немногие получают много, а многие не получают почти ничего. Многие апокалиптические предсказания Янга сегодня стали действительностью.
Укоренение меритократического принципа означает, что мы стали богаче, но неравенство проявляется острее, чем 30–40 лет назад. В 2007-м предкризисном году доходы 0,1% американских домохозяйств в 220 раз превышали средние доходы 90% семей, находящихся на дне общественной иерархии. В 2011 г. 20% населения США владели 84% совокупного национального богатства, и подобное положение характерно не только для Соединенных Штатов. Глобализация привела к уменьшению неравенства между государствами, но почти повсеместно усугубила неравенство внутри стран. В эгалитарной Германии неравенство в последнее десятилетие нарастало быстрее, чем в большинстве развитых капиталистических государств. И этот рост сопровождается снижением социальной мобильности. Данные показывают, что бедные дети, лучше богатых учившиеся в школе, реже заканчивают колледж, но даже если заканчивают, их доходы все равно ниже, чем у плохо учившихся детей богачей. Короче, расходы на образование действительно окупаются, но образование – скорее привилегия, чем социальный лифт.
В течение многих лет Франция и Япония были олицетворением меритократии, то есть демократиями, которые управляются меритократическими элитами. Но неспособность именно этих двух наций справиться с вызовом глобальной конкуренции – еще один повод усомниться в преимуществах общества, управляемого лучшими и наиболее высокообразованными его членами. Очень часто компетентность меритократов в отрыве от реального жизненного опыта приводит к выбору неверного политического курса. Хотя меритократическое правление выигрывает от общих ценностей, опыта и кодекса чести людей, находящихся у власти, оно также сопряжено с рисками группового мышления и политического высокомерия. Многие спешат приписать успехи коммунистического Китая его меритократической философии государственного управления, но истина в том, что меритократия в Китае зачастую используется лишь для обоснования принимаемых решений, но отнюдь не всегда служит критерием для их принятия. Человек «ниоткуда» скорее может случайно стать президентом США, чем лидером Китая, поскольку КПК разработала сложную стратегию рекрутинга и продвижения своих кадров. Но также очевидно, что ни в России, ни в Китае карьерный рост губернаторов никак не связан с экономическими показателями их регионов. Это не значит, что образование и опыт в КНР не имеют значения, но покровительство важнее. Интересно отметить, что из 250 членов провинциальных комитетов Компартии Китая – элитарной группы, включающей партийных руководителей и губернаторов, – 60 имеют докторские степени (впечатляюще высокий процент), но 50 из 60 получили их, уже находясь на высоких государственных постах. Это означает, что, хотя докторская степень повышает карьерные возможности в Китае, гораздо важнее нахождение в высших эшелонах власти.
В случае с Россией опрос, проведенный журналом «Русский репортер» в конце 2011 г., выявил, что в отличие от китайского режима и своего советского предшественника система управления, построенная Владимиром Путиным, не заботится в социальном, профессиональном или географическом представительстве, когда речь заходит о формировании национальной элиты. Оказалось, что люди, занимающие 300 ведущих постов в правительстве и крупных государственных компаниях, – выходцы из очень узкого сферы. Наиважнейший фактор, влияющий на членство в элитарном кружке, – личное знакомство с Путиным до того, как он стал президентом. Короче, Россия управляется группой старых товарищей, и тот факт, что среди друзей президента оказалось несколько талантливых и образованных управленцев, можно считать большой удачей.
Джон Роулз высказал точку зрения многих либералов, попытавшись доказать, что быть неудачником в меритократическом обществе не столь болезненно, как в обществе неприкрыто несправедливом. В его понимании справедливость правил игры примиряет людей с отсутствием успеха. Но либералы не всегда лучшие психологи и специалисты по внутреннему миру «лузеров». На самом деле гораздо болезненнее скатиться на дно в обществе, которое все время вынуждает человека брать на себя вину за провалы, чем там, где все понимают, что неудачу можно списать на неадекватную общественно-политическую систему.
Короче, в нашем взаимозависимом мире элиты гораздо меньше зависят от сограждан. Традиционно аристократы имели круг обязанностей, которые их с детства приучали выполнять. Тот факт, что целые поколения предшественников, смотревших на них с портретов, развешанных по стенам замков, несли бремя происхождения, заставлял каждую новую генерацию относиться к своим привилегиям со всей серьезностью. Например, в Великобритании процент парней из высшего класса, погибших в Первой мировой войне, был выше соответствующего процента из низших классов. Но новая элита не знает, что такое жертва. Ее сыновья не гибли на полях сражений. Сама природа новой элиты делает этих людей практически неуязвимыми для власти государства. Дети не зависят от всеобщей системы образования (они обучаются в частных учебных заведениях) или от институтов государственного здравоохранения (могут позволить себе лучшие частные клиники). Они утратили способность разделять проблемы и страдания простых людей, для которых обособленность элит оборачивается утратой гражданских полномочий и рычагов воздействия на высшие эшелоны.
Что делает нынешние элиты недоступными, так это их «конвертируемость» и сознание того, что они «правильно» делают деньги, никому ничем не обязаны и не принадлежат ни к какому сообществу. Свобода от всяких обязательств – одновременно благословение и проклятие. Она избавляет элиту от давления со стороны электората, но обрекает ее на нелегитимность. Наиболее наглядный пример – особое отвращение, которое народ питает к финансовой братии. Землевладелец не может увезти с собой земельные угодья, промышленник не заберет завод, а финансист легко перемещает свои активы. Эти элиты самонадеянны в силу своей мобильности и потому что не считают себя частью общества.
Взаимодействие между народом и меритократическими элитами стало напоминать отношения современных футбольных клубов с их болельщиками. Ведущие клубы тратят невероятные суммы, чтобы заполучить лучших игроков и доставить радость фанатам. Зато теперь только неизменные победы могут гарантировать лояльность фанатов, потому что футболистов и их болельщиков ничто больше не связывает. Они не живут в одном дворе или районе, у них нет общих друзей. Большинство тех, кто защищает цвета именитых клубов, съезжаются со всего мира. Фанаты боготворят свои команды, когда те побеждают, но не желают о них ничего знать, когда они начинают проигрывать.
Меритократическая элита меркантильна по своей природе. Ее представители не принадлежат к обществу, но хотят, чтобы ими восхищались, их уважали и даже любили. Новая мировая элита видит себя примерно так же, как Маркс описывал пролетариат в «Коммунистическом манифесте», – как производительную силу общества: их отчизна – весь мир, и им принадлежит будущее. Так что президент Владимир Путин отнюдь не одинок в желании национализировать элиты, на его стороне протестные движения, возникшие в Европе в последние годы. Именно отсутствие общности и родства с народом делает элиты столь глубоко презираемыми и ненавидимыми. Парадокс современной демократии лучше всего сформулировал Стивен Холмс, профессор права в Нью-Йоркском университете. Важнейший вопрос сегодня – где взять элиты, которые одновременно были бы легитимны на местном и международном уровне?
Парадокс нелегитимности меритократических элит свидетельствует о том, что истинная сила и влияние проистекают не из независимости элит от общества, а скорее наоборот, из их зависимости. Люди доверяют лидерам не только по причине их компетентности, но также благодаря убежденности, что они останутся с ними в одной лодке во время кризиса, а не бросятся со всех ног к аварийному выходу. «Конвертируемая» компетентность нынешних элит – тот факт, что они одинаково хорошо могут управлять банком в Болгарии и в Бангладеш, – вызывает подозрительное отношение простых людей, поскольку те совершенно справедливо опасаются, что в случае бедствия меритократы попросту соберут вещи и отчалят, вместо того чтобы разделять с ними бремя кризиса. Тот факт, что элиты приватизировали «аварийный выход», не только делает эти социальные слои менее легитимными, но значительно уменьшает их влияние и могущество.
В фильме «Елена» российского режиссера Андрея Звягинцева прекрасно отражена динамика отношений между элитами и массами в раздробленном и разобщенном обществе. Это история супружеской пары. Елена – женщина на седьмом десятке, замужем за богатым бизнесменом, который сделал себя сам и уже вышел на пенсию. Постепенно становится понятно, что муж принадлежит к группе преуспевших мужчин, которых сегодня называют «однопроцентниками». Он знакомится со своей женой, представительницей «99 процентов», медсестрой, в больнице, где лечится после сердечного приступа. Они спят в разных комнатах, завтракают отдельно и смотрят любимые телепрограммы по разным телевизорам. Она ухаживает за ним, а в свободное время присматривает за семьей своего сына – разгильдяя и гуляки, живущего в старом многоквартирном доме на окраине. Когда муж-однопроцентник отказывается оплачивать обучение внука Елены (потому что тот не заслужил) и тем самым помочь ему избежать службы в армии, Елена добавляет таблетку виагры к лекарствам, которые принимает муж, зная, что его сердце не выдержит этой смеси. Семья сына переезжает к ней в роскошную квартиру теперь уже покойного мужа. Это своего рода аллегория классовой войны в меритократическом XXI веке: ни забастовок, ни революций. Только разгневанная медсестра и смерть от виагры.
ВЫХОД
«Если мы действительно желаем понять, куда движется мир, – писал философ и мистик Гилберт Кит Честертон, – неплохо было бы взять какой-нибудь заезженный речевой штамп из прессы и изменить его значение на противоположное: может быть, тогда он покажется более осмысленным?». В нашем случае стоит задаться вопросом: будет ли общество в случае дальнейшего развития демократии и меритократии более управлямым или менее? Размышляя над странными взаимоотношениями между демократией и меритократией в эпоху глобального политического пробуждения и усугубляющейся взаимозависимости между странами, можно прийти к некоторым предварительным заключениям.
Во-первых, мы наблюдаем не переход власти от элит к народу или от государственных институтов и учреждений к негосударственным организациям, а процесс ее распыления. Какой бы ни была ваша роль в политическом процессе, у вас есть ощущение, что власть находится где-то еще. В наши дни граждане, несмотря на расширяющиеся права и возможности влиять на события, чувствуют, что утрачивают влияние. С их точки зрения, не только деньги, но и власть сосредоточилась в руках немногих людей на самом верху. Но бизнес и политические элиты также понимают, что все меньше способны воздействовать на события. Как точно подметил Мозес Наим, «власть утратила былую покупательную способность... ее легче получить, труднее использовать и легче потерять». У распыления власти есть побочное следствие – рост популярности теорий заговора.
Во-вторых, из нынешнего кризиса управляемости нельзя было бы выйти только за счет стимулирования более деятельного участия масс в политическом процессе. Свободные и справедливые выборы все еще важны для обеспечения более эффективной управляемости нашего общества, но в силу слабости политических партий и истончения идеологической составляющей, быстро снижается значение легитимности «на входе». Граждане все меньше готовы доверять руководителям просто потому, что проголосовали за них на честных выборах. Недоверие политическим лидерам стало самой сутью сегодняшней демократии. Как верно пишет французский политолог Пьер Розанваллон, «народный суверенитет все чаще проявляется в демонстративном отказе и отмежевании граждан и в процессе выборов, и в качестве реакции на действия правительства. Таким образом, новая «демократия отвержения» накладывается на изначальную «демократию конструктивных предложений». Народное участие сегодня все чаще означает тысячи демонстрантов на улицах, которые договариваются о встрече с помощью социальных медиа с единственной целью – заявить не о поддержке определенного политического курса, а о неприятии государственных решений. Еще одним проявлением новой «демократии отвержения» стала готовность людей голосовать за любого новичка на политическом поприще. Например, в Болгарии за 12 лет на выборах дважды побеждала непарламентская партия.
В-третьих, «меритократический стимул» также не исправит систему, потому что компетентность элит во многом оспаривается, как уже было показано, и для любой политической системы рискованно полагаться на легитимность «на выходе». В эпоху, когда власть гражданского общества носит преимущественно негативный характер, воспринимается как право «отвергать и протестовать», одно из важных преимуществ меритократии и сплоченности элиты превращается в фактор ее уязвимости.
Качество управления в посткризисном мире, где можно ожидать низкие темпы экономического роста и высокую политическую турбулентность, скорее всего, будет определяться двумя важными факторами.
Для повышения управляемости демократиями в Европейском союзе чрезвычайно важна способность конвертировать «гражданский шум» в «политический голос». Другими словами, превращать «негативный суверенитет» гражданского общества в более или менее связные позитивные требования и обращать протестные движения в структурированную политическую силу. В случае с Россией и Китаем, где кризис приводит к обострению нетерпимости к любой политической оппозиции, повышение управляемости общества будет зависить от готовности режима терпеть разногласия в правящей элите.
Настала пора «реформатору» уступить место «реформисту» в качестве главной фигуры мировой политики. Несмотря на внешние сходства, реформист во многом отличен от реформатора, канонизированного в последние три десятилетия. Реформатор знает одну важную истину и представляет себе развитие в виде достижения одной цели путем устранения препятствий и проведения правильного политического курса. Реформатор – твердокаменный идеолог, подчас невосприимчивый к местной специфике. Но именно твердостью и непреклонностью объясняется его успех в преобразовании общества. В эпоху растущей неопределенности у него всегда есть ясные и неизменные рецепты.
Реформист, напротив, – хитрый лис, который видит возможности там, где другие видят только проблемы. Он знает, куда хочет прийти, но позволяет дороге вести его к этой цели. Реформист – это прогрессивный оппортунист, никогда не теряющий оптимизма и готовый формировать немыслимые коалиции для достижения нужного политического результата. Он гений не последовательности, а приспособления. И мир сегодня нуждается как раз в реформистской элите.
«Когда я начинаю размышлять над главной причиной краха правящих классов, – писал Алексис де Токвилль в “Воспоминаниях”, – перед глазами мелькают разные события и люди, случайные или поверхностные причины. Но поверьте, что главная причина, по которой люди теряют власть, в том, что они недостойны ее иметь и ею пользоваться».
Иван Крастев – председатель Центра либеральных стратегий в Софии и постоянный научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене.

Государство – это мы
Пять причин, почему нельзя позволять оппозиции «мочить» нынешнюю российскую власть
Резюме: Сегодня сильное хорошо работающее государство нужно и всем нам, и каждому из нас в отдельности значительно больше, чем в прежние времена. Потому что осталось очень мало герметических лакун, где можно спрятаться от несимпатичного общества и зажить самому по себе.
Написать об этом хотелось еще в прошлом году. Когда наша оппозиция с завидным постоянством, причем заранее, анонсировала непризнание результатов выборов – вначале в Государственную думу, потом президентских. Но не дошли руки. А вскоре и эффект Болотной площади мало-помалу стерся.
Тем не менее вопрос остается. В декабре 2012 г. в документе «Кардинальная политическая реформа – главное требование демократической оппозиции» снова постулировалась нелегитимность нынешней российской власти. Что по существу подразумевает допустимость ее свержения и демонтажа нынешнего режима любыми доступными средствами. Если власть нелегитимная – чего церемониться.
Так что объясниться все-таки надо.
Прежде всего, о чем идет речь? Мы живем не в абстрактном гражданском обществе, а в определенных экономических, правовых, культурных, понятийных и т.д. условиях, каркас которых составляет государство. Если государство разрушается – на какое-то время наступает хаос. Любой хаос хуже любого государства. За исключением, естественно, нечастых случаев, когда государство осуществляет геноцид в отношении собственного народа. В прямом смысле этого слова – истребление. Всего народа.
Для моего поколения, которое помнит тысячи еще не старых ветеранов в ЦПКиО в День Победы и для которого лучшим фильмом всех времен и народов был «Белорусский вокзал», Великая Отечественная война имеет личное преломление. Для меня, например, геноцид – это план «Ост», который предусматривал заселение Европейской части Союза немецкими колонистами и очищение этих территорий от 30 млн человек. Называть геноцидом каждое массовое зверство на этнической почве, наверное, не очень правильно. Но это – так, кстати…
Мы живем в эпоху стремительных перемен. В своей генеральной направленности – скорее позитивных. Несмотря на финансово-экономический кризис последних лет, из которого мир до сих пор не может выкарабкаться, налицо тенденция роста всеобщего благосостояния. Уже 67 лет в мире не было большой войны. Хотя этот тезис, думаю, небесспорен для жителей Чечни, Карабаха или Ферганской долины, не говоря уже о Вьетнаме, Кампучии, Афганистане, Ираке или зоне Великих Африканских озер… Стуча по дереву, рассчитываю дожить мои дни, не испытав ужасов войны, через которые прошли родители. Более того, надеюсь, что и моя дочь тоже проживет свою жизнь в мире, комфорте и благополучии.
Тем не менее сказанное не означает, что наступила тишь и благодать. Это во многом не так. В мировом порядке хватает реальных и потенциальных надломов – геополитика; межгосударственные противоречия; экономическая конкуренция; всякого рода ресурсные дефициты; революции в коммуникациях, технологиях, продовольствии; терроризм; религиозный радикализм; ползучее ядерное распространение; технологические аварии и природные катаклизмы и т.п. В своей совокупности эти надломы генерируют целую систему угроз, чреватых обвалом нынешнего относительного благополучия и спокойствия.
Допускаю: кто-то, наверное, считает, что в сегодняшнем комфортабельном мире, особенно в части его «золотого миллиарда», можно позволить себе обойтись без сильного государства. Раньше, в эпоху войн и революций, это было опасно. Сейчас риски приемлемы.
Считаю такую посылку глубоко ошибочной. Сегодня сильное хорошо работающее государство нужно и всем нам, и каждому из нас в отдельности значительно больше, чем в прежние времена. Потому что осталось очень мало герметических лакун, где можно было бы спрятаться от несимпатичного общества и зажить самому по себе, своими силами, в ладу с природой, как Лыковы.
Так что давайте будем поосторожнее с этой «невыносимой легкостью бытия» в отношении к государству. Иначе можно попросту лишиться того неказистого и не особенно эффективного, но своего государства, которым мы сегодня располагаем. А третий за 100 лет насильственный демонтаж всей государственной инфраструктуры российский народ, скорее всего, не переживет. Во всяком случае в современном смысле – как народ, претендующий на цивилизационную роль, организующий огромный массив земной суши и являющийся одним из главных опорных блоков мирового порядка.
Конечно, школа мысли, допускающая признание нелегитимности собственного государства, не является российским изобретением. Такие конструкты появились не в России и не сегодня. Неоднократно мы сталкивались в истории с ситуациями, когда радикально настроенное меньшинство, недовольное существующими порядками, объявляло государству войну и начинало бороться за его уничтожение. Россия в этой аномалии не одинока.
Но в нашем положении есть два существенных отличия. Во-первых, именно у нас, провозгласив лозунг поражения своего правительства в мировой войне, большевики подняли эту доктрину на невиданную доселе высоту – с точки зрения системности и разработанности аргументации. Страницы про Циммервальд – одни из самых пронзительных у Солженицына.
Во-вторых, сегодня мы потенциально, в стратегической перспективе более уязвимы, чем другие ведущие державы. В силу ряда причин. В числе которых: сокращение населения и кардинальные изменения в его составе, пробуксовка модернизации, отсутствие реального прогресса в развитии восточных регионов страны, сохраняющаяся гиперзависимость экономики от экспорта энергоресурсов, не преодоленное до конца состояние шока, оставшееся с 1990-х годов.
Не нам сейчас затевать очередной эксперимент с капитальной перестройкой. Мне могут возразить – чего паниковать из-за нескольких маргиналов. Дело не в панике. Не будем забывать, что большевистская партия в феврале 1917 г. насчитывала 24 тыс. членов. Но ведь замутила. И как!
Попробуем суммировать основные причины, почему надо быть очень осторожным с лозунгом поражения своего правительства. Причем не важно, какого поражения и в чем. В политике по отношению к Сирии или в попытках возрождения отечественного автопрома.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Первая причина. Как свидетельствует история, насильственный (какую бы форму ни принимало это насилие) развал несовершенного государства во имя его усовершенствования, то есть свержение не устраивающей тебя власти ради установления власти твоей или представляющей твои интересы, почти всегда оборачивается катастрофой для населения.
Примеров много.
Не скрываю – меня давно завораживает история Византии. Впрочем, не меня одного. Она увлекала многих – от Гиббона до Люттвака. Эта история очень назидательная. И по части человеческих страстей действительно будет покруче, чем «Фауст» Гете. Но Византийская империя пала не 29 мая 1453 г., а в 1204 году. В Византии тогда разыгрывалась очередная сцена в привычной пьесе борьбы за власть для тысячелетней империи. Победу одержал Алексей III. Оппозиционный лагерь, делавший ставку на царевича Алексея, сына свергнутого и ослепленного императора Исаака Ангела, не смирился. Алексей вступил в сговор с венецианским дожем Дандоло, возглавлявшим крестоносцев, собиравшихся плыть в Египет, пообещав за помощь в утверждении его на престоле огромные деньги. Дандоло в то время уже девяностолетний слепой старец, но когда-то, будучи венецианским послом, он бывал в Константинополе и даже, по одной версии, был ослеплен византийцами.
Крестоносцы вернули трон престарелому Исааку Ангелу. Они стали лагерем и ждали, когда Алексей со своим отцом расплатятся по счетам. Между греками и латинянами происходили постоянные столкновения. Отец и сын, приведшие чужеземное воинство под стены города, сделались предметом ненависти и отвращения. В городе началось брожение, переросшее в мятеж. Исаак, в очередной раз свергнутый с престола, не перенес горя и умер, его сын был посажен в тюрьму и там убит. Воспользовавшись анархией, крестоносцы, получив отказ в выплате долга, пошли на штурм Константинополя. 13 апреля 1204 г. город пал.
Что произошло, рассказано в сотнях и тысячах исторических и художественных книг. Вот как описывает эти события Ф.И. Успенский: «Эти три дня грабежа при зареве пожара превосходят всякое описание. По истечении многих лет, когда все уже пришло в обычный порядок, греки не могли без ужаса вспоминать о пережитых сценах. Отряды крестоносцев бросились по всем направлениям собирать добычу. Магазины, частные дома, церкви и императорские дворцы тщательно обысканы и разграблены, безоружные жители подвергались избиению... В особенности нужно отметить варварское отношение латинян к памятникам искусства, к библиотекам и святыням византийским. Врываясь в храмы, крестоносцы бросались на церковную утварь и украшения, взламывали раки с мощами святых, похищали церковные сосуды, ломали и били драгоценные памятники, жгли рукописи. Многие частные лица составили себе богатства в это время, и потомство их в течение целых столетий гордилось похищенными в Константинополе древностями. Епископы и аббаты монастырей впоследствии подробно описали в назидание потомству, какие святыни и как приобрели они в Константинополе».
Цена поступка Алексея Ангела и его клики во времени и пространстве – падение и расчленение величайшей империи в истории (по продолжительности беспрерывного существования). Потребовалось 57 лет, чтобы снова сложились в единое государственное образование те обломки, на которые она распалась. Но это было другое государство.
Как сверхдержава и как глобальная империя Византия перестала существовать. Она еще эпизодически достигала военных успехов, например, при Мануиле II Палеологе. Практиковала дипломатию, не имевшую прецедентов в мировой истории по интенсивности, изощренности и результативности. Выказала неожиданную способность к интеллектуальному и духовному обновлению. Неспроста именно византийская интеллектуальная традиция, хотя это замалчивалось много столетий, стала одним из источников европейского Возрождения. Но Византия, веками надежно заслонявшая Европу от нашествий с Востока, ослабленная и униженная, больше не справлялась с этой миссией. Не было бы Четвертого крестового похода, кто знает: скорее всего, не пришлось бы останавливать оттоманские войска под стенами Вены. И линия всемирной истории могла бы пролечь несколько по-другому.
Вернемся, однако, к нашему сюжету.
В России самый печально знаменитый пример затаскивания внешнего фактора во внутренние дрязги – конечно, Смутное время. Поскольку это – наше свое, родное, и основная фактологическая канва этого действа у всех у нас в памяти еще со школьной скамьи, ограничусь небольшим пассажем из летописи (в изложении Костомарова). Для иллюстрации – чем оборачивается делегитимация своего государства: «И было тогда такое лютое время божия гнева, что люди не чаяли впредь спасения себе; чуть не вся земля Русская опустела; и прозвали старики наши это лютое время – лихолетье, потому что тогда была на Русскую землю такая беда, какой не бывало от начала мира: великий гнев божий на людях, глады, трусы, моры, зябели на всякий плод земной; звери поедали живых людей, и люди людей ели; и пленение было великое людям! Жигимонт польский король велел все Московское государство предать огню и мечу и ниспровергнуть всю красоту благолепия земли Русской за то, что мы не хотели признать царем на Москве некрещеного сына его, Владислава… Но Господь – говорит то же сказание – услышал молитву людей своих, возопивших к нему великим гласом о еже избавитися им от лютых скорбей, и послал к ним ангела своего, да умирит всю землю и соймет тягость со всех людей своих».
Слишком часто в истории кровавые катаклизмы, сопровождавшиеся развалом вполне дееспособных, успешных государств, массовым истреблением мирного населения, разрушением процветающих городов, начинались с драки за власть и с делегитимации своего правительства.
Пелопонесская война едва не завершилась раньше срока полным поражением Афин, когда Алкивиад, бывший до этого командующим афинским войском, и затем сбежавший с позором от судебного разбирательства, переметнулся к спартанцам. В 1310 г. князь Василий Александрович привел из Орды татарское войско на своего дядю Святослава Глебовича, отнявшего у него Брянск. Несмотря на то, что перед битвой брянцы выдали князя Святослава, татары учинили в Брянске страшную резню.
Путч анархистов в Барселоне в мае 1937 г. в ходе гражданской войны в Испании помог франкистам занять Страну басков и во многом подготовил падение Испанской Республики. Попытка государственного переворота «сверху» в Южном Йемене в январе 1986 г. с последующей скоротечной гражданской войной так подорвали экономическое и политическое положение страны, что через несколько лет, в 1989 г., НДРЙ согласилась на объединение со своим заклятым соперником – Северным Йеменом.
Думаю, исторических аллюзий достаточно. Пойдем дальше.
О КОРРУПЦИИ И ДРУГИХ «РОДИМЫХ ПЯТНАХ»
Вторая причина. Какие бы претензии мы ни выдвигали по адресу нынешней российской власти, она не слишком отличается от власти в столь любезных среднему российскому интеллигенту Западной Европе и Америке.
Власть – сама по себе не очень приятная вещь, потому что она действует методами насилия в различных формах. Но без нее нельзя. Она не только устанавливает приемлемые для большинства правила человеческого общежития и обеспечивает их соблюдение, но и в возрастающей степени предоставляет обществу определенный набор базовых инфраструктурных услуг.
Оставим в стороне тему демократии. Слишком много сказано. Набило оскомину. Посмотрим лучше на ситуацию с коррупцией. Тоже – знаковый сюжет. Упростим все. Коррупция сама по себе – это лишь способ перераспределения материальных благ. В конкретных исторических контекстах коррупция может играть даже позитивную роль. Вопрос в другом: производит общество или нет? Станки, одежду, смартфоны, программное обеспечение и т.д., которые находили бы сбыт. Конкурентна ли материальная и культурная продукция этого общества на мировых рынках? Способно ли это общество обновляться и генерировать научно-технический и духовный прогресс?
Проиллюстрирую. По общепринятым оценкам, от четверти до трети ВВП Италии производится в теневой экономике. Так было в 1980-е гг., такая картина сохраняется и сейчас. Между тем в положении страны за эти 30 лет произошли космические перемены. В 1980-е гг. Италия была на подъеме, одной из ведущих экономик мира. Сейчас страна находится в глубоком системном кризисе. В чем разница? Тогда Италия производила массу конкурентоспособной продукции – автомобили, станки, вертолеты, компьютеры. Сейчас кроме тряпок итальянская промышленность мало что производит.
По данным авторитетного в этом жанре Института исследований труда (Бонн, ФРГ), в 2007 г. (последний год, охваченный статистикой) размер теневой экономики составлял в России 40,6% ВВП. Для сравнения, в США 8,4%, в Италии 26,8%, на Украине 46,8%, в Нигерии 53%. Спору нет, наше положение в этой шкале – не из приятных. Но опять-таки, не в самой коррупции как таковой корень зла.
С поправкой на размеры ВВП теневая экономика США в абсолютных величинах более чем вдвое превышает показатель России – 1,1 трлн долл. против 524 млрд долларов. Но Америка остается мастерской, в т.ч. инновационной, для всего мира. В тамошних университетах работают около 200 нобелевских лауреатов. В США обучаются более 760 тыс. иностранных студентов (в т.ч. из Китая – 194 тыс., из Индии – 100 тыс., из России – 5 тысяч). В США в 2012 г. произведен 601 воздушный лайнер (в Европе – 588, в Китае – 37, в России – 23). США имеют 250 суперкомпьютеров (Китай – 72, Япония – 32, Россия – 8).
Коррупция – страшная болезнь, с которой надо бороться самым беспощадным образом. Но наша главная системная слабость – в том, то мы не производим ключевую номенклатуру современных и конкурентоспособных товаров и услуг. Причем в категориях как «твердой», так и «мягкой» силы. Вот где собака зарыта.
ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА – УГРОЗЫ ИЗ НАСТОЯЩЕГО
Как уже сказано миллионы раз, мир переживает стремительные глубочайшие перемены. Подробно останавливаться на их содержании смысла не вижу. О некоторых вещах надо говорить или обстоятельно, или никак.
К тому же, как известно, the truth is in the eye of the beholder: на одни и те же события и процессы можно смотреть с диаметрально противоположных точек зрения. Том Фридман ключевой для понимания сегодняшнего мира факт видит в появлении в Индии простенького планшетника собственного производства, обладающего всеми основными функциями, но стоящего всего 30 долларов. И усматривает в этом подтверждение тенденции к росту прогресса и благополучия всего человечества.
А не менее знаменитый Николас Кристоф пишет о росте детской проституции и в целом насилия против женщин и детей, особенно на войне, о массовом участии несовершеннолетних в вооруженных конфликтах, о многомиллионной смертности от элементарного, брутального голода, о сохраняющейся в массовых масштабах практике работорговли и рабовладения и т.п.
Возьмем, как и до сих пор по ходу нашего разговора, один срез этой проблемы. Когда наши критики со злорадством пророчествуют, что, дескать, как упали режимы Каддафи и Мубарака, так завалится и российский. Стилистически это издевательство, а содержательно – подтасовка. Слишком велики различия между нашими обществами и соответствующими историческими контекстами. Однако проблема есть. И заключается она вот в чем. Тот же Фридман в качестве центрального международного события начала 2010-х гг. выделяет одновременный крах наднационального супергосударства в Европе и национального государства на Ближнем Востоке. Здесь автор со свойственной ему наблюдательностью удачно схватывает серьезную тенденцию – нарастающую слабость традиционных государственных институтов в различных по своей природе странах, при разных политических режимах и социально-экономических укладах, перед лицом нетрадиционных вызовов.
О каких вызовах идет речь? Посмотрим на примере Европы. Что нам ближе и понятнее. Главное – кардинальные изменения возрастного, национального и религиозного состава населения и связанный с ними расширяющийся разрыв между способностью и готовностью этого населения производить на общее благо и тем качеством жизни, на которое оно рассчитывает.
Эта базовая проблема усугубляется многими привнесенными обстоятельствами. Включая слабую защищенность финансово-экономических систем даже сильных государств от потрясений, имеющих внешнее происхождение. Достаточно упомянуть т.н. спрэд (spread) доходности гособлигаций. Именно взлет этого самого «спрэда» (злые языки утверждают – неслучайный) послужил финальной причиной падения Берлускони.
Или же возьмем нетрадиционные протестные движения. Антиглобализм как всеобщий феномен, потрясший мир 14 лет тому назад в Сиэтле, и такое его недавнее проявление, как серия акций Occupy Wall Street. В арабском мире нечто отдаленно похожее разыгралось после самосожжения Мохаммеда Буазизи в Тунисе. Движения, построенные по сетевому принципу, без единых координирующих центров, без партийных билетов и членских взносов, действующие по методу волны. Попробовать нейтрализовать такое движение, выведя танки на площадь, конечно, можно, только не стоит рассчитывать на эффективность. А не реагировать тоже нельзя. Альтернатива – паралич не только государственных, но и общественных функций и хаос. Вопрос: что делать?
Но, повторюсь, все это сопутствующие обстоятельства, что называется – collateral damage. Стержневая проблема заключается в том, что современное население, особенно молодое поколение, в самых непохожих по уровню своего развития странах хочет получать от государства такой объем материальных и духовных благ, который не обеспечивается трудовой деятельностью этого населения. Эта проблема – на десятилетия. В одночасье, одним законом или международным договором ее не решить. Эта проблема – для всего общества в каждой отдельно взятой стране. А по большому счету – для всего человечества.
Тем не менее, поскольку единого глобального правительства в мире не существует и не предвидится, создавать организационные рамки для решения этой проблемы надлежит государствам. Отдельно взятым. И отвечать перед своим населением за успешность или неуспешность своей политики им тоже предстоит поодиночке, а не скопом.
Сказанное в полной мере относится и к России. Мы тоже – неотъемлемая часть развитого Запада, нравится нам это или нет. Только для нас эта экзистенциальная проблема стоит грубее и острее, потому что усугубляется десятилетиями накапливающихся наслоений, состоящих из недорешенных проблем из предыдущих этапов исторического развития. Незавершенных структурных реформ, недосформированного гражданского общества, не до конца преодоленного комплекса «утраты сверхдержавности» и т.п.
ЧЕТВЕРТАЯ ПРОБЛЕМА – ВЫЗОВЫ ИЗ БУДУЩЕГО
Еще короче. В 1901 г. в мире насчитывалось всего восемь великих держав – США, Британская империя, Российская империя, Германская империя, Франция, Италия (с оговорками), Австро-Венгрия и Япония. Из них только одной стране (Соединенным Штатам) удалось пройти через столетие без резких социальных потрясений, перекройки своей географической карты и больших (конечно, все относительно) потерь в войнах. Соединенное Королевство было не столь удачливым, но тоже отделалось достаточно благополучно. Остальной шестерке пришлось в разных комбинациях испытать все – революции, гражданские войны, широкомасштабные военные действия на своих территориях, репрессии и концлагеря, Японии – даже атомные бомбардировки. Результатом исторических обстоятельств стала гибель многих миллионов людей.
Предвидеть все это в начале XX века на фоне тогдашней Belle Epoque для человеческого разума было не под силу.
Предыдущий век, XIX. В начале этого столетия Франция из предельно ослабленной десятилетней войной едва-едва восстановившейся страны за все те же 10 лет превратилась в могучую державу, по существу объединившую под собой всю континентальную Европу – впервые со времен Карла Великого. Она переделала под себя весь конституционный порядок в этих странах – до сих пор многие из них живут по гражданскому законодательству, основанному на Кодексе Наполеона. Реально заявила претензии на мировое господство. А затем через пару лет во Франции были расквартированы войска четырех держав.
А еще было объединение Германии, когда из 25 германских государств осталось одно – Германская империя, а Австрия переформатировалась в дуалистическую Австро-Венгерскую монархию. Произошло объединение Италии – через серию войн и во многом как следствие германских побед. США пережили жестокую гражданскую войну. Неожиданно из ниоткуда совершила модернизационный прыжок Япония. И это было, наверное, одно из самых спокойных и благополучных столетий в истории человечества.
XVIII век – революция во Франции и война за независимость в Америке. Становление России, опять-таки через череду кровопролитных войн, в качестве одной из крупнейших и мощнейших держав мира. Опущение Швеции до уровня средней державы. Исчезновение Польши с политической карты Европы. Семилетняя война с ее, по оценкам, двумя миллионами погибших, как прообраз Первой мировой. Окончательное устранение турецкой угрозы. Галантный век. Просвещение. Вольтер. Казанова и Калиостро.
XVII век – Тридцатилетняя война. До восьми миллионов погибших. Вестфальский мир. Крушение династической системы в Европе и становление принципа национального государства. В России – Смута.
Продолжать не будем.
Смысл – конечно, исторические прогнозы есть жанр необходимый и вполне правомерный. Их много. Есть очень небезынтересные. Например, разработки американского Национального совета по разведке из серии «Глобальные тенденции». Последний выпуск – «Альтернативные миры». Содержит массу полезной информации к размышлению. Но не более того. Надо честно сказать самим себе – человечество еще не научилось прогнозировать собственное будущее, даже в относительно близких исторических горизонтах. И исходить из этого. А значит – прежде всего: не рисковать без нужды. Не раскачивать лодку.
СОВСЕМ НЕМНОГО ФИЛОСОФИИ, ПОД ЗАНАВЕС
Самые главные, фундаментальные для человечества в XXI веке вопросы не связаны ни с возвышением Китая, ни с эволюцией нынешнего политического ислама. Это – важные вопросы, но не судьбоносные. Судьбоносные же для человеческой цивилизации вопросы, для ее будущего, для путей развития человеческого общества как такового, они – о другом.
Как мне представляется, таких вопросов два. Склонен ли человек к добру по своей природе как общественное животное? И имеет ли количество добра в мире тенденцию к увеличению по мере исторического прогресса? Простите за корявую формулировку.
Почему я ставлю эти вопросы в контексте нашего разговора? Предположим, что человек по своей природе добр. Тогда, если обеспечить ему необходимые внешние условия, включая надлежащее воспитание, то человеческое общество в принципе должно быть в состоянии обойтись в своем общежитии без внешнего регулятора в виде государства. Аналогично, допустим, что количество добра в мире возрастает. То есть в современную постиндустриальную эпоху добра больше, чем было при классическом капитализме. А при нем добра было больше, чем при феодализме и т.д.
При такой посылке, прочертив тенденцию в будущее, мы неизбежно рано или поздно получаем человеческое общество, в котором «добрая» человеческая природа должна будет самореализоваться. И государства станут ненужными. И люди будут жить в масштабах всего Земного шара без границ и государств с их машинами принуждения и сдерживания, потому что некого будет принуждать и сдерживать. Отпадет сама потребность в насилии.
Перспектива вдохновляющая. Если она реальна, то тенденцию можно и подтолкнуть. В таком случае особый пиетет перед институтом государства в современную эпоху неуместен. Если же нет…
Все зависит от того, как мы отвечаем на эти два вышеупомянутых вопроса. У меня нет однозначного мнения на этот счет. Честно. Дать отрицательный ответ – отсутствует неопровержимая доказательная база. К тому же это задало бы порочную ценностную установку всему человеческому развитию, в духе футурологических триллеров типа Blade Runner. Но и оснований для уверенного оптимизма у нас тоже, к сожалению, нет. Слишком тяжел груз Освенцима, Камбоджи и Руанды.
И в этой неопределенности – еще одна причина, почему человечество пока не может обойтись без сильных государств. Трудности со становлением государства в современном понимании – эффективного, просвещенного, опирающегося на гражданское общество и ориентированного на развитие человека – не повод для развала существующих структур.
В царской России государство, несмотря на коррупцию и малую эффективность бюрократической машины, относительно неплохо функционировало. И перспективы просматривались замечательные. По многим прогнозам, Россия к середине XX века должна была выйти на первое место в мире по экономическому развитию. Если бы большевики не затащили нас в Октябрьскую революцию…
* * *
Наше государство значительно лучше, чем думают наши оппоненты (что неудивительно!) и чем кажется многим из нас самих – как ни парадоксально.
Другого государства нам никто не даст. Поэтому надо раз и навсегда отставить губительные рассуждения в духе Интернационала – «до основанья, а затем». И вместе заняться тяжелой, неблагодарной и не всегда приятной работой по улучшению того государства, которое у нас есть. Ради нас самих и наших детей.
Н.Н. Спасский – доктор политических наук, чрезвычайный и полномочный посол.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























