Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
В рамках отказа от «политики необдуманной отправки польских контингентов в зарубежные миссии», о котором было объявлено в августе прошлого года, министерство обороны Польши заявило об ускоренном выводе польского контингента из Афганистана.
Министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк заявил, что в рамках принятого после консультаций с другими странами НАТО решения уже к маю 2014 года численность польского контингента в Афганистане сократится с 1,6 тысячи до 500 человек, сообщается в российском издании «Парламентская газета».
Ранее предполагалось, что до конца 2014 года службу в Афганистане будут нести не менее тысячи польских военных. Отметим, что потери Польши за время военной операции НАТО на территории Афганистана составили 43 человека.
Президент Литвы Даля Грибаускайте отметила, что введение евро в Балтийских странах укрепит конкурентоспособность в регионе.
Министерство финансов Литвы представило правительству законопроект о введении евро в Литве, который оговаривает подготовку и порядок перехода на евро - обмен, порядок изъятия из оборота национальной валюты и другие детали
Литва нуждается во второй линии соединения с Польшей, которая могла бы обеспечить деятельность новой атомной электростанции. Об этом 15 января объявил премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс.
Литовский министр энергетики Ярослав Неверович говорит, что решение относительно проекта новой атомной станции может быть принято в первом полугодии 2014 года.
Реконструкцию пункта пропуска "Привалка" завершат до конца 2014 года. Об этом 16января в Гродно сообщил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Брытков.
В прошлом году в зоне деятельности Гродненской региональной таможни сделано многое в плане усовершенствования пропуска через границу и уменьшения очередей. Главным событием стало введение первого пускового комплекса реконструкции пункта пропуска "Привалка" на границе с Литвой. Это более 80% всех работ на пункте пропуска. Пропускная способность для физлиц и грузовых транспортных средств уже увеличилась в три раза с 340 до 1000 транспортных средств в сутки.
В этом году будут завершены все оставшиеся работы. В том числе будет установлен досмотровый комплекс, который позволит производить досмотр всех грузовых транспортных средств без выгрузки товаров с помощью сканирующего устройства. Это также влияет на пропускную способность, подчеркнул заместитель председателя ГТК.
В 2014 году также планируется ввести в строй после реконструкции пункт пропуска "Григоровщина" на границе Беларуси с Латвией, будет усовершенствован пункт пропуска "Каменный Лог" на литовской границе, где сегодня складывается самая напряженная на границе ситуация. Предусмотрена и плановая модернизация пунктов пропуска, сданных в эксплуатацию ранее. В том числе в пункте пропуска "Брузги" на границе с Польшей запланировано обустроить отдельный канал для пропуска пешеходов.
Польская авиакомпания увеличит количество рейсов из Варшавы
Кроме этого, авиакомпания планирует добавить рейсы по другим популярным направлением, особенно в страны Европы. С весны по осень будут введены дополнительные послеобеденные рейсы в Прагу, Софию, Бухарест, Москву и страны Прибалтики.
Такой шаг позволит увеличить прибыль компании и сделать транзитные перелеты более комфортными для пассажиров.
Кроме того, Еврокомиссия обязала авиакомпанию ограничить количество перелетов из других городов страны.
Президент Чехии подтвердил, что приедет на Зимние Олимпийские игры в Сочи. По его словам, «не стоит мешать спорт и политику».
Выступая перед студентами в Карловарском крае, Милош Земан заявил, что ситуация с бойкотами олимпиад в Москве и Лос-Анджелесе не должна повториться. Вопросы прав человека должны решаться на политическом уровне, а Олимпиада – событие спортивное, полагает президент.
Бойкот Олимпиады в Сочи поддержали главы нескольких государств, в том числе Германия, Франция, Польши, Эстония и Литва.
Министерство природных ресурсов и экологии РФ опубликовало Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2012 году»
Данные представлены по состоянию на 1 января 2013 г. В качестве основы для определения показателей использованы рекомендации Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Документ является информационной основой для государственных органов исполнительной власти при планировании и проведении природоохранных мероприятий. Данные представлены по группам: загрязнение атмосферного воздуха и разрушение озонового слоя, изменение климата, земельные ресурсы, сельское хозяйство, отходы.
По данным Госдоклада, общая площадь России занята лесами - 51%, сельскохозяйственными угодьями – 13%, поверхностными водами, включая болота - 13%, 23% - другими землями.
Уровень загрязнения воздуха в 138 городах Российской Федерации, где проживает 57% городского населения, характеризуется как высокий и очень высокий.
Только в 9 субъектах Российской Федерации высокий и очень высокий уровень загрязнения воздуха городов не отмечен.
Согласно Госдокладу, над территорией Российской Федерации за последнее десятилетие (2003-2012 гг.) толщина слоя озона уменьшилась и в среднем была на 2,3% ниже нормы. В 2012 г. среднегодовое значение озона было на 3,2% ниже нормы, во всех регионах, кроме Восточной Сибири, где за год отклонение от нормы составило около 4%.
По данным Росгидромета, в 2012 г. средняя годовая температура воздуха на территории Российской Федерации превысила норму за 1961-1990 гг. на 1.07оС. Данные наблюдений подтверждают тенденцию к росту среднегодовой температуры на всей территории России. Последствием продолжения изменения абсолютных температур являются таяние ледников, повышение уровня воды в морях, наводнения, засухи и ряд других явлений.
Количество осадков, выпавших в целом за год на всей территории России, в 2012 г. значительно превышало норму. Динамика количества всех зарегистрированных метеорологических опасных явлений с 1998 по 2012 гг. демонстрирует рост. В 2012 г. было зафиксировано самое большое количество опасных явлений - 536.
В перечень городов и поселков Российской Федерации с опасной категорией загрязнения почв комплексом тяжелых металлов (ТМ), установленной за период наблюдений 2003-2012 г., по данным Росгидромета, вошли г. Свирск (Иркутская область), г. Нижний Новгород (Нижегородская область), пос. Рудная Пристань (Приморский край), городах Кировград, Ревда, Реж (Свердловская область). Наблюдения за загрязнением почв ТМ проводятся, в основном, в районах, где расположены источники промышленных выбросов ТМ в атмосферу.
За последние пять лет (2008-2012 гг.) зафиксировано загрязнение водорастворимыми формами фтора выше 1 ПДК почв территории г. Братск и отдельных участков почв в районе (или на территории) городов Артём, Иркутск, Каменск-Уральский, Новокузнецк, Полевской, Тольятти, Усолье-Сибирское, Черемхово.
Загрязнение почв нефтепродуктами установлено в районе Жилкинской нефтебазы в г. Иркутск; на расстоянии 0,2 км вдоль нефтепровода «Дружба» в с. Лопатино Волжского района Самарской области, на территориях городов Нижний Новгород, Арзамас, Пенза, Самара, Новочебоксарск, Омск, Казань. С 1990 по 2012 гг. отмечается рост (с 115 до 676 мг/кг) массовой доли НП в почвах территории, примыкающей к Жилкинской нефтебазе в г. Иркутск.
В 2012 г. было проведено обследование почв различного типа на территории 40 субъектов Российской Федерации. Проведено исследование почвы сельскохозяйственных угодий, отдельных лесных массивов, зон отдыха в 475 пунктах наблюдений на территории 118 районов, в 174 хозяйствах. Загрязненные (выше установленных гигиенических нормативов) площади составили 1,83% от обследованной территории весной и 2,13% - осенью. Результаты наблюдений за загрязнением почв пестицидами показывают, что в течение последних 20 лет на территории Российской Федерации наблюдается тренд на снижение доли загрязненных почв.
По итогам 2013 года объем пассажироперевозок в Международном аэропорту "Харьков" составил 605 тыс. пассажиров, превысив тем самым показатель прошлого года на 21%. В целом, как сообщает пресс-служба МА "Харьков", аэропорт на протяжении последних пяти лет демонстрирует постоянный ежегодный прирост пассажиропотока в среднем на 20-30%.
Основная часть пассажироперевозок (87%) приходится на международные направления (более 526 тыс. человек в 2013 году. В частности, в декабре 2013 года пассажиропоток в Международном аэропорту "Харьков" составил 43 тыс. человек, из них услугами международных рейсов воспользовались 37,6 тыс. пассажиров, внутренних - 5,5 тыс. Общее количество самолетовылетов в 2013 году составило 4809, а непосредственно в декабре минувшего года - 384, из них 261 международный и 123 внутренних.
Для Международного аэропорта "Харьков" 2013 год ознаменовался целым рядом достижений, в числе которых:
- открытие в аэропорту современного многоуровневого Центра управления воздушным движением (инициатор и куратор проекта - ГП "Украэрорух");
- сертификация взлетно-посадочной полосы аэродрома по второй категории ИКАО (ILS CAT II), позволяющая эксплуатировать ВПП в сложных метеоусловиях;
- начало сотрудничества с одним из лидеров европейского рынка лоукост-перевозок, авиакомпанией WizzAir, и открытие прямых регулярных низкобюджетных авиарейсов из Харькова в Варшаву (Польша) и Кутаиси (Грузия);
- запуск базовой авиакомпании "Авиалинии Харькова", которая уже в первый год своей работы начала выполнять полеты из Харькова по целому ряду направлений: Анталия (Турция), Ираклион (Греция), Монастир (Тунис), Хургада и Шарм Эль Шейх (оба Египет);
- открытие прямых регулярных рейсов из Харькова в Баку (Азербайджан) и Ереван (Армения) (перелеты по маршрутам выполняет авиакомпания ЮТэйр Украина);
- открытие новых сезонных рейсов по направлениям Афины, Монастир, Родос, Подгорица;
- увеличение частоты перелетов по маршруту Харьков-Москва (Шереметьево) - Харьков (авиакомпания Аэрофлот) до 2 раз в день;
- открытие службы наземного обслуживания General Aviation Servicе, предоставляющей услуги для бизнесавиации;
- введение новых сервисов для пассажиров, в т.ч.
- организация бесплатных трансферов из Белгорода, Днепропетровска, Полтавы в Международный аэропорт "Харьков" и обратно;
- открытие касс по продаже аэропортовых сервисов;
- введение спецтарифов на рейсах некоторых авиакомпаний (в т.ч. рейс Харьков-Киев-Харьков авиакомпании ЮТэйр, где стоимость билета в оба конца составляет 990 грн с налогами и сборами).
В Польше прекращают искать сланцевый газ
Срок по трем договорам истекает в текущем месяце, однако представители компании не намерены продолжать дальнейшее сотрудничество.
Хотя польская сторона пытается убедить своих итальянских инвесторов, однако окончательное решение уже принято.
Пока итальянская компания не дала официального подтверждения, об этом стало известно из неофициальных источников.
По предварительным данным, причиной такого решения были неудовлетворительные результаты поисков.
Напомним, что ранее подобные работы в стране уже прекратили ряд других иностранных компаний.
Немецкая компания будет расширять свое производство в Польше
Немецкое предприятие находится в юго-западной части страны и занимается производством пластиковых и резиновых деталей, которые используются в кондиционированнии автомобилей.
Решение о расширении руководство комании приняло еще в конце 2013 года. Сейчас они планируют выделить более миллиона евро на закупку нового оборудования, которое позволит улучшить качество продукции.
Над реализацией проекта начнут работать уже через несколько месяцев, а выполнение работ на новом оборудовании планируется начать осенью.
Польское правительство слишком легкомысленно относиться к добыче сланцевого газа
Утверждается, что правительство ведет работы слишком медленно, и даже при условии, что сланцевый газ найдут, то оценить его реальную пользу для страны можно будет только в 2026 году.
Также эксперты заявляют, что на месте пробуренных скважин не проводится достаточное количество исследований, которое поможет оценить возможности.
Напомним, что бурение одной скважини обходится в 15 миллионов долларов, а за истекший период было выдано около ста лицензий на работы. Однако, для получения подобной лицензии уходит слишком длительнок время, поэтому многие потенциальные разработчики заранее отказываются от разработок.
В текущем году Польша ускорит вывод своих войск из Афганистана, заявил в ходе недавней пресс-конференции в Варшаве министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк.
Как передаёт «Голос России», в своём выступлении Семоняк отметил, что процесс сокращения контингента, проходящего службу в составе МССБ, станет главной задачей его ведомства в 2014 году. «Уже в мае в стране останется только 500 <польских> солдат, – пообещал министр. – Они покинут базу Газни, которая будет закрыта, и переместятся на базу Баграм».
Напомним, что Польша участвует в миссии МССБ, начиная с 2002 года. За это время страна потеряла 38 военнослужащих убитыми. В настоящее время размер польского контингента в Афганистане составляет около 1000 человек.
Молдавия наращивает поставки в страны Евросоюза, хотя ее импорт товаров из ЕС превышает экспорт молдавской продукции в эти государства в 2,2 раза. По данным Национального бюро статистики, в январе-ноябре 2013 года экспорт в Евросоюз составил 1 038,9 млн. долл. США, увеличившись на 12,7% в сравнении с тем же периодом 2012 года. В то же время импорт товаров в Молдавию из стран ЕС вырос на 5,6% – до 2 234,2 млн. долл. США.
Доля стран ЕС в общем объеме молдавского экспорта увеличилась с 46,7% до 47,3%, а в общем объеме импорта – с 44,9% до 45,2%. Дефицит торгового баланса Молдавии со странами ЕС составил 1 195,3 млн. долл. США, увеличившись на 0,2% по сравнению с тем же периодом 2012 год.
Наибольший объем молдавского экспорта среди стран ЕС пришелся на Румынию –383,7 млн. долл. США (+19,2% в сравнении с тем же периодом 2012 года) Далее следуют: Италия – 166,2 млн. долл. США (-11,5%), Германия – 101,2 млн. долл. США (+55%), Великобритания – 97,6 млн. долл. США (+28,1%), Польша – 80,1 млн. долл. США (+16,2%).
Наибольшие объемы импорта из ЕС пришлись также на Румынию – 649,7 млн. долл. США (+13,4%). Далее следуют: Германия – 357,4 млн. долл. США (+2,2%), Италия – 313,4 млн. долл. США (+5,5%); Польша – 129 млн. долл. США (-6,4%), Австрия – 118,9 млн. долл. США (+9,1%).
/ИП «Ной»/
Шведский государственный концерн Ваттенфаль продал свою долю в польской энергетической компании Enea за сумму соответствующую 2.2 млрд. крон.
Ваттенфаль владел 18.7 % акций польской компании.
Агентство ТТ сообщает о сделке и заявляет, что подтверждение о продаже получено от концерна Ваттенфаль.
Польский строительный концерн Budimex (г. Варшава) продал инвестиционной группе Barwick Investments все акции производителя сборных домов Danwood, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении компании.
Стороны договорились не разглашать условия и стоимость сделки.
Штат Danwood — 500 сотрудников, производственные мощности предприятия позволяют производить до 600 сборных конструкций в год. С 2001 г. компания представлена на немецком рынке. В 2013 г. Danwood реализовал в Польше и за ее пределами 769 домов.
В 2013 г. компании, входящее в состав Ассоциации европейских производителей ламинированных напольных покрытий (Association of European Producers of Laminate Flooring, EPLF) реализовали на внешнем рынке 463 млн м2 ламината, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении EPLF.
Рост показателя в сравнении с данными 2012 г. составил 0,7%, в состав Ассоциации входит 21 компания-производитель.
Продажи в Западной Европе продемонстрировали снижение на 3% до 290 млн м2. В Германии было реализовано 72 млн м3 ламинированных напольных покрытий, что на 5,3% меньше, чем годом ранее. Во второй по объемам стране-потребителе — Турции — продажи составили 65 млн м2 (снижение на 1,5%). Во Франции в 2013 г. было реализовано 39 млн м2, это на 2,5% меньше, чем годом ранее, в Великобритании и Нидерландах продажи остались на уровне 2012 г. — 29 млн м2 и 19 млн м2 соответственно.
Продажи ламината в странах восточной Европы в 2013 г. выросли в годовом исчислении на 4% до 103 млн м3. Лидером здесь остается Польша — 25 млн м3 (+4,2%), далее следуют Россия — 23,9 млн м2 (+0,8%), Румыния — 10 млн м2 (+2%), Украина — 9 млн м2 (+12,5%) и Венгрия — 4,6 млн м2 (+9,5%).
Продажи европейского ламината в Северной Америке в 2013 г. также продемонстрировали положительную динамику. В США было реализовано 16 млн м2 (+33,3%), в Канаде — 11 млн м2 (уровень 2012 г.).
Украина договорилась со Словакией о реверсе газа
Данный маршрут считается одним из наиболее оптимальных
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий объявил о подписании соглашения о реверсе газа со Словакией. Его комментарий приводит УНИАН.
«Мы подписали соглашение и направили в Словакию», — отметил Ставицкий. Ранее стало известно, что Украина решила отказаться от реверсных поставок газа из Европы. Как пояснил министр, государство отдает предпочтение российскому топливу, так как оно дешевле.
В декабре 2013 году Москва предоставила Киеву скидку на газ: стоимость за тысячу кубометров была снижена с 400 до 268,5 доллара. В дальнейшем отмечалось, что цена будет плавающей и может меняться вслед за показателями российского экспорта.
Прежде украинцы получали реверсный газ от Польши и Венгрии. Соглашение со Словакией планировалось подписать до конца прошлого года — этот маршрут считается одним из ключевых для поставок.
Украина подписала и направила Словакии соглашение о реверсных поставках газа через эту страну, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.
"Мы подписали, направили в Словакию", - сказал он, отвечая на вопрос, на каком этапе находится подготовка соглашения. Ранее Украина заявляла о планах подписать соглашение о реверсе газа через Словакию до конца 2013 года.
Украина, несколько лет добивавшаяся от России снижения цены на газ, в 2012 году начала закупать газ в Европе. С ноября 2012 года начались поставки газа через Польшу по соглашению с немецкой RWE, с конца марта 2013 года - через Венгрию.
В конце 2013 года "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" GAZP +0,74% договорились о снижении цены на российский газ для Украины на треть - до 268,5 доллара за тысячу кубометров.
Ставицкий в декабре заявлял, что, несмотря на эти договоренности, Украина по-прежнему планирует подписать соглашение со Словакией о реверсе газа. Вместе с тем в январе он заявил, что "Нафтогаз Украины" пока будет покупать только российский газ, поскольку он самый дешевый. Максим Беденок.
Польские власти намерены ускорить вывод войск из Афганистана и к маю 2014 года сократить численность польского военного контингента в стране до 500 человек, сообщает в среду агентство Рейтер со ссылкой на минобороны Польши.
Глава польского военного ведомства Томаш Семоняк заявил на пресс-конференции, что решение ускорить вывод войск было принято после консультаций с союзниками по международным силам содействия безопасности (ISAF). По его словам, согласно ранее принятому плану численность военного контингента страны должна была достигнуть тысячи человек к концу текущего года.
По данным на сентябрь, численность польского контингента в Афганистане составляла 1,6 тысячи человек. Потери поляков в рамках операции в стране составляли 43 человека с 2007 года. Сообщалось, что по мере снижения численности польского контингента также будет сокращаться и материально-техническая база.
Президент Коморовский в августе объявил, что власти отказываются от политики необдуманной отправки польских контингентов в зарубежные миссии, которая действовала с 2007 года. Он напомнил, что НАТО создавалась для защиты территории своих членов. По словам президента, средства, сэкономленные за счет отказа от участия в зарубежных миссиях, будут направлены на модернизацию вооруженных сил страны.
На сегодняшний день в Афганистане под руководством НАТО остаются порядка 100 тысяч военных из состава контингента ISAF. Вывод основной части войск международной коалиции из страны запланирован на конец 2014 года.
Несмотря на относительную молодость, за 20 лет Счетной палатой была проделана огромная работа: проведено около 9 тыс. контрольных мероприятий, выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере на сумму 4,6 трлн. рублей. По результатам контрольных мероприятий было направлено почти 9 тыс. представлений и предписаний, содержащих требования устранения выявленных нарушений. По материалам Счетной палаты правоохранительными органами возбуждено более 1700 уголовных дел.
Своей плодотворной работой Счетная палата продолжила историю государственного финансового контроля в России, которая берет свое начало в XVII в.: в царствование Государя Алексея Михайловича Романова. В то время был создан Счетный приказ, в чьи задачи среди прочего входила проверка раздачи полкового жалованья солдатам русской армии во время Русско-польской войны 1654-1667 гг. В XVIII в. уже в годы правления Императора Петра I при Правительствующем Сенате функционировала Ближняя Канцелярия, облеченная среди прочего полномочиями по финансовому контролю, и Ревизион-контора, заведовавшая государственными счетами доходов и расходов и производившая суд над лицами, изобличенными в злоупотреблениях. В XX в. при советской власти государственному контролю над бюджетом придавалось чрезвычайное значение: с первых лет после Октябрьской Революции существовала Рабоче-крестьянская инспекция, занимавшаяся, в том числе, финансовыми ревизиями. Первым Народным комиссаром РКИ РСФСР был Иосиф Сталин.
Сегодня Счетная палата - полноправный участник бюджетного процесса, обладающий достаточными полномочиями для эффективного контроля за государственными финансами и имуществом. Благодаря принятым в 2013 и 2014 гг. изменениям в Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации», полномочия контрольного ведомства были существенно расширены, а также заложен значительный потенциал развития на перспективу.
Так, в 2013 г. к задачам Счетной палаты добавился аудит государственных программ, аудит достижения стратегических целей социально-экономического развития Российской Федерации, экспертиза проектов федеральных законов, международных договоров, документов стратегического планирования и иных документов, затрагивающих вопросы формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами, а также вопросы бюджетно-финансовой политики и совершенствования бюджетного процесса. Счетной палате также было предоставлено право обращаться к субъектам законодательной инициативы с предложениями о совершенствовании бюджетного законодательства и развитии финансовой системы страны. Одной из ключевых стала норма, согласно которой правоохранительные органы теперь в обязательном порядке должны информировать Счетную палату о ходе рассмотрения переданных им материалов по итогам проверок.
Согласно поправкам 2014 г., Счетная палата получила право проводить проверки правильности и эффективности использования негосударственными пенсионными фондами и страховыми медицинскими организациями передаваемых им государственных средств - страховых взносов на обязательное социальное страхование. Также теперь Счетная палата может проводить экспертизу и готовить заключения на законопроекты, принятие которых может привести к изменению доходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
За 20 лет работы Счетной палате удалось выстроить в России действенную систему внешнего государственного финансового аудита, основанную на единых организационных принципах и методологии. Подтверждением тому служит тот факт, что Счетная палата занимает лидирующие позиции в мировом аудиторском сообществе, являясь членом международной, европейской и азиатской организаций высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ, ЕВРОСАИ и АЗОСАИ) и входя в состав их Управляющих советов. По инициативе Счетной палаты был создан и вот уже 14 лет успешно функционирует Совет руководителей высших органов финансового контроля государств СНГ. Плодотворно развиваются отношения с зарубежными высшими органами финансового контроля (ВОФК). В настоящее время заключены и действуют соглашения о сотрудничестве с контрольными органами 67 стран. Представители Счетной палаты работают в составе более 20 руководящих и рабочих органов международных организаций ВОФК.
Кроме того, Счетная палата всегда уделяла пристальное внимание развитию финансового контроля в регионах страны. На площадках недавно созданного Совета контрольно-счетных органов и Союза муниципальных контрольно-счетных органов Счетной палатой налажено конструктивное сотрудничество с органами финансового контроля регионов и муниципалитетов.
Перевозка бензина из Польши в Россию может закончиться
Однако в России цены на тапливо держатся на высоком уровне. Это обеспокоило водителей бензовозов, поскольку в такой ситуации их услуги могут требоваться гораздо меньше.
Ранее были налажены поставки топлива из Польши в Россию, однако этот бизнес может вскоре прийти в упадок, хотя перевозчики бензина пока не повышают цены.
После введения в стране малого приграничного передвижения в северных районах Польши стала процветать контрабанда. Однако польское правительство вовремя приняло меры и стало контролировать количество беспошлинных поездок. После этого многие перевозчики топлива стали заниматься контрабандой сигарет. Как обернется ситуация в этот раз пока сложно предсказать.
В период с 15 по 17 января Ассоциация продавцов табака организует фестиваль, направленный на продвижение произведенных в Никарагуа сигар и привлечение экспертов-дегустаторов из стран Америки и Европы.
В рамках III Международного фестиваля табака Puro Sabor (Festival Internacional de Tabaco Puro Sabor) гости смогут попробовать сигары, произведенные в регионе Лас-Сеговиас, а также познакомиться с четырьмя брендами, которые в 2013 г. заняли на рынке особое место благодаря публикациям в специализированных журналах. 150 экспертов-дегустаторов, покупателей и поклонников сигар из Северной и Латинской Америки, а также из Европы ждет мероприятие, в котором примут участие 15 компаний-продавцов. По словам организаторов, оно будет крайне важным для данной отрасли, т.к. позволит производителям высококачественного табака Никарагуа напрямую выйти на его крупнейших реализаторов.
За первые 11 месяцев прошлого года объект продаж табака в стране составил USD 41,7 млн. Основными покупателями оказались США, Германия, Россия, Польша, Венгрия, Израиль и Франция.
Американский рынок OCTG: дело - труба? (ч.2)
Грядущее в США введение ограничений на импорт OCTG вынуждает поставщиков переориентировать сбыт в другие перспективные регионы – Ближний Восток, Южную Америку и Африку, где в 2014-2015 гг. ожидается рост объемов бурения и спрос на импортную продукцию.
Китай – ключевой производитель и экспортер
Китай, как известно, является ведущим в мире производителем трубной продукции, и, в частности, бесшовных труб. Страна производит порядка 7,5 млн. т в год бесшовных труб, в то время как внутреннее потребление составляет менее 3 млн. т. При этом текущие мощности по производству бесшовных труб составляют 32 млн. т, что составляет более половины мировых.
С 2005 г. Китай является нетто-экспортером бесшовных труб нефтяного сортамента и нетто-импортером труб нефтяного сортамента по стандарту API. С 2005 по 2008 год 40% всех бесшовных труб нефтяного сортамента, произведенных в КНР, было экспортировано. Экспорт сократился в 2008 г., после введения в США и ряде других стран антидемпинговых мер к импорту китайских труб нефтяного сортамента, а также вследствие и глобального финансового кризиса.
По информации MBR, из-за этих факторов китайское производство бесшовных OCTG в 2009 г. упало на 23%, однако почти восстановилось к 2011 г., составив 5,2 млн. т (см. табл.8). В 2012 г. объем выпуска этих труб вырос до 5,75 млн. т. В 2013 г. ожидается некоторый спад производства из-за проблем на экспортных рынках, но к 2014 г. рост возобновится.
По оценкам китайских источников, уже в 2010 г. избыточные мощности OCTG промышленности КНР составляли около 5 млн. т в год. Однако, несмотря на это, в стране продолжается дальнейшее расширение производственных мощностей, что провоцирует ужесточение конкуренции как на внутреннем рынке труб нефтяного сортамента, так и на экспортных рынках. В настоящее время загрузка OCTG мощностей в Китае упала до 45-50%. К слову, по итогам 2012 г. самый высокий уровень использования мощностей по выпуску OCTG отмечен в NAFTA, Южной Америке и СНГ (порядка 70%), в Азии (исключая Китай) – 60%, на Ближнем Востоке – около 52%, в ЕС – 45%.
Наблюдаемый в стране рост внутреннего потребления OCTG (от 4 до 7% в последние годы) не может полностью компенсировать проблемы на экспортных рынках (см. ). По данным MBR, потребление бесшовных труб нефтяного сортамента в КНР в 2010 г. составило 3,4 млн. т, 3,6 млн. т в 2011 г. и 3,9 млн. т в 2012 г.
MBR прогнозирует, что китайское потребление бесшовных OCTG увеличится на 3% в 2013 г. и на 6% в 2014 г.
Китайский экспорт бесшовных OCTG, млн. т:
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
1,5 |
1,65 |
1,75 |
1,4 |
1,35 |
Источник: MBR
В то же время, с 2009 г. китайский экспорт активно диверсифицируется. Если до этого момента половина бесшовных OCTG из КНР отправлялась в США, то сейчас туда идет всего 8% китайского экспорта. Новыми важными рынками сбыта стали Ближний Восток и Северная Африка (Иран, Ирак, Алжир), Южная Америка (Колумбия и Венесуэла), а также Россия и Индонезия.
Кроме того, по информации SBB, некоторые китайские производители бесшовных труб нефтяного сортамента строят заводы в других странах, чтобы избежать антидемпинговых пошлин, введенных в Северной Америке и ЕС.
Тенденции мирового рынка – куда пойдет экспорт?
Крупнейшими регионами нетто-импортерами продукции OCTG, помимо NAFTA (2,5 млн. т), являются Ближний Восток (800 тыс. т) и Африка (500 тыс. т). Ключевые экспортеры – Китай (более 2 млн. т), остальная Азия (1,5 млн. т), ЕС (700 тыс. т), СНГ (80 тыс. т) и Южная Америка (50 тыс. т).
Помимо Северной Америки, наиболее важными рынками OCTG (см. табл.10 и 11) являются Ближний Восток, Южная Америка, в Азии – Китай и Индия, в СНГ – Россия и страны Средней Азии. На Ближнем Востоке, в России, Средней Азии и Южной Америке развивается«традиционная» добыча углеводородов (не в сланцевых пластах), Китай и Индия являются растущими рынками добычи и потребления нефти и газа, стимулируя строительство новых трубопроводов для поставки сырья.
Согласно подготовленному MBR пятилетнему прогнозу, за 2013-2020 гг. среднегодовой темп роста мировой индустрии нефтяного сортамента составит 4,5%, а объем рынка удвоится.
По оценкам компании, к концу 2012 г. общая рыночная стоимость продукции OCTG составила около $ 33 млрд. В целом, из-за слабости мировой экономики глобальный спрос на углеводороды и объемы бурения в настоящее время демонстрируют слабую динамику. Общемировое потребление OCTG в минувшем году осталось на уровне предыдущего – 17 млн. т. В США росту рынка помешало падение цен на газ в связи со «сланцевой революцией». В Европе – кризис суверенного долга, в КНР – замедление роста экономики, на Ближнем Востоке – нестабильная политическая ситуация. В России – снижение инвестактивности на фоне задержки в реализации ряда нефтегазовых и трубопроводных проектов. В итоге, в 2012 г. потребление OCTG в СНГ, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке показало отрицательную динамику, в регионах NAFTA, ЕС и остальная Азия – минимальный рост, а в КНР – нулевой.
Потребление OCTG по регионам, % от общемирового:
|
NAFTA |
42% |
|
Китай |
23% |
|
Ост. Азия |
5% |
|
СНГ |
11% |
|
Ближний Восток |
7% |
|
Латинская Америка |
7% |
|
Африка |
3% |
|
ЕС |
2% |
Источник: MBR
Несмотря на замедление темпов роста спроса на OCTG, NAFTA в ближайшие годы останется крупнейшим регионом потребления с доминирующей долей рынка.
Другими перспективными направлениями для сбыта этой продукции остаются Ближний Восток, Азия (прежде всего, Китай, Индия, и Индонезия), Южная Америка, а также Африка. В связи с антидемпинговым давлением на импортную продукцию в ЕС и США именно на эти регионы будут переносить свою активность экспортеры.
Региональные объемы потребления OCTG по видам (2011 г.), тыс. т:
|
|
Бесшовные |
?Всего |
|
|
Северная Америка |
2 841 |
2 676 |
5 517 |
|
Китай |
393 |
5 000 |
5393 |
|
СНГ |
258 |
1 455 |
1713 |
|
Южная Америка |
281 |
840 |
1121 |
|
Ближний Восток |
133 |
977 |
1110 |
|
Африка |
77 |
900 |
977 |
|
Ост. Азия + Австралия |
72 |
687 |
759 |
|
Европа |
60 |
380 |
440 |
|
Всего |
4 100 |
12 900 |
17 000 |
Источник: Hatch Beddows
На Ближний Восток приходится 32% мировой добычи нефти и 16% мировой добычи газа. Ближневосточный рынок OCTG после пика потребления в 2008 г. (свыше 1 млн. т) упал до 570 тыс. т в 2009 г., однако к 2011 г. вернулся на докризисный уровень – 1,1 млн. т.
В течение следующих нескольких лет среднесуточная добыча нефти и газа на Ближнем Востоке
регионе будет расти в среднем на 2% и 5,3%, соответственно, обеспечивая устойчивый рынок сбыта для трубной продукции. При этом регион остается ярко выраженным нетто-импортером. В 2011 г., по данным ISSB, на Ближнем Востоке было потреблено около 1,1 млн. т труб нефтяного сортамента труб. Местные производители потенциально способны покрыть не более 20% потребности рынка.
Спрос на трубы нефтяного сортамента, как ожидается, возобновит рост в 2014- 2015 гг. в связи с надеждами на возобновление глобального экономического роста и потребности в углеводородах.
Хорошая динамика потребления данной продукции ожидается в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке, Иране, Кувейте, Алжире, Йемене.
Количество скважин по регионам мира в 2013 г.:
|
|
Август |
|
|
Северная Америка |
2057 |
1944 |
|
Южная Америка |
418 |
423 |
|
Ближний Восток |
379 |
389 |
|
Азия |
241 |
250 |
|
Европа |
139 |
138 |
|
Африка |
128 |
133 |
Источник: Baker Hudges
Все более перспективным становится рынок Африки. Сегодня на Африку приходится всего 5% глобальных объемов бурения – см. табл.12 (США – 33%, Россия – 13%, Южная Америка – 11%, Канада – 10%, Ближний Восток – 9%, Каспийский регион – 8%, Азия – 7%), однако значительные запасы (80 млрд. баррелей нефти, около 7% мировых запасов) определяют рост инвестиций в этот сектор и повышение спроса на OCTG.
Сегодня наблюдается рост добычи углеводородов в Нигерии, Судане, Анголе и Габоне. После стабилизации политической обстановким неизбежен рост добыи и потребления труб в странах Северной Африки – Алжире, Ливии, Тунисе и Египте.
Латинская Америка, в которой крупнейшими продуцентами нефти и потребителями труб выступают Венесуэла, Бразилия, Колумбия, Аргентина и Эквадор, является наиболее непредсказуемым регионом в сфере нефтедобычи – сильное колебание уровня добычи зависит не только от экономической конъюнктуры, но и от политических событий. В частности, принятые в Венесуэле, Аргентине и Боливии решения о национализация ряда крупных частных добывающих компаний привели к оттоку иностранных инвестиций в этот сектор.
В Европе в обозримом будущем рост потребления OCTG возможен в Норвегии, которая расширяет операции в Северном море, в России, где ожидается расконсервация ряда перспективных добывающих проектов, в Середней Азии, в Польше, которая первой из стран Европы серьезно инвестирует в добычу сланцевого газа, а также в Румынии, Турции и Украине, которые планируют увеличить разведку и бурение на шельфе Черного моря.
Резюме
Потребление OCTG в ближнесрочной и долгосрочной перспективе останется сильным, учитывая как устойчивый мировой спрос на нефть и природный газ, так и активное развитие сланцевого бурения.
Развитие новых технологий добычи углеводородов в сланцах требует более широкого использования горизонтального и наклонно-направленного бурения.
Быстро растет спрос на бесшовные OCTG с повышенными характеристиками, а также труб с премиальными резьбовыми соединениями, использование которых оправдано в в регионах сложного бурения – при больших глубинах залегания, на шельфовых и арктических месторождениях.
Импорт OCTG в США из всех стран, всего, 20 крупнейших поставщиков, тыс. т:
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
11 мес. |
|
|
1,696,379 |
3,540,908 |
1,411,725 |
2,128,415 |
2,608,372 |
3,257,890 |
2,775,820 |
|
|
190,892 |
326,979 |
122,584 |
498,132 |
615,576 |
789,839 |
839,009 |
|
|
139,378 |
207,379 |
78,205 |
376,129 |
372,045 |
371,928 |
261,068 |
|
|
23,985 |
93,778 |
77,138 |
145,743 |
135,594 |
210,856 |
142,045 |
|
|
. |
. |
5.48 |
131.4 |
51,434 |
199,766 |
123,490 |
|
|
130,698 |
152,811 |
76,764 |
135,852 |
191,097 |
192,641 |
152,229 |
|
|
85,445 |
158,520 |
66,486 |
112,696 |
106,490 |
163,322 |
125,436 |
|
|
21,830 |
82,893 |
21,638 |
95,550 |
130,514 |
148,927 |
137,313 |
|
|
9,586 |
57,210 |
44,953 |
135,834 |
179,449 |
139,275 |
124,883 |
|
|
8,399 |
8,517 |
9,251 |
77,312 |
127,737 |
138,294 |
105,290 |
|
|
5,068 |
63,824 |
29,333 |
74,296 |
108,335 |
127,627 |
222,514 |
|
|
15,786 |
10,658 |
3,245 |
51,341 |
87,455 |
96,684 |
101,838 |
|
|
13,229 |
43,152 |
2,011 |
29,465 |
65,844 |
91,153 |
58,794 |
|
|
26,047 |
56,944 |
42,683 |
70,944 |
50,069 |
83,151 |
32,418 |
|
|
. |
. |
. |
. |
21,711 |
63,899 |
65,848 |
|
|
300.0 |
. |
. |
11,302 |
61,674 |
58,994 |
48,589 |
|
|
3,917 |
11,081 |
12,727 |
51,142 |
35,635 |
52,210 |
48,252 |
|
|
70,654 |
84,825 |
13,143 |
35,692 |
49,854 |
43,193 |
7,075 |
|
|
66,205 |
36,502 |
36,500 |
34,279 |
27,248 |
40,830 |
29,179 |
|
|
9,447 |
41,081 |
22,319 |
29,440 |
32,529 |
37,186 |
31,543 |
|
|
5,305 |
16,694 |
6,158 |
35,795 |
37,424 |
32,005 |
33,235 |
US Department of Commerce, Enforcement and Compliance
Игорь Жигир
Данный материал вышел в №1 издания Металлоснабжение и сбыт за январь 2014 г., публикуется с разрешения редакции
Правительство Швеции приняло решение об учреждении Комиссии по среднему образованию.
Комиссия, состоящая из иностранных специалистов, будет заниматься анализом и проверкой качества шведской школы, и работать самостоятельно и независимо под руководством ОЭСР
Работа займет минимум один год, сообщил на пресс-конференции во вторник министр просвещения Швеции Ян Бьёрклунд, объявив также о том, что правительство учреждает новый научно-образовательный совет и научно-исследовательский институт по проблемам средней школы, сообщило шведское информационное агентство ТТ.
Транзит сжиженных углеводородных газов (СУГ) по территории Украины в 2013 году вырос на 25,8% до 3,92 млн тонн по сравнению с объемом 2012 года. Об этом сообщает OilNews со ссылкой на "Консалтинговую группу А-95".
Транзитные поставки сжиженного газа в адрес украинских портов в 2013 году выросли на 38,1% до 2,33 млн тонн, в адрес сухопутных погранпереходов - на 25,8% до 3,91 млн тонн.
В 2013 году увеличение объемов перевалки газа зафиксировано во всех украинских портах (Одесса, Ильичевск, Керчь и Рени), однако наибольший прирост объемов произошел в Керчи (+81% к 2012 году).
Аналитики отмечают, что порты Одессы и Ильичевска, контролируемые группой "Приват", в 2013 году нарастили перевалку на 18% до 840 и 413,8 тыс. тонн соответственно. Напомним, в 2012 году порты продемонстрировали снижение объемов перевалки на около 80 тыс. тонн.
Среди сухопутных погранпереходов значительный прирост показали лишь Изов (основной пункт перевалки газа в Польшу) и Дьяково (перевалка на Румынию). Отправки в адрес таких переходов, как Батево, Могилев-Подольский и Ягодин в 2013 году снизились.
Из всего объема транзита СУГ почти 70% приходятся на российских поставщиков. В 2013 году поставки из России составили 2,71 млн тонн, увеличившись на 34%. Казахстанские компании в 2013 году нарастили поставки через Украину на 9% до 1,13 млн тонн. Более 50% российского и казахского газа в 2013 году были адресованы турецким получателям. Наибольшую динамику транзитных объемов продемонстрировали белорусские поставщики, отправившие через Украину в 2013 году 72 тыс. тонн газа, что на 66% больше, чем в 2012 году.
Трейдеры связывают рост морской перевалки с оживлением спроса в Турции и странах Африки, а также более выгодной экономикой поставки в Черноморский регион в 2013 году.
Между тем, по словам директора компании Incomp Trading Владислава Колодяжного, в 2014 году есть вероятность снижения транзитных поставок через украинские порты. "Терминал в порту Темрюк в конце года, после проведения дноуглубительных работ показал значительную динамику роста перевалки СУГ. Терминал в порту Тамань озвучил планы по привлечению сторонних поставщиков к перевалке газа на своих мощностях. В случае реализации этих планов возможно перераспределение части объемов, проходящих транзитом через Украину, в пользу вышеназванных терминалов, поскольку логистика доставки в этом направлении с заводов Казахстана и РФ значительно лучше", - отметил трейдер.
Как отмечает OilNews, в Украине перевалка СУГ осуществляется в портах Одесса, Ильичевск, Керчь и Рени. При этом в Керчи работает четыре комплекса: "ТЭС-Терминал", "Ювас-Транс", "Гермес Ойл" и "АЕГаз-Терминал". Сухопутная перевалка в Украине осуществляется в Мукачевском районе ("Петрокарбохем-Мукачево" и "Надежда"), а также в Чопе ("Терминал Карпаты").

Открытие Польского Центра визового обслуживания состоится в Луганске 17 января, - сообщает пресс-служба Генерального консульства Польши в Харькове.17 января в 13:00 в Луганске в ТЦ "Кристалл" (5 этаж, зал "Премиум") состоится официальное открытие польского центра визового обслуживания. Это означает, что теперь в Луганске можно будет получить не только визу в Польшу, но и шенгенскую визу.
Во время презентации будет объявлена информация о деятельности в сфере визового обслуживания, которую провело Генеральное консульство Республики Польша в Харькове, а также другие польские дипломатические представительства в Украине.
Запланировано также участие чрезвычайного и полномочного посла Республики Польша в Украине Генрика Литвина.
Следствие по делу о беспорядках у посольства России в Польше готовит материалы к передаче в суд, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь варшавской окружной прокуратуры Пшемыслав Новак.
В День независимости Польши 11 ноября 2013 года польские праворадикалы и националисты провели в Варшаве многотысячное шествие. Когда демонстрация проходила мимо российского посольства, в сторону здания полетели камни и файеры, кто-то поджог полицейскую будку, группа хулиганов пыталась сломать ворота.
Полиция арестовала в этой связи несколько человек, но лишь один стал подозреваемым — Камиль З., который был арестован судом на два месяца. В начале января он вышел на свободу, но остается подозреваемым.
"Прокурор решил не ходатайствовать о продлении меры пресечения в отношении подозреваемого, потому что не осталось предпосылок для ареста — следователи собрали материалы, опросили свидетелей. В январе Камиль З. вышел на свободу, что не означает снятия с него подозрений", — заявил представитель прокуратуры, затруднившись назвать срок передачи дела в суд.
Российское посольство оценило ущерб в 11 тысяч долларов и потребовало компенсации. Польские власти пообещали заплатить в начале 2014 года. Евгений Безека.

Гернот Эрлер: ЕС серьезно просчитался с Украиной
Резюме Предлагаем Вашему вниманию интервью нового уполномоченного, которое он дал IP Journal еще до официального вступления в свою должность.
9 января новым уполномоченным Министерства иностранных дел Германии по вопросам германо-российских отношений стал 59- летний социал — демократ Гернот Эрлер . Он сменил на этом посту Андреаса Шоккенхоффа, который был известен как сторонник более жесткой позиции в отношении России. Эрлер (который занял свое кресло не без боя — предшественник не хотел покидать свой пост и всячески противился новому назначению) считается сторонником сближения Германии с Россией и является откровенным критиком восточной политики времен Вестервелле. Пост уполномоченного по германо-российских отношений является чрезвычайно весомым в иерархии внешнеполитического ведомства ФРГ и во многом определяющим при выработке восточной политики Германии в целом. Безусловно, фигура нового уполномоченного иметь серьезное влияние и на ситуацию в Украине.
Предлагаем Вашему вниманию интервью нового уполномоченного, которое он дал IP Journal еще до официального вступления в свою должность. Эрлер по-сути не скрывает, что Германия и Россия нашли консенсус относительно Украины и Берлин ничего не будет предпринимать для защиты Евромайдана. В общем, почитайте.
Борьба за международную ориентацию Украины — перетягивание каната между Россией и ЕС — привело к массовым демонстрациям в Киеве. Мы спросили у социал — демократа и эксперта по проблемам России Гернота Эрлера о том , что у Европы пошло не так с Украиной. Он предупреждает , что немецкие и европейские политики делают ошибку , четко становясь на сторону украинской оппозиции.
IP: Господин Эрлер . Президент Германии Йоахим Гаук только объявил, что он не будет присутствовать на Олимпийских зимних играх в России. Вы хорошо известны в качестве эксперта и друга России …
Гернот Эрлер … это звучит почти как обвинение .
IP: Нет, это не было обвинения. Но мы хотели бы попросить вас объяснить нам ситуацию вокруг России. Германия и Европа выбрали правильную тактику?
Эрлер: Важность России намного больше, чем это иногда понимает общественность как в Германии, так и на уровне ЕС. В течение многих лет сменяя друг друга, немецкие правительства проводили по сути одну политику в отношении России. Экономическое сотрудничество является первым из трех факторов. Каждое правительство Германии, вместе с бизнес-сообществом, всегда были заинтересованы в укреплении экономических связей. Второй фактор основан на нашей потребности в сотрудничестве с Россией по некоторым международным обязательствам. Существует проблема транзитных прав для немецких солдат, например. Бундесвер планирует вернуть большую часть его оборудования из Афганистана наземным путем. В последнее время Россия также играет очень конструктивную роль в решении международных конфликтов.
IP: Пожалуйста, объясните.
Эрлер: Россия сделала конструктивное предложение по Сирии. Это многое дало, чтобы сделать возможным мирную конференцию по проблемам Сирии в Женеве в январе. Без России Сирия бы не отказалась от своего химического оружия. Россия сыграла также важную роль в вопросе с Ираном. Остается актуальным , что мы сможем решать такие проблемы, как изменение климата, энергетическая безопасность, водные ресурсы и продовольственная безопасность, если сотрудничать с такими странами как Россия или Китай. Это уже третий столб сотрудничества. Вот почему Германия и ЕС имеют стратегическое партнерство с Россией.
IP: Но внутренняя политика России вызывает все больше нареканий ?
Эрлер: Здесь есть многое, что можно критиковать. Есть ограничения гражданских прав, дискриминация меньшинств и попытка уголовного преследования части оппозиции. Это не добавляет чести России в глазах общественности. Мы по-прежнему надеемся на конструктивный диалог с российским правительством по этим вопросам. Но все это на самом деле не отменяет те моменты , которые я перечислил. Вот почему основные направления немецкой и европейской политики остаются неизменными.
IP: Какую роль играет конфликт вокруг Украины?
Эрлер: Ситуация в Украине зашла в тупик. Очень возможно, что ЕС не понимает проблему.
IP: Не могли бы вы объяснить?
Эрлер: Все началось с программы Восточного партнерства в 2009 году, которая была инициирована Польшей при активной поддержке Швеции. Варшава хочет склонить ЕС к предоставлению в перспективе членства Украины. С польской точки зрения это было очень понятно. Но другие страны ЕС не разделяют это мнение. Они отвергли вопрос предоставления Украине перспектив вступления в ЕС.
IP: Вместо этого, Киев получил предложение Соглашения об ассоциации?
Не забывайте об общих намерениях политики соседства ЕС: ЕС хотел бы развивать трансграничное сотрудничество на основе своего собственного исторического опыта. Восточное партнерство должно было улучшить региональное сотрудничество, продемонстрировать достижения прогресса в опасных замороженных конфликтах в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии и Нагорном Карабахе. Но это не сработало. Ни один из этих конфликтов не было решен . Вместо этого, интенсивная работа сосредоточилась на договоренностях об ассоциации. ЕС предложил Украине очень долгосрочную соглашение свободной торговле чтобы компенсировать непредоставлении ей перспективы присоединения. Это соглашение было разработано как своего рода подсластитель. Но для России это стало сигналом тревоги.
IP: Как Москва отреагировала?
Эрлер: В 2011 году Путин предложил создать Евразийский союз, своего рода таможенный союз стран Востока. Но это создает новые проблемы. В основном по техническим причинам , присоединение Украины к Евразийскому союзу было бы невозможным, если бы она подписала широкомасштабное соглашение о свободной торговле с ЕС. Одной из причин является то, что Казахстан и Беларусь не являются членами ВТО. Однако, ЕС никогда не ставил вопрос о том, что Евразийский союз и соглашение об ассоциации с ЕС были взаимоисключающими.
IP: К саммиту в Вильнюсе.
Эрлер: Да. Накануне этого саммита Путин закрутил гайки. Цены были одним из примеров . Украинский шоколад, который экспортировался в Россию в течение многих десятилетий, вдруг превратился в некачественную продукцию. В то же время, однако, Международный валютный фонд также вмешался в эту ситуацию. Он неожиданно ввел новые условия для Украины относительно дальнейших кредитов. В свою очередь, ЕС начал также играть на проблемах соглашения между МВФ и Украиной. Это означало, что Украина вдруг загорелась с обеих сторон — с востока и Запада.
IP: Наконец , президент Янукович отказался от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.
Эрлер: Это правда. Но Украина не собирается вступать в Евразийский союз немедленно. Это означало бы хлопнуть дверью ЕС. Вместо этого Янукович продолжает играть в качели. И мы должны использовать эту ситуацию неопределенности для поиска какого-то серединного пути. Есть ли способы предоставления Украине значительных торговых преимуществ, которые не противоречат интересам России? Это технический процесс , который требует уточнения .
IP: Но реальной проблемой является независимость Украины от России. Это не технический вопрос.
Эрлер: Конечно не совсем. Одной из основных проблем является российский взгляд. Россия видит сближение Украины с ЕС как своего рода нарушение границ. Вы не можете просто игнорировать многовековые отношения между Россией и Украиной. То есть то, что не может быть исправлено с помощью технического процесса. Но первое, что мы должны выйти из нынешней ситуации холодной войны. Мы должны предпринять шаги к разрядке, шаги, которые создают для нас проблему взаимного напряжения. Люди в Киеве считают, что демонстрации могут заставить правительство наконец подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. Но если это произойдет, Россия осуществит значительные шаги . Как выходить из этой ситуации? Без увеличения давления. Не говоря каждый день, что дверь открыта. Очевидно, что дверь открыта. Лучше бы говорить о том, как сделать Евразийский таможенный союз и соглашение о свободной торговле ЕС совместимыми.
IP: Должна ли Россия быть включена в эти переговоры?
Эрлер: Это то, чего Россия потребовала. ЕС вел переговоры с Украиной на протяжении многих лет, и обе стороны были почти готовы подписать соглашение. И тогда Россия пришла и сказала: давайте вести трехсторонние переговоры. Непосредственно в этой ситуации ЕС не мог согласиться на эти требования. В долгосрочной перспективе, однако, придется включить российскую сторону в процессе посредничества .
IP: Сейчас посредничество выглядит не очень вероятным. Германия и ЕС очень четко стали на сторону украинской оппозиции.
Эрлер: Я думаю, что было неправильным то, что господин Вестервелле посетил демонстрации. Если вы посещаете страну, это нормально, чтобы встретиться с представителями оппозиции, а также с людьми из правительства. Но чтобы выйти на улицу и присоединиться к демонстрации — это нонсенс. Не говоря уже о том , что «Свобода» , одна из составляющих украинской оппозиции, явно националистическая и крайне правая организация. Если господин Кличко работает с ними, это его дело. Господин Вестервелле должен смотреть более внимательно.
IP: Топ дипломат ЕС Кэтрин Эштон также посетила демонстрации.
Эрлер: Существует одна вещь, которой я не понимаю: как можно предлагать себя в качестве посредника, который, очевидно, занимает одну сторону? Это не вызывает доверия. В Украине ЕС сделал слишком много просчетов. ЕС также думал, что может выставить в качестве предварительного условия для подписания Соглашения об ассоциации освобождение Юлии Тимошенко. Но из-за наличия давления со стороны России, среди других факторов, Украина не намерена подписывать соглашение любой ценой, так что не было никакого способа выдвижения условий.
IP: Тимошенко останется в тюрьме?
Эрлер: Это то, что я предполагаю , по крайней мере, пока нынешнее правительство находится у власти.
IP: Как вы считаете , несмотря на огромные ожидания, что украинцы имеют относительно Европы: будет ли ЕС желание говорить в дальнейшем о вступлении Украины в Евросоюз ?
Эрлер: Это то, что он (ЕС — прим. Хвилі) будет делать. Прямо сейчас в Европе нет абсолютно никаких оснований для новых обещаний другим странам. Было бы нереалистично ожидать другого. И это бы спровоцировало российскую сторону еще больше, если ЕС не просто предложит Украине ассоциацию и свободную торговлю, но и вступление в ЕС. Политический класс в России будет рассматривать это как абсолютную провокацию и сделает все, чтобы остановить эту провокацию.
Перевод Костя Бондаренко.
Польша 2014: ситуация на рынке
Ситуация на рынке Польши интересует не только граждан государства, но и жителей многих стран Европы, которые уже успели по достоинству оценить качество продукции польских производителей.
Согласно мнениям экспертов, за многие товары полякам и зарубежным покупателям придется заплатить больше, но есть и тенденции к понижению. В частности, вырастет стоимость табачной и алкогольной продукции. Также в первом квартале нынешнего года повысится цена на молочные продукты. Эта тенденция просматривалась уже в прошлом году: некоторые страны ЕС ограничили объемы производства молока и сыра, а купить купить продукты питания из европы хотят все больше стран мира. Более того, с улучшением экономического положения в Польше товаров будет экспортироваться еще больше, поэтому масло и сыр могут подорожать еще на 2-3%.
Хорошие новости заключаются в том, что цена на сахар и некоторые кондитерские изделия на полках магазинов станет существенно ниже. Кроме того, при благоприятных условиях подешеветь должен один из основных продуктов питания – хлеб.
Банковские карты поляков не работают уже несколько недель
Представители банка попытались уладить конфликт и объяснили, что подобные неудобства возникли из-за неполадок с чипами.
Хотя бьанк утверждает, что они делали смс-рассылку с информацией о том, что платежные терминалы могут не принимать их кредитные карты, но как выяснилось, подобной информативное сообщение пришло не всем.
Неудобство такой ситуации особенно остро ощущалось во время рождественских праздников и распродаж. Банк пытается разрешить эту проблему как можно скорее, а пока собственникам карт придется снимать деньги со счета в отделениях банка.
Польские бренды вытесняют иностранные
За прошлый год были закрыты несколько сетей магазинов из-за того, что их прибыли резко сократились.
Кроме производства одежды, польские промышленники вовсю занялись выпуском органически продуктов питания. Правительство даже выделяло определенную небольшую сумму денег для начинающих свой бизнес в данной отрасли.
Для польских потребителей в этой ситуации появился еще один плюс: отечественные производители стали больше конкурировать друг с другом, исследуя потребности потребителей и повысить качество своих товаров.
FINAL FRONTIER
ELISABETH BRAW
The border that set off WWII is crumbling as Poles and Germans forget the past
"This is a country area, so after a hard day it's nice to drive in to Stettin and go to a caf," said Detlef Horn, reflecting on how some rural Germans now choose to spend their evenings by going to Poland to relax.
Horn and his fellow inhabitants of German towns with Polish names like Löcknitz, Penkun and Zerrenthin are quietly changing world history. They live close to Germany's border with Poland and cross over as part of their daily lives: to go shopping, to go to the movies, to eat out, to visit the doctor or dentist.
This isn't just any national boundary. The German-Polish border is one of history's most contested and fought-over. Adolf Hitler set off World War II in 1939 when he invaded Poland with the goal of creating Lebensraum, more space, for Germans to live in.
Eighty years earlier, Otto von Bismarck, the Prussian chancellor who unified a number of small states into what we now call Germany, wrote to his sister: "I have every sympathy for the Poles, but if we want to continue to exist, we can't do anything else than eliminating them."
Making matters worse, Poland's bullying neighbor Russia has a long history of cannibalizing Poland from the east. With both Germany (Prussia) and Russia having treated Poland as an easy pawn to be taken for so long, Poles could be forgiven for feeling acute unease over the geographical location of their beloved country.
And now Germans are once again enjoying the pleasures of Stettin, the bustling city renamed by the Poles as Szczecin, which Germany lost to Poland in the settlement after World War II. But this time the German invasion is different.
There are no alarm bells going off in Szczecin today. On the contrary, the city is warmly embracing its German visitors, which is helping this northern trading post regain some of its old prominence.
"Today Germany is not our enemy or competition," Lech Walesa, the Polish dissident, trade union leader and Nobel Peace Prize laureate who was perhaps more than any individual responsible for the collapse of the Soviet Union and the liberation of Poland from communism, told Newsweek . "Instead, today we belong to the same common European family."
And many Poles are automatically looking west, to the German capital, rather than their own, Warsaw. "Here in Szczecin, a lot of people regularly go to Berlin," said Dariusz Chojecki, a professor of history at the University of Szczecin. "Some of them have never been to Warsaw."
Ordinary Polish citizens are joining their German counterparts in their history-altering border habits by packing up and moving west across the fateful Oder-Neisse line - the two-river line drawn by the Yalta Conference that gave vast tracts of German territory inhabited by Germans to Poland - as they are entitled to do under the European Union's rules guaranteeing the free movement of labor.
This radical population shift suggests a time when national historic borders become anachronistic and wither away.
"Obviously, this [Polish-German] border actually exists and will exist," said Walesa. "We have, however, to bear in mind that in the era of ever-growing technological development, we can no longer be confined to administrative state borders.
"Hence the necessary enlargement of the structures of economic, defense and other cooperation is a must in today's world. Under such circumstances, the lifting of barriers and divisions is certainly a positive process that can benefit us all."
"Today is completely different from 10 years ago," said Horn, a real estate agent, who is married to a Polish woman. "Two years ago [after Poland joined the Schengen area], the number of Polish buyers really started increasing. Very wealthy Poles still build themselves a nice house in Poland, but we're getting the affluent bourgeoisie. It's really a cost issue. You can buy houses cheaper in Germany."
In 2013, Horn sold 55 homes, 15 of them to Polish families. With properties ranging from around $48,000 to $206,000, and with the local, state and German federal government providing first-class services, moving to Germany is an attractive, affordable proposition.
"I bought a house here for the same amount that a two-room apartment in Szczecin would cost me," said Anita Olejnik, a political scientist now living in the town of Penkun who commutes across the border to her university job in Szczecin. The state of Mecklenburg-Vorpommern, formerly part of communist the German Democratic Republic, located along the northern part of the German-Polish border, is making the move even more attractive to Poles by simplifying the paperwork.
That's because it needs more residents. Lebensraum in reverse, you might call it. In the first decade after Germany's reunification in 1990, a quarter of Mecklenburg-Vorpommern's residents left the state, mostly for the more prosperous western part of Germany - the old capitalist, genuinely democratic West Germany.
"The Germans were worrying what to do, because doctors and other professionals were moving away," explained Agnieszka Lada, head of the European Program at the Institute of Public Affairs in Warsaw, who is conducting a research project on the new cross-border movements.
"On the Polish side there are jobs, but it's not a very nice area to live, so Poles are deciding to move. Germany is a green and pleasant place. People are environmentally conscious. There's a good life to be had here. But it's not something poor people can do. Germany is still expensive if you're unemployed or have a low-paid job."
Indeed, the new German-resident Poles often keep their jobs in Poland, commuting across the border. "Of course some Poles move here to take advantage of Germany's welfare system, but most of us want to make a difference in the community," said Olejnik. "Here in Penkun there are now lots of academics like me and others are have started small businesses."
An example of a Polish firm that has filled the gaps left by west-migrating Germans is Fleischmannschaft, an operator of a plant in Löcknitz that prepares spices for meat wholesalers.
Then there is Train Electric, a Polish-owned manufacturer of train parts, that employs 10 Germans and Poles in Löcknitz. It is putting down deep roots in the community and sponsors the local soccer team.
Germans, for their part, cross the border to take advantage of Poland's noticeably lower prices and the wider selection of stores and entertainment to be found in Szczecin, a city almost eight times larger and far closer to them than the nearest big German city.
The German-Polish border is, in fact, fast disappearing, not as the result of political decisions but thanks to ordinary citizens voting with their feet and the operation of the free market in goods and labor provided by the European Union. Löcknitz, which lost a fifth of its 3,500 residents between 1993 and 2004, has reversed its population decline. Today 300 of the 3,000 residents in this town 16 miles from Szczecin are Poles.
Across Mecklenburg-Vorpommern, it's much the same picture. This austere region, which lacks major industries except for shipping (it's on the Baltic) and renewable energy, still has one of Germany's lowest proportions of immigrants, 2.5 percent. That figure is, however, a 0.2 percentage point increase over 2003.
In 2012, 10,000 foreigners moved here, a 20 percent increase over 2011, and Poles made up the largest group. In some areas, 76 percent of the foreign-born residents are now Poles.
"Our Polish residents enrich our community," noted Ulrike Bohl, a pastor in the town of Zerrenthin. "And thanks to them, we don't have as many empty properties. There have even been a few weddings between German and Poles, which is a really nice thing."
Today Germany is the second-most popular destination for emigrating Poles - after the U.K. According to Poland's statistical agency, at the end of 2010, 455,000 Poles lived in Germany, compared with 560,000 in the U.K.
If all of this seems inevitable, think again. Just 24 years ago, this very border, which locals now virtually disregard, was the touchiest issue in the two Germanies' reunification negotiations with their World War II victors - the United States, Great Britain and the Soviet Union.
Would Germany become a peaceful behemoth at the center of Europe, more interested in living happily ever after than in military expansion? Or would it forcibly try to regain its lost areas east of the Oder-Neisse line?
The American, Soviet, British and French diplomats responding to the two Germanies' reunification plea in the so-called 2+4 talks - the two Germanys and the four allies, but without Poland - had no way of knowing.
"Both the West [Germans] and the East Germans were more willing to concede things to the Soviet Union than we were, but the border was the one issue where the Germans didn't want to make concessions," recalled Michael Young, then a Deputy Undersecretary of State, who served on the American negotiating team. "They wanted to return to the pre-World War II borders."
West Germany had, in fact, never officially accepted the Oder-Neisse border, the line along the two rivers which awarded Poland large chunks of German territory inhabited for centuries by native Germans at the end of hostilities in 1945. In 1970, however, West Germany acknowledged it as the de facto border. (East Germany's position was, of course, dictated by the leaders of the Soviet Union.)
No surprise, then, that the 2+4 talks caused huge anxiety on the Polish side. Young explained that for this very reason the Polish government argued it should take part in the negotiations to make its own case.
The Americans, placing their bet on a peaceful Germany, supported unification. "I thought the Germans had come to grips with their history and didn't pose a danger to the world," recalled Philip Zelikow, another key member of the U.S. negotiating team. But the other allies were passionately opposed to the idea.
At one point during the negotiations, British Prime Minister Margaret Thatcher exclaimed, "We defeated the Germans twice! And now they're back!"
French President Franois Mitterrand, too, tried to prevent West Germany's eastward expansion by invoking specters of the past. "The Soviet Union [Poland's Warsaw Pact partner] didn't end up playing a big role on the Polish border issue, but France did," explained Zelikow. "[France] saw itself as an ally of Poland. Mitterrand himself was fond of speaking in national stereotypes, for example warning against "the return of Prussia," and referring to Munich and 1914. Those are pretty apocalyptic analogies."
Zelikow, a member of the National Security Council in George H. W. Bush's White House and now a professor of history at the University of Virginia, went on to write a paper on Germany's unification, Germany Unified and Europe Transformed: A Study in Statecraft , together with his security council colleague Condoleezza Rice.
In the end, the gradual collapse of East Germany's state apparatus even as the diplomats were negotiating the future of the two Germanys made reunification virtually inevitable, and the two parts became one on October 3, 1990, with full acceptance of the Oder-Neisse line as the single Germany's eastern border.
Even before the unification treaty was signed, residents of Mecklenburg-Vorpommern started leaving their poor eastern backwater for a better life in the west. According to Eurostat, the European Union's statistical agency, Mecklenburg-Vorpommern still has Germany's lowest gross domestic product per capita, and, according to the latest German unemployment figures, it has the country's worst jobless rate, with 11.3 percent unemployed.
History is repeating itself but with a twist. In the late 1900s, Chojecki, who studied migration across the German-Polish border, found that Germans had always left this poor region for better chances farther west. Deprived of local labor, Prussian landowners responded by importing Polish workers.
Now Mecklenburg-Vorpommern needs Poles again, preferably ones who'll hire unemployed local Germans. "This is a demographically damaged region, and Poland is our big opportunity," explained Lothar Meistring, the mayor of Löcknitz. "Thanks to the Poles, our population is growing, because it's not elderly people moving here, it's families. Now we're having to expand our schools because there are so many children."
In several German towns, between 20 and 30 percent of schoolchildren are now Polish. As one German newspaper put it: "Help! The Poles are rescuing us!"
"For the past 24 years, the border hasn't been a cause of diplomatic antagonism," said Walesa, who became the country's first democratically elected president after the end of the Cold War. "I never suspected there would be any attempts by the German government to move the Oder-Neisse border. Never in history have we enjoyed such good diplomatic and economic relations."
Farther south along the border, Frankfurt an der Oder's city buses now go to Slubice, the city's twin on the Polish side. So does public transportation in Görlitz, Germany's easternmost city. Both cities were divided by the Oder-Neisse line.
"The border region has become an in-between area, not fully German and not fully Polish," said Gabriela Christmann, a researcher specializing in the German-Polish border at the Leibniz Institute for Regional Development and Structural Planning.
"The physical border has disappeared, though it will take longer for people's mental borders to fall. The development is going toward people in this area creating a joint new identity. The Polish-German history is a very difficult one, which is why this is such an important development."
"The border region is changing very quickly, and the cross-border life is slowly becoming normality, though of course it will take longer than a similar development at, say, the German-French border," added Olejnik. In a further sign of cross-border collaboration, a German-Polish group called Pomerania gets its funding from Warsaw, Berlin and Brussels.
Not even the Americans, the most optimistic about Germany's reunification, predicted this German-Polish rapprochement. "Did we foresee it? Absolutely not," conceded Young, now president of the University of Washington. "Germans and Poles have moved across the border for centuries, but forcefully. The countries have a long history of colonizing this area, which made the issue of where the border should be so difficult."
No doubt her home state's experience with its Polish neighbors informs the policies of Mecklenburg-Vorpommern's most illustrious MP, Angela Merkel, whose hometown of Templin has lost about 3,000 of its 19,000 residents since German reunification.
But not everything is peaceful along the quietly vanishing border. Perhaps unsurprisingly, suspicion and prejudice remain on both sides. In the 2011 state elections, the far-right National Democratic Party won 6 percent of the votes in Mecklenburg-Vorpommern, their best result in the country, largely by focusing on Polish immigration. The party now has five seats in the state parliament.
"The far-right people are ruining the atmosphere," said Bohl. "And they do have a lot of supporters. Some Poles don't maintain their houses, and that's giving the far-right ammunition."
An outbreak of theft further clouds the picture. "Every day something gets stolen," lamented Bohl. "Of course we can't be sure who's behind it, but as far as we know, sometimes it's Polish gangs, sometimes Lithuanians, sometimes Ukrainians. That makes the situation worse for the Poles living here."
According to the police, between 2007 and 2009, car thefts dropped by 21.4 percent, but between 2009 and 2011 they rose again, by 8.6 percent. And the thieves don't stop at cars. They take agricultural machinery, even statues. Some Germans are suggesting police helicopters should patrol the border.
But even in theft-plagued towns, the majority see the open border as their best future. "Looking west is silly for us here," said Bohl. The west is very far away. We have to look east!"
Meistring revealed that even far-right German voters in Löcknitz visit the town's Polish doctor. For Poles, the choice is simple. "The bottom line for Poland is this: Is it better to be a subordinate partner of poor, corrupt Russia, or a more or less normal partner of rich, generous Germany?" explained Charles Crawford, a former British ambassador to Warsaw. "It's not a tricky decision."
Germany or Russia: That's what Poland's choice boils down to; and, for perhaps the first time ever, it's a real choice. Today, noted Zelikow, "Polish anxieties and animosities run deeper toward Russia than toward Germany. Both the Germans and the Russians have done terrible things to Poland, but Germany has expressed regret, whereas Russia has not.
"Looking at today's situation, I don't think Angela Merkel imagines that she's Otto von Bismarck, but I think Vladimir Putin imagines that he's a bit like Czar Alexander III [who was also king of Poland]. Today the Russians are looking toward the past; the Germans are not. "
Walesa envisions a future that goes much farther than Germans shopping in Szczecin and Poles moving to Zerrenthin. "We have to realize that we're a special generation," he explained. "Having overcome the deepest divisions and the greatest dangers, we've started constructing European integration. We're eliminating borders among countries, and in many issues we've been establishing a single state called Europe.
"I'm not at all surprised by [the integration process at the German-Polish border], since it's an element of a growing continentalization, with globalization to follow in the longer run. We're free to move around, we can freely choose from among the most convenient variants for us. This is merely a symptom of the era in which we happen to be living."
While German and Polish leaders are slowly waking up to such ideas, locals on both sides of the border are one step ahead. As Olejnik observed, "I have the feeling that politicians in Berlin and Warsaw don't realize how far we've come here. They say things like, "Wouldn't it be nice to do things together?" But we're already doing it!"
International Paper сообщила, что реализация инвестиционного проекта на польском ЦБК Kwidzyn проходит согласно намеченному плану.
Компания намерена повысить качество выпускаемых мелованных картонов и улучшить сервисное обслуживание на рынках Европы, России, Африки и на Ближнего Востока (EMEA).Срок реализации проекта - первый квартал 2014 год.
В планах модернизация картоноделательной машины, дающая возможность выпуска более легковесных сортов, а также установка двух новых флаторезок. Если инсталляция листорезательных машин уже в процессе, то модернизация КМ запланирована на март 2014 год.
«Возможность производить картоны пониженной плотности полностью отвечает новым запросам рынка. Это экономически привлекательная и экологически рациональная продукция», - говорит Майкл Крюгер, коммерческий директор International Paper.
ЦБК Kwidzyn выпускает бумагу и картоны, а также хвойную и лиственную целлюлозу.
Основные бренды: серия офисных бумаг POL; офсетные бумаги Speed-E, Speed-E Laser и PrePrint-S; мелованные картоны Arktika и Alaska.
Содружество бумажных оптовиков
В Польше откроют новый завод по производству изделий из пластмассы
Инициатором стала известная польская компания-производитель изделий из платсмассы Plastmo.
По предварительным данным, все мощности производства будут расположены в Краковском технологическом парке. Производство продукции будет выполняться с использованием нового высококачественного оборудования. Для реализации столь мощного проекта потребуется около 1.45 миллионов евро. Польское правительство пытается всячески содействовать компании, именно поэтому ей выделены льготы по выплате налогов до 2026 года. Единственным условием правительства было создание допольнительных рабочих мест для поляков в данном регионе.
Напомним, что комапния Plastmo существует на территории Польши уже более двадцати лет, а ее продукция не единожды получала положительные отзывы за качество.
Кошерный магазин снова открыт
Несколько месяцев магазин не работал, а теперь в нем снова можно приобрести готовые кошерные продукты. Такой магазин полезный не только для евреев, живущих в городе, но также для тех, которые приезжают посетить Лодзь и не желают изменять правилам кашрута.
Продукты в магазине производятся не только в Польше, но и экспортируются из Европы. Среди ассортимента магазина можно даже найти особенный алкогольный напиток, от которого и пошло название магазина. “Сливовица из Стрыкова” (именно такое название носит алкогольный напиток), содержит 72% алкоголя и изготовляется по рецептуре 18 века.
Кроме продуктов питания, гости города могут приобрести еврейские книги и сувениры, а также некоторые предметы культа.
На Рождество туристы в Польше потратили миллион злотых
За истекший период россияне потратили в польше около 1 млн. злотых. Хотя в остальных странах Еврособза эта цифра в два раза больше, однако и такое достижение является большим плюсом для польских торговцев.
По результатам исследования выяснилось, что россияне не отличались переборчивостью в покупках. Покупались не только продукты и одежда, но также крупная и мелкая бытовая техника.
Таможенники Польши всеми силаси стараются облегчить покупки для туристов. Именно поэтому для них была введена система Tax free, используя которую можно значительно уменьшить стоимость товара.
На Сахалинской ГРЭС-2 будут использованы новейшие природосберегающие технологии.
В городе Томари Сахалинской области состоялись очередные общественные слушания по вопросу строительства Сахалинской ГРЭС-2. В этот раз темой обсуждения стало размещение золошлакоотвалов, которые будут необходимы для безопасной утилизации отходов деятельности станции.
Сахалинская ГРЭС-2 будет работать на угле, а это значит, что потребуется утилизация больших объемов отходов от сгорания топлива – шлака и золы. Согласно плану, золошлакоотвалы разместятся на 3,5 км севернее станции. Доставка золы на золоотвал будет производиться грузовым автотранспортом. Для утилизации шлака проектируется гидравлическая система удаления. Такая компоновка сооружений позволит разместить объекты вдали от населенных пунктов и минимизировать ущерб для экологии. В перспективе рассматривается возможность использования золошлаковых отходов для производства строительных материалов. Горнодобывающие компании смогут использовать продукты сгорания для заполнения пустот, которые образуются в ходе извлечения полезных ископаемых. Помимо золошлакоудаления непосредственно из котлов, на станции будут также применяться электрофильтры, которые позволят улавливать до 98% частиц золы на выходе из дымовой трубы.
Представители ОАО «Институт Теплоэлектропроект» обратили внимание на тот факт, что оценка воздействия станции и внеплощадочных сооружений на окружающую среду является неотъемлемой частью проектной документации. Экологическая безопасность является одним из основных факторов, исходя из которых выбирается оборудование и ведется проектирование.
«Если использовать новые технологии, угольная генерация перестает быть «грязной», - отмечает Алексей Каплун, заместитель генерального директора РАО ЭС Востока по стратегии и инвестициям. – Достаточно посмотреть, например, на Польшу – здесь более половины электроэнергии вырабатывается как раз на угольных станциях. При этом Польша – член Евросоюза, и на нее накладываются серьезные требования организации в области экологической безопасности. Ориентируясь на ведущие мировые практики, уверен, мы сможем показать не менее высокий результат».
На данный момент ведется подготовка проектной документации по основной площадке станции для дальнейшей передачи в ФАУ «Главгосэкспертиза». Ведутся проектно-изыскательные работы по внеплощадочным сооружениям, в том числе, по золошлакоотвалам. По результатам общественных слушаний будут вынесены соответствующие рекомендации, которые будут переданы в проектный институт.
В слушаниях приняли участие представители Томаринского городского округа, проектного института ОАО «Институт Теплоэлектропроект», ОАО «РАО ЭС Востока», заказчика-застройщика ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» и ОАО «Сахалинэнерго», журналисты местных средств массовой информации, руководители и сотрудники предприятий и учреждений района, а также местные жители.
Сахалинская ГРЭС-2 - один из четырех проектов инвестиционной программы ОАО «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых совместно с ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Работы по созданию новых энергомощностей ведутся в рамках Указа Президента РФ о развитии дальневосточной энергетики. На эти цели государство в рамках докапитализации РусГидро выделило 50 млрд. рублей. Кроме 1-й очереди Сахалинской ГРЭС-2 (Сахалинская область) в программу вошли проекты по строительству 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ (Амурская область), ТЭЦ в г. Советская Гавань (Хабаровский край) и 1-й очереди Якутской ГРЭС-2 (Республика Саха - Якутия).
Сахалинская ГРЭС-2 будет построена в с. Ильинское Томаринского района Сахалинской области. Электрическая мощность первой очереди новой ГРЭС составит 120 МВт, тепловая мощность – 15 Гкал/ч. В качестве топлива для производства электроэнергии и тепла предполагается использовать угли сахалинских месторождений. Год ввода в эксплуатацию – 2016. Строительство объекта будет осуществляться с целью замещения выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС, а также увеличения общей мощности энергосистемы острова для обеспечения развития экономики. Ввод в работу Сахалинской ГРЭС-2 позволит создать запас надежности энергетической инфраструктуры для роста промышленности региона, развития производственного сектора и жилого фонда.
Кабинет министров Украины расширил на препараты инсулина пилотный проект по государственному регулированию цен на лекарства путем установления предельного уровня оптово-розничных цен на основе сравнительных (референтных) цен. Соответствующее постановление Кабинет министров №732 принял 14 августа 2013 года.
Согласно документу, референтные цены на инсулин вводятся с 1 декабря 2013 года. Действие пилотного проекта распространяется на шесть препаратов, которые зарегистрированы с общепринятым названием "Инсулин".
С 1 февраля 2014 года оборот препаратов инсулина, в частности, их закупка за средства местных бюджетов, будет осуществляться после декларации изменений оптово-розничных цен на такие препараты, которая не может превышать установленный уровень.
Расходы, связанные с отпуском препаратов инсулина, осуществляются за счет средств, предусмотренных местными бюджетами на здравоохранение по государственной программе "Сахарный диабет".
Предельный уровень оптово-отпускных цен на препараты инсулина будет формироваться на основе референтных цен на такие препараты в Молдове, Турции, РФ, Албании, Румынии, Болгарии.
В случае если препарат не представлен на рынке указанных стран, референтная цена будет формироваться с учетом цен в Венгрии, Литве, Латвии, Чехии, Словакии и Польше.
Реализация пилотного проекта по внедрению госрегулирования цен на препараты инсулина позволит снизить цены на лекарства для диабетиков на 15-20%.
Конец и новое начало
Итоги декабря и 2013 года в целом на мировом рынке стали
Мировой рынок стали закончил 2013 год на минорной ноте. Повышения котировок в последний месяц ушедшего года так и не произошло, в результате цены на стальную продукцию в конце декабря оказались на большинстве региональных рынков на $20-40 за т ниже, чем 12 месяцами ранее. В лучшем случае металлурги завершали 2013 год на тех же позициях, что и начинали его. В принципе, большинство экспертов считают, что крайняя точка спада уже пройдена, и в текущем году обстановка на мировом рынке стали начнет улучшаться. Но в ближайшие месяцы этого, скорее всего, все же не произойдет.
Проблемная стабильность
Декабрь 2013 года продолжил тенденцию стабильности, которая поддерживается на мировом рынке стали, по меньшей мере, с августа. В последние пять месяцев прошедшего года колебания цен на большинство видов стальной продукции происходили в интервале $20-30 за т. В течение декабря котировки в одних случаях остались практически без изменений по сравнению с предыдущим месяцем, в других приподнялись на $5-10 за т. Ожидавшегося некоторыми аналитиками традиционного предпраздничного подъема на этот раз не произошло. Спрос на прокат, как правило, оставался вялым, а во второй половине декабря фактически сошел на нет.
Рынок по-прежнему остается под влиянием двух основных негативных факторов – избыточного предложения и недостаточного спроса. Причем, судя по всему, они продолжат свое воздействие и в начале текущего года.
По данным World Steel Association (WSA), глобальное производство стали в первые 11 месяцев 2013 года составило около 1,448 млрд. т. Это на 3,4% больше, чем в тот же период годичной давности. При этом, объем выплавки в Китае увеличился на 8,2%, а в странах остального мира – сократился на 0,9%. И тот, и другой показатель, похоже, является избыточным.
Китайская экономика в 2013 году сохранила весьма высокие темпы роста – порядка 7,6%. Промышленное производство в стране прибавило более 9,5% по сравнению с показателями годичной давности. Однако спрос на прокат в Китае увеличивается гораздо медленнее, чем раньше. Местные компании сталкиваются с теми же проблемами, что и их западные конкуренты. Существующие производственные мощности достаточны и даже избыточны, потребности в новых инвестициях в основной капитал значительно сократились. Соответственно, производителям поступает меньше заказов на промышленное оборудование. Кстати, это способствует уменьшению спроса на сталь не только в самом Китае, но и в западных странах – например, Германии, чье машиностроение в последние годы держалось, во многом, на китайских заказах.
В первые годы после начала кризиса китайское правительство пыталось поддержать промышленность и строительство за счет стимулирования внутреннего спроса – в частности, за счет государственных инвестиций. Однако в 2013 году власти были вынуждены ограничить объемы финансирования, так как продолжение подобной политики поставило под угрозу стабильность национальной финансовой системы. В последние месяцы прошлого года китайские госбанки ужесточали режим кредитования, что привело к снижению темпов роста инвестиций в промышленность и строительство.
Фактически сейчас основную поддержку китайской металлургической промышленности оказывает внутренний потребительский рынок. В 2013 году в стране высокими темпами увеличивались продажи автомобилей и бытовой техники. Кроме того, значительный прогресс наблюдался в таких отраслях как судостроение и железнодорожное машиностроение. Однако всего этого было недостаточно, чтобы поддержать прежние темпы роста потребления стальной продукции. В 2013 году они не превышали 5-6%, а в 2014 году, как ожидается, сократятся до около 4-5%.
В то же время, в Китае продолжался ввод в строй новых металлургических мощностей. Их совокупный объем, по оценкам национальной металлургической ассоциации CISA, превысил 1 млрд. т в год. Выплавка стали в 2013 году оценивается примерно в 775 млн. т, так что средний уровень загрузки составляет менее 75%. Китайцам не помогло даже 12%-ное расширение экспорта, до 57 млн. т в январе-ноябре. Емкость мирового рынка стальной продукции ограничена, так что увеличение внешних поставок из Китая привело, прежде всего, к ценовой стагнации.
Правительство Китая уже давно заявляет о необходимости сокращения избыточных мощностей. В частности, в конце прошлого года была принята очередная программа, предусматривающая закрытие до 2017 года предприятий, выпускающих порядка 80 млн. т стали в год. Однако, как показывает опыт, из строя выводятся, в основном, небольшие устаревшие заводы, которые так или иначе были бы обречены на скорую ликвидацию. Между тем, основной рост производства приходится на достаточно эффективные современные предприятия. По прогнозам CISA, в 2014 году в национальной металлургической отрасли прибавится еще более 30 млн. т новых мощностей, а выплавка стали возрастет до около 810 млн. т. Вследствие этого избыток предложения проката сохранится, а цены на него останутся на относительно низком уровне на неопределенно долгий срок. Как считают специалисты китайского металлургического интернет-ресурса Mysteel, в 2014 году средний уровень внутренних котировок на прокат будет на 2,5-3% ниже, чем в прошлом году.
При этом, одной из основных причин продолжения депрессии на мировом рынке стали китайские аналитики называют снижение цен на сырье – прежде всего, железную руду. В течение 2013 года ее стоимость, как правило, находилась на высоком уровне вследствие повышенного спроса со стороны Китая. Даже в декабре, когда закупки сырья китайскими металлургами резко сократились, она удержалась на отметке, близкой к $135 за т CFR. Но в 2014 году темпы роста выплавки стали в Китае должны снизиться, а поставки руды – существенно возрасти, так что на вторую половину текущего года аналитики из американских и европейских инвестиционных банков прогнозируют понижение железорудных котировок до $120 за т CFR Китай и менее. А удешевление сырья, безусловно, потянет вниз котировки на стальную продукцию.
Впрочем, проблема избыточного предложения при недостаточном спросе в 2013 году была актуальной не только для Китая. В той или иной степени от нее страдали металлурги и из других регионов.
Естественные процессы
В течение всего 2013 года наиболее депрессивным регионом мирового рынка стали был европейский. Ничего не изменилось в этом отношении и в декабре. В начале месяца европейские металлурги предприняли попытку повышения котировок при заключении контрактов на первый квартал 2014 года, однако успеха, причем, ограниченного, им удалось достичь только в секторе длинномерной продукции. Ее стоимость немного поднялась благодаря намеченному на декабрь-январь сокращению выпуска. В то же время, плоский прокат в середине декабря снова подешевел из-за слабого спроса. Ни дистрибуторы, ни конечные потребители в то время не спешили с новыми закупками.
Спрос на стальную продукцию в Европе в 2013 году сократился, по оценкам различных экспертов, на 1-3% по сравнению с предыдущим годом. Правда, на 2014 год те же специалисты предсказывают рост примерно на ту же величину. Но эти умеренно оптимистичные прогнозы могут не оправдаться.
Спад на европейском рынке стали обусловлен, в первую очередь, сокращением финансирования строительного сектора государством и частными инвесторами, а также дефицитом кредитных ресурсов у промышленных предприятий. Но в этом отношении пока ничего не меняется. Европейские страны продолжают политику жесткой экономии, сокращая бюджетные расходы. Вследствие этого по-прежнему уменьшаются объемы государственных инвестиций, а безработица практически не снижается. В банковском же секторе обстановка в 2014 году может даже несколько ухудшиться по сравнению с прошлым годом.
Специалисты связывают это с проектом создания в ЕС банковского союза с централизованным режимом банковского регулирования. Это означает, что надзор над деятельностью около 130 крупнейших финучреждений еврозоны будет осуществлять Европейский центральный банк. Как ожидается, он будет проводить более жесткую политику, чем национальные регуляторы, и, в свою очередь, потребует от банков скорейшего оздоровления своих активов и списания безнадежных долгов. Однако вследствие этого банки, очевидно, будут и дальше сворачивать более рискованное для них кредитование компаний из реального сектора экономики, особенно, некрупных. Кроме того, из-за необходимости покрытия потерь прошлых лет в их распоряжении может просто оказаться меньше финансовых ресурсов.
В прошлом году многие европейские дистрибуторские компании жаловались на проблемы с привлечением финансирования. Доходило до того, что некоторые крупные металлургические группы предоставляли покупателям товарные кредиты. Судя по всему, в 2014 году ситуация в этом плане, по меньшей мере, не улучшится.
Не способствует росту европейской металлургии и климатическая политика Европейской комиссии, направленная, в первую очередь, на сокращение эмиссии углекислого газа. Для производителей стали это означает увеличение затрат на приобретение разрешений на выбросы (до 2013 года эти разрешения были для них бесплатными, но в дальнейшем предполагается ликвидировать эту льготу). Кроме того, розничные цены на электроэнергию в ЕС растут вследствие увеличения доли в генерации более дорогостоящей ветровой и солнечной энергии.
В 2013 году Европейская комиссия приняла План действий по стали, в котором, правда, не было предложено решения ни одной из этих насущных проблем. Поэтому не исключено, что в 2014 году выплавка стали в ЕС продолжит сокращаться. По крайней мере, на какие-либо иные способы стабилизации внутреннего рынка стали европейским металлургам в обозримом будущем не стоит рассчитывать.
Вообще, спад потребления либо снижение темпов его роста в 2013 году было характерно почти для всех основных рынков. Индия переживает самый тяжелый экономический спад с 2009 года, а потребление стальной продукции в стране в апреле-декабре прошлого года превысило уровень аналогичного периода годичной давности всего на 0,5%. В Бразилии завершается подготовка к Чемпионату мира по футболу, что в этом году приведет к уменьшению спроса на прокат в строительстве. Резко замедлились темпы роста российской экономики, спровоцировав спад в национальной металлургии. Не в лучшем состоянии находились в 2013 году и такие динамично развивающиеся страны как Турция, Корея, Вьетнам. При этом, специалисты и там в обозримом будущем не ожидают существенных изменений к лучшему.
Расширение спроса на прокат может дать только реальный сектор. Это показывает прошлогодний пример США, чью экономику буквально вытягивает на себе нефтегазодобывающая промышленность, демонстрирующая рекордные темпы роста. Расширение добычи нефти и газа способствует увеличению потребностей в трубах и соответствующем оборудовании, а доступная нефть и недорогой газ, в свою очередь, вызвали подъем в американской нефтехимической и химической промышленности. Правда, безработица в стране остается на высоком уровне, а государственные финансы пребывают в расстройстве, зато производство автомобилей в 2013 году оказалось наивысшим за последние шесть лет.
Не удивительно, что американский рынок стали выглядит намного более благополучным, чем другие регионы. В отличие от всего прочего мира, цены на прокат в США возросли в течение 2013 года. При этом, если в прошлом январе разница в стоимости горячекатаных рулонов в ЕС и США составляла около $70 за т, до к концу прошлого года она расширилась до около $140 за т (с учетом изменений валютных курсов).
Больше десяти лет тому назад, когда мировой рынок стали тоже находился в состоянии длительной депрессии, было высказано предложение осуществить согласованное выведение из строя избыточных мощностей в глобальной металлургической отрасли. Причем, в Комитете по стали ОЭСР по этому поводу было даже проведено несколько конференций, участники которых, впрочем, ни о чем не договорились, а вскоре подъем мировых цен на сталь в 2004 году сделал эту проблему неактуальной. В начале 2014 года аналогичное предложение высказал глава «Северстали» Алексей Мордашов, но и в этот раз оно вряд ли к чему-то приведет.
В этом году на мировом рынке стали, скорее всего, продолжится прошлогодняя стагнация. Прекратится же она, очевидно, только в силу «естественных» причин – расширения спроса или, что пока выглядит более вероятным, сокращения мирового производства стали вследствие хронической убыточности некоторых предприятий.
Виктор Тарнавский
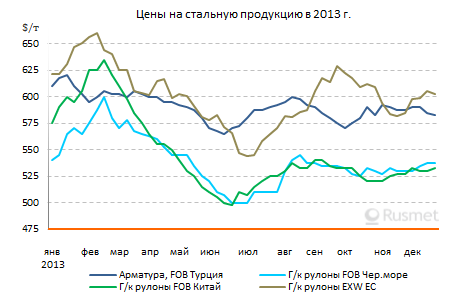
Пять соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных между Кипром и другими государствами, вступили в силу с 1 января 2014 года.
В дополнение к договору с Украиной, заменившему действующую ранее конвенцию между островным государством и СССР, Кипр получил четыре новых соглашения, составленных на базе модельной конвенции ОЭСР и расширяющих сеть международных договоренностей страны.
Предполагается, что «свежезаключенные» договора с Испанией, Португалией, Финляндией и Эстонией стимулируют инвестиционную деятельность и укрепят экономические связи между сторонами.
Обновленная конвенция между Кипром и Украиной, в числе прочего, содержит достаточно выгодные условия налогообложения прибыли от размещения акций, а кипрские компании - соответственно - сохраняют статус подходящего средства для владения имущественными активами в Украине.
В ближайшем будущем ожидается также подписания аналогичных соглашений Кипра со Швейцарией, Малайзией и Норвегией.
Украина отказалась от реверсного импорта газа из Европы
Страна предпочла более дешевое российское топливо
Украина намеревается получать природный газ только от России и не планирует осуществлять импорт в реверсном режиме из Европы, так как такие поставки обходятся дороже. По данным УНИАН, сооветствующее заявление сделал министр энергетики и угольной промышленности страны Эдуард Ставицкий.
«Пока что мы выходим по закупке газа, исходя из соображений, где цена лучше. Пока российский газ будем закупать, потому что он дешевле на сегодняшний день», — пояснил он.
В декабре 2013 года Киев получил от Москвы скидку на топливо: цена была снижена с 400 долларов за тысячу кубометров, что является среднегодовой стоимостью российского газа в 2013 году, до 268,5 доллара. При этом Ставицкий посчитал такое снижение недостаточным и сказал, что украинская сторона рассчитывает на развитие этой тенденции.
В дальнейшем стало известно, что цена будет плавающей и может меняться ежеквартально, в зависимости от колебаний показателей российского экспорта. Информация о том, что Украина перестала закупать европейский газ, попала в СМИ 8 января: журналисты сослались на венгерских и польских операторов газотранспортных систем.
Wizz Air, наибольший лоукост авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе*, сегодня объявил о распродаже билетов на все рейсы.
Приобретая билет сегодня, 9 января, на сайте wizzair.com, пассажиры Wizz Air получают 20% скидки** на любое из 300 направлений авиакомпании, выполняемых из 19 баз в 35 стран.
"Праздники заканчиваются, но Wizz Air хочет продлить ощущение особого настроения и подарить всем своим пассажирам 20% скидки на все рейсы. Планируйте свои поездки и летайте с нами по доступным ценам! Будем рады видеть вас на борту наших самолетов!" - сказал Даниэль де Карвальо, менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air.
**Скидка 20% распространяется на тарифы, включая налоги, обязательные сборы и перевозку одного места мелкой ручной клади (42x32x25см), но исключая административный сбор, если рейс выполняется авиакомпанией Wizz Air Hungary Kft. (W6). Рейсы из Украины, выполняемые авиакомпанией Wizz Air Hungary, осуществляются на линиях Киев-Лондон, Киев-Будапешт и Харьков-Варшава.
Скидка 20% распространяется на тарифы, включая налоги, обязательные сборы и перевозку одного места зарегистрированного багажа в пределах 32 кг., но исключая административный сбор, если рейс выполняется ООО "Авиалинии Визз Эйр Украина" (WU).
Скидка действительна только для новых бронировок.
До конца января каждый житель Подляского воеводства может выразить свое мнение о строительстве атомной электростанции, которая в ближайшие годы будет построена на восточном побережье Ботнического залива. Финское правительство пригласило к обсуждению общественные организации северно-восточной Польши.
Станция в Пюхяйоки, на практически безлюдном полуострове Ханхкив, будет возведена к 2020 году. Питаемый диоксидом урана реактор, который вероятнее всего произведет российская компания Росатом, станет постоянным источником 1200 мегаватт электроэнергии. Это будет третья по счету атомная электростанция в Финляндии.
По прямой линии место будущей АЭС от Подляского воеводства (Польша) разделяет около 1000 км. Инвесторы, оценивая воздействие на окружающую среду АЭС в случае аварии, учли возможное негативное влияние на северно-восточные регионы Польши. Поэтому, согласно международным соглашениям, было решено опросить поляков.
Конвенция Эспо устанавливает международно-правовую основу для процедуры оценки воздействия на окружающую среду, если деятельность, осуществляемая в государстве, диапазоном воздействия затрагивает территорию другого государства. Таким образом, Финляндия, желая построить электростанцию, оповещает страны-соседки о намерениях.
На веб-странице этого учреждения можно ознакомиться с отчетом воздействия на окружающую среду атомной электростанции Пюхяйоки. На этом же сайте можно оставить любые комментарии и замечания по делу. В обсуждении, посредством местных администраций, принимают участие жители воеводств Варминско-Мазурского, Поморского и Западно-Поморского.
Трансграничное обсуждение имеет место не впервые. Ранее жители Подляского воеводства могли высказать мнение о строительстве атомной электростанции в Калининграде и Беларуси.
В Польше появилась новая компания по энергоснабжению
Им станет литовская компания «INTER RAO Lietuva». Для Польши уже создали дочернее предприятие «IRL Polska», которая будет заниматься продажей электроенергии, произвеженной в Польше. В случае успешной деятельности, компания планирует заниматься поставкой электроенергии в другие страны.
На получение лицензии у компании ушло больше года, однако такой шаг позволит ей развиваться и в будущем с успехом выйти на международный рынок и заниматься торговлей электроенергией для розничных покупателей. Напомним, что «IRL Polska» была создана еще в 2012 году и все это время последовательно продвигалась к налаживанию деятельности на польском энергетическом рынке.
Польские копчености больше не нравятся европейским потребителям
Осенью 2014 года планируют принять законопроект, который будет регулировать содержание смол в еде. Из-за этого могут пострадать польские производители копченостей.
Напомним, что у Польши нет монополиста в данной сфере и производством подобных продуктов занимается малый бизнес. Стандарты, которые собирается ввести ЕС, будут несовместимы с оборудованием, которым сейчас пользуется большинство польских производителей.
Премьер-министр страны заявил, что продукты, которые не будут подходить под нормы ЕС, будут реализовываться на местном рынке. Поставки польских продуктов в страны Европы могут значительно сократиться, поскольку страна просто не успела улучшить оборудование для копчения, а в столь короткие сроки сделать это будет очень сложно.
Правительство предлагает продлить обязательное обучение в шведской общеобразовательной школе на один год: с нынешних 9 классов до 10 классов. С этим предложением выступили сегодня лидеры четырех партий правящего буржуазного альянса.
Премьер-министр Швеции Фредрик Райнфельдт/Fredrik Reinfeldt (M - консервативная партия), министр образования Ян Бьёрклунд/ Jan Björklund (FP- народно-либеральная), Анни Лёв/ Annie Lööf (C- партия Центра) и Йоран Хегглунд/ Göran Hägglund (KD- христианско-демократическая) предложили сделать общеобразовательную школу обязательной уже с шестилетнего возраста.
Для тех учеников, которые не достигли поставленных требований к объему полученных знаний после 10 лет, может быть введен еще один дополнительный и обязательный год учебы в школе.
Предлагается также обязательная "летняя школа" для тех, кому до получения оценки "зачтено" осталось, что называется, рукой подать. Это касается выпускного или предпоследнего класса школы.
Учеба в школе, согласно предложению партий буржуазного "Альянса", продлевается на один год за счет начальной школы, которая теперь будет длиться четыре года. Педагогика должна быть приспособлена к детям шести лет, которые станут первоклассниками. По словам министра образования Яна Бьёрклунда, у них будут уроки по шведскому языку, математике, "эстетические предметы" (т.е. рисование и музыка, например) и много переменок. Учеба будет вестись в форме игры, - сказал министр.
Реформа школы может начаться, самое раннее, в конце следующего мандатного периода, т.е. не раньше, чем через 3-4 года.
Школьные дебаты разгорелись с новой силой минувшей осенью, когда международные сравнения (PISA) показали падение результатов шведских школьников по математике, естественным наукам и понимаю прочитанного ниже средних по странам OECD/ ОЭСР.
Тогда политическая оппозиция, представленная лидером социал-демократов Стефаном Лёвеном/ Stefan Löfven и спикером по вопросам образования этой партии Ибрагимом Байланом/ Ibrahim Baylan выступила на странице дискуссий газеты Дагенс нюхетер с предложением о сокращении количества учеников в классах, увеличении числа специальных преподавателей, помогающих школьникам, а также за отмену "погони за прибылью" в частных школах.
Министр образования Ян Бьёрклунд/ Jan Björklund также признал результаты серьезными, но объяснил низкий уровень знаний шведских школьников тем, что проводимые нынешним правительством реформы не успели еще дать ожидаемого эффекта.
Добавим, что школа-девятилетка существовала в Швеции с 1962 года.
Украина с начала января не покупает газ в Европе
Украина, которая в декабре 2013 года добилась от своего главного поставщика природного газа — российской компании "Газпром" — снижения цены на газ на треть, с начала января не покупает газ в Европе. Об этом свидетельствуют оперативные данные операторов газотранспортных систем Венгрии и Польши, информирует в среду агентство УНИАН.
Согласно данным операторов, общий импорт природного газа по итогам 2013 года с территории этих стран составил 1,977 миллиарда кубометров.
Так, по данным венгерской компании FGSZ Ltd, Украина за 2013 год импортировала с территории Венгрии 1,127 миллиарда кубометров природного газа. В декабре закупки газа по венгерскому маршруту упали до минимальных 93,8 миллиона кубометров.
Согласно данным польской компании PGNiG, в декабре через Польшу на Украину поставки составили около 23 миллионов кубометров газа, что почти в четыре раза меньше, чем в ноябре. В декабре суточные поставки газа составляли от 0,3 до 1,4 миллиона кубометров. Прокачка газа через польский коридор в декабре осуществлялась 25 из 31 дней. Всего по итогам года Украина импортировала по польскому маршруту около 850 миллионов кубов газа.
Добиваясь последние несколько лет снижения цены на газ от России, Украина начала диверсифицировать его поставки, сокращая закупки у "Газпрома" и увеличивая закупки в странах Европы. Однако на заседании российско-украинской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины на треть — до 268,5 доллара за тысячу кубометров. "Нафтогаз" и "Газпром" в начале каждого квартала будут подписывать допсоглашение, определяющее стоимость газа, в противном случае скидка перестает действовать. Алена Мейта.
В Польше откроют новый завод по производству автомобилей
Поскольку проект планируется масштабный, то по предварительным подсчетам его завершение будет не ранее 2018 года.
Такой проект является весьма перспективным для Польши, поскольку автоконцерн владеет некоторыми люксовыми брендами и активно развивается на мировом рынке. В свое время Volkswagen поднял автопромышленность Германии, а также построил завод в Японии.
Сейчас министр экономики Польши считает подобный проект полезным для страны, поскольку новый завод буде выпускать около 100 тыс. автомобилей в год.
Британия не хочет выплачивать полякам социальное пособие
Причиной столь неблагоприятных выпадов стало то, что Великобритания отказывается платить семейные пособия работающим в их стране полякам.
Польский премьер считает несправедливым тот факт, что поляки, проживающие в Великобритании, платят налоги, но не могут рассчитывать на социальную поддержку государства.
Британский премьер, в свою очередь, высказал мнение, что считает подобные выплаты неуместными, поскольку они касаются детей поляков, работающих в Великобритании. Кроме того, он планирует ввести ограничение на количество мигрантов. Официальный представитель Еврокомиссии пока не дал конкретного ответа по данному вопросу, однако отметил, что Лиссабонским договором предусмотрено свободное перемещение трудящихся по территории Евросоюза. Чем разрешится подобный спор, пока неизвестно.
Демон истоков: как (поздне)советские гуманитарии утверждались в своем прошлом
Александр Николаевич Дмитриев (р. 1973) – историк, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований НИУ ВШЭ.
…В какое море гонит
Обломки льда советский календарь.
Виктор Кривулин
Когда начиналась советская наука? Если относительно даты ее формального финала (самый конец 1980-х годов) большинство историков и наблюдателей, насколько можно судить, все-таки сходятся, то начало вызывает споры, и отнюдь не только хронологические. Разумеется, большинство советских юбилейных святцев (и в том, что касается культуры и науки в целом, равно как и отдельных дисциплин и институций) начинались с 1917 года – и их сопоставительный анализ сам по себе окажется весьма полезен для понимания важных и не всегда очевидных смысловых нюансировок или оценок «пройденного славного пути». И далеко не зря в этих сочинениях так много чернил тратилось на сложные периодизации, выявление «критериев зрелости», стадии овладения марксистско-ленинской методологией в «переходный период». Середина 1930-х годов оказывалась в них не временем Большого террора, но завершением перехода к собственно социалистическому обществу (согласно новой Конституции и умозрительному перемонтажу «диктатуры пролетариата» в «общенародное государство»). Значит ли это, что советская наука с ее характерными особенностями тоже началась примерно тогда же как синтез науки «красной» и прежней, «спецовской»? Невольный симбиоз еще недавно осаженных назад – например, при ниспровержении школы Покровского (1936) – диалектизаторов эпохи Великого перелома и должным образом перестроившихся и вознагражденных «старых профессоров» и их наследников оказался довольно устойчивым. Эти две группы и составили наиболее явные и заметные когорты «советских ученых», которых уже никто не думал попрекать (как выяснилось, лишь до нужного времени) кастовостью и пребыванием в башне из слоновой кости. Но примерно с 1948 года кампания против космополитов возродила риторику и лозунги первой половины 1930-х[2]. И в этом смысле не только середина 1930-х, но и конец 1940-х годов может считаться точкой отсчета для формирования подлинно советской науки.
И тут хронология незаметно начинает становиться терминологически нагруженной. В самом деле, если «советскость» первые пятнадцать лет существования новой власти понималась как практически тождественная коммунистической или марксистской принадлежности (а значит, и выбору), то с начала 1930-х годов исчезает возможность бытования «несоветского» в сфере идей. Соответственно, и советская наука становится таковой уже в более нейтральном смысле – просто по географической локализации. Уже с начала 1920-х годов, часто в связи с внешнеполитическими потребностями, например при защите сокровищ Публичной библиотеки от претензий независимой Польши, складывается или закрепляется заново даже у ученых прежней формации эта более-чем-местная идентичность. И все-таки определенная идеологическая направленность в этой идентификации никуда не исчезнет; разве что к базовому прилагательному будут добавлять еще и выражение «настоящий» (например, высокочтимый Икс – в отличие от едва упомянутых игреков – «настоящий, подлинно советский ученый»). Любопытно, что эта утрата прежней боевитости и размытость прежних само-собой-понятных определений ощущалась современниками чутьем, порой почти на уровне анекдота. Так, Андропов еще до того, как возглавил Лубянку, разделял своих помощников из только что сформированного круга экспертов-интеллектуалов при ЦК партии на коммунистов и большевиков (последние и были «настоящими»). Но в какой степени – и главное, в каком смысле – любой пишущийся и мало-мальски публикующийся с 1953-го по 1985 год гуманитарий с советским паспортом в кармане оказывалсясоветским автором?
Если мы станем понимать «советскость» как набор определенных содержательных характеристик, то очень сильным, непреодолимым становится соблазн – так и хочется сказать, вслед за Андроповым – обозначить советскость в науках о человеке как верность канону (примат «материи» / «экономики» / «практики», классовый подход, опора на теорию общественно-экономических формаций и так далее). И тогда, в этом скорее негативно окрашенном определении, квинтэссенцией советскости окажется именно ждановщина, иначе говоря – набор вульгарно-марксистских догм с изоляционистским окрасом. Такой выбор 1949 года как «главного», определяющего года советской умственной жизни, как мне кажется, является еще и своего рода реакцией на позднесоветские, перестроечные, иллюзии. Мой подход будет также ангажированным и субъективным: считать собственно (сущностно) советскими годами в историко-научных сюжетах период между Сталиным и Горбачевым, взяв в качестве точки отсчета некий условный 1967 год, давший обильный поток юбилейной продукции и интересующего меня позднесоветского ретроспективизма[3]. Кроме того, в основе любых постсоветских идеологических реконструкций, несмотря на всю зачарованность Сталиным, лежат, на мой взгляд, переживания, рефлексы и ностальгические образы именно брежневского социализма.
Наиболее интересным и сложным сюжетом при изучении интеллектуальной истории отечественной гуманитарной науки ХХ века будет вопрос о самых талантливых ее творцах и новаторах (Бахтине, Лотмане, Мамардашвили, Лидии Гинзбург – список, разумеется, может быть продолжен или изменен) как о советских ученых[4]. Эта постановка не раскладывается легко на «вопреки»/«благодаря», и говорить тут следует не просто о детях своей эпохи, на которых «не могла не распространиться тень и т.д.», и не только о гениях, живших во власти деспотического режима (хотя такой ракурс анализа абсолютно правомерен). С начала 1930-х годов (и на ближайшие полвека) несоветских – свободных от обязательной верности марксизму – гуманитариев в СССР быть не могло; кроме заведомых и общеизвестных исключений-«реликтов», вроде историков Степана Веселовского или «возвращенного» из эмиграции Роберта Виппера, любые инакомыслящие были обречены на внутреннюю эмиграцию или печатание за границей[5]. Вопрос о советской эпохе, как ее воплотили люди, в том числе этой эпохи не принимавшие и не так давно способствовавшие ее концу, касается в первую очередь истории той сцепки стремлений и обстоятельств, личных свершений и традиции, наконец, силы и бессилия, которая впрямую затрагивает и нас сегодняшних, наши актуальные компромиссы и ситуации выбора.
Даже квалификация отечественной «подцензурной» мысли этого периода какмарксистской тоже, с моей точки зрения, требует множества оговорок. Кажется, Павлу Копнину приписывают остроумное определение советской философии, данное еще в 1960-е годы, как философии по существу герменевтической, ориентированной на поиск правильного (единственно верного) прочтения Главной Доктрины[6]. Недаром главными специалистами по тонкостям диамата в середине ХХ века на Западе были иезуиты да католики вроде Густава Веттера или Юзефа Бохеньского.
Возвращаясь к «переходному» периоду, нужно сделать важную оговорку. Выделенные выше два полюса, комиссарский и спецовский, при всей своей типичности, были – начиная примерно с середины 1950-х годов – именно крайними точками уже практически единой системы. И все бóльшую роль в ней играли как раз промежуточные типы – воспитанники высшей школы 1920-х годов, широко распахнувшей двери для самых разных общественных слоев, чаще всего за счет понижения общего уровня преподавания. Однако эти нэповские годы были временем не только разгрома прежнего университета (как не без оснований говорили представители русской эмигрантской науки), но также и эпохой многих экспериментов, новаций и еще относительно свободного обмена мнений – за закрытыми дверями аудиторий, общежитий, домашних кружков или салонов. И после смерти Сталина, при декларированном возвращении к «ленинским нормам» прямой флешбэк в нэповскую эпоху был исключен, а ценность коллективизации и Великого перелома подвергалась сомнению только на краях политического спектра, никак не представленных в публичном пространстве[7].
К концу 1950-х годов, когда значительно ослабло директивное влияние на науку идеологических органов, а главное – исчез физический страх уничтожения или потери профессии в связи с академической деятельностью, возрождение памяти о прошлом стало одной из важных задач самовосстановления советского научного общества. Это обретение минувшего принимало разные формы в несхожих дисциплинарных локусах; оно осложнялось уже хотя бы тем, что многие проводники «культа личности» оставались на своих местах в академических инстанциях и после марта 1953-го. С одной стороны, это был процесс реабилитации погибших и возвращения выживших авторов из ГУЛАГа или забвения – здесь должны быть упомянуты литературоведы Леонид Пинский, Валерьян Переверзев и Юлиан Оксман, историки Виктор Далин и Сергей Дубровский, медиевист Матвей Гуковский, философ Абрам Деборин и многие иные (список этот заведомо не полон). С другой стороны, пересмотру и переписыванию подлежали прежние курсы и книги по истории той или иной науки (особенно это касалось описания советских лет). Почему этот процесс оказался поддержан не только снизу, но и санкционирован сверху партийными функционерами и академическими «мандаринами»? Укажем лишь на некоторые дисциплинарные истории.
Уже с середины 1950-х годов, еще до ХХ съезда, разворачивается процесс переосмысления оценок недавнего академического прошлого в самой исторической науке. На страницах «Вопросов истории» активно обсуждаются историографические проблемы; в частности, детальной критике подвергается первый том «Очерков по истории исторической науки в СССР». Однако кампания по десталинизации имела свои границы, и руководство журнала в марте 1957 года было заменено постановлением Секретариата ЦК КПСС; среди упущений редколлегии было указано на нечеткость идейных критериев историографической работы[8]. Вслед за XXII съездом партии высшей точкой стало совещание историков конца 1962 года, на котором, в частности, академик Милица Нечкина вспоминала об атмосфере страха и недоверия недавних десятилетий[9]. Студентка Казанского университета времен гражданской войны и соратница Михаила Покровского, она на себе испытала превратности исторической политики сталинских времен. В хрущевские годы она стала инициатором создания академического Совета по истории исторической науки и многое сделала для изучения отечественной историографии, включая и дореволюционную[10] (в частности, в начале 1970-х годов, как свидетельствуют ее дневники, Нечкина «прикрывала» по академической линии содержательную и детальную книгу Владимира Дунаевского об историках – специалистах по Новому времени в раннем СССР[11]). Но если ее книга о Ключевском благополучно увидела свет в 1974 году, то предназначенная для очередного тома «Очерков исторической науки» большая статья о критике Покровского в 1930-е годы вышла в «Исторических записках» лишь с началом перестройки, уже посмертно[12].
Сложность «возвращения» в 1920-е в историографии оттепели заключалась еще и в том, что для многих специалистов это были отнюдь не только либеральные нэповские времена, а период депрофессионализации дисциплины из-за агрессивного вмешательства Михаила Покровского и представителей его школы, ликвидации исторического образования и засилья социологической догматики. Книга Олега Соколова о Покровском или переиздание четырехтомника известного академика на исходе 1960-х годов так и не вернули ему и малой доли прежней популярности[13]. Так что про идеализацию досталинского времени в исторической науке 1960-х рассуждать, наверное, не приходится. И все же очевидно, что у многих оттепельных начинаний в области теории истории – будь то занятия азиатским способом производства, историко-психологические идеи Поршнева, дискуссии на семинаре Гефтера[14] или попытки осложнить теорию формаций применительно к медиевистике (от Неусыхина до Барга и Чистозвонова) – корни отыскались бы именно в 1920-х годах. По аналогии с историей у философов разных поколений тоже, вероятно, было мало желания возвращаться обратно во времена дискуссий механистов и диалектиков. Хотя сами эти напряжения в советской мысли послевоенного времени существовать продолжали! Две соответствующих линии – «культурологическая» и «сциентистская» – в развитии позднесоветской философии явно отражались, например, на специфике отдельных школ и институтов (в качестве географических полюсов можно назвать группу вокруг Нико Чавчавадзе в Тбилиси и философов науки Сибирского отделения АН СССР Михаила Розова и сторонников Георгия Щедровицкого). При этом региональные сети этих центров выходили далеко за пределы одного города, области и республики – чему способствовало проведение местных конференций или издание тематических сборников. Историко-философские издания 1960-х обращались скорее ко временам Канта и Гегеля, чем Комакадемии и ГАХН[15]. Будущим исследователям оттепельных изысков, помимо пятитомной «Философской энциклопедии», будет не лишне вспомнить о недолговечном «Вестнике истории мировой культуры» (1957–1961), проанализировать круг его тем и авторов.
Собственно история на этой пассеистской шкале занимает некоторое промежуточное положение между, условно говоря, дисциплинами «ностальгирующими» и «презентистскими». К числу ностальгирующих в первую очередь должна быть причислена филология – за счет такого мощного символического и идейного ресурса, как наследие русского формализма и Бахтина. Благодаря усилиям Александра и Мариэтты Чудаковых, а также Евгения Тодеса, издания Тынянова и Виноградова в 1970-е годы стали образцовыми с точки зрения не только тщательности, но и уровня научной рефлексии, а Тыняновские чтения в следующее десятилетие отчасти подхватили инициативу, отчасти отобрали интеллектуальную гегемонию у тартуских «Трудов по знаковым системам». ОПОЯЗ или московский формализм, а особенно ранний Бахтин предлагали своим исследователям богатейший материал и уникальные модели для самоистолкований и проекций. В психологии долгое (пожалуй, слишком долгое) время заняла подготовка собрания сочинений Льва Выготского[16]. Впрочем, начало тут было положено еще изданием работ ранее полуопального классика в 1956 году, а книга Артура Петровского об истории советской психологии, изданная в 1967-м, сразу открыла изрядное поле неосвоенного и еще недавно запретного или замолчанного наследия.
Другой полюс отношения к собственному прошлому демонстрировала советская социология 1960-х, где, кроме изучения бюджетов времени, практически не осталось точек и зон контакта с досталинской эпохой[17]. Наличие у оттепельных социологов современных теорий Парсонса или Мертона не требовало апелляций к подозрительному идеологически и устаревшему научно Питириму Сорокину. Отдельным сюжетом остается связь экономистов 1960-х с экономической мыслью 1920-х, особенно с немарксистскими авторами или концепциями[18]. И социология, и экономика уже с 1960-х начинают сразу ориентироваться на адаптацию и усвоение западных подходов, математического аппарата и в меньшей степени – на свою собственную историю.
Следует ли считать сейчас, исходя уже из post-communist condition, именно второй вариант более естественным для ожидаемого развития науки? Всегда ли собственное прошлое выступает как обременение «нормальной» науки? Не стоит забывать, что вопреки сталинскому отнюдь не эпистемологическому разрыву между 1920-ми и 1950-ми эти эпохи соединялись в живой памяти науки подвижнической деятельностью исследователей старших поколений – вроде Алексея Лосева и Сергея Рубинштейна (эти философы оказались востребованы соответственно в антиковедении и психологии), экономистов Новожилова и Немчинова, филологов Лидии Гинзбург и Сергея Боброва, историков Александра Неусыхина и Бориса Романова[19].
Непреложным условием всей этой работы памяти было не только реконструирование, но и вольное или невольное переозначивание или даже пересобирание прошлого. В отечественной психологии архивная революция конца 2000-х – начала 2010-х уже не только серьезно повлияла на историческое самосознание самой этой дисциплины, но заставила радикально ревизовать прежние, ставшие каноническими, прочтения 1950–1970-х годов. В частности исследования Антона Ясницкого, Екатерины Завершневой и их западных коллег о Выготском и его круге ясно продемонстрировали, что тридцатилетнее вписывание этого мыслителя в теорию деятельности Алексея Леонтьева, вошедшее в учебники и хрестоматии, является невозможным без посмертной содержательной деформации – утраты или, напротив, фабрикации ряда ключевых положений автора «Мышления и речи»[20].
Итак – мой главный тезис: «антикварное» сосредоточение наук о человеке 1950–1980-х годов на своем раннесоветском этапе развития не только принесло громадную пользу и справедливое чувство методологической неисчерпаемости, но имело и свою теневую сторону. Побочным продуктом этой поглощенности прошлым стал объяснимый цензурными условиями и все же несводимый к ним дефицит современности и порой отсутствие интереса к актуальной мировой мысли[21]. Невозможность нормального и полноценного контакта с западной аудиторией (и горизонтом мысли) порождала различные галлюцинации и фантомные ощущения. От них не спасало знание языков, контекста и страноведческая компетентность относительно самых экзотических европейских или американских культур.
Постоянная коллизия «мы – они, СССР – Запад» возобновлялась, как ни парадоксально, благодаря уже начавшемуся с середины 1950-х общению с западным миром (через растущие личные контакты, редкие научные командировки). Обнаруживаемое на реальном и разноликом Западе равнодушие к действительно не праздным заботам и побуждениям советских мыслителей вызывало объяснимую реакцию: вначале доказать, что наш живой Мамардашвили или покойный Бахтин не хуже, а то и похлеще их Сартров и Хайдеггеров, а потом заявить, что весь наш интеллектуальный континент – от Лосева и Шпета до Зиновьева с Лифшицем – пришелся «там» не ко двору в силу его (этого двора) фатального «теоретизма», «эстетизма» и прочих девиаций слишком уж искушенной и специализированной мысли, отпавшей от источника ответственной рефлексии и этически нагруженного поступка[22]. Впрочем, гораздо интересней этих позднейших рефлексов изучать реальную сложную историю «приживления» интеллектуальной продукции made in USSR по ту сторону «железного занавеса» – от Давида Зильбермана до Леонида Баткина.
Итак, начиная с середины 1950-х годов интерес к раннему советскому периоду становится своего рода «участком тождества» (по Лидии Гинзбург), где интересы и власти, и академической интеллигенции к легитимации через «свою» историю могут сближаться или даже совпадать. Это общеструктурное совпадение («революция как момент истины») не стоит переоценивать. Ведь значительная часть «внутренней» историко-научной работы гуманитариев делалась скорее вопреки властям, а не только благодаря им (одна лишь история задержанных изданий ранних теоретических работ Тынянова и Шкловского, которые в итоге печатались многотысячными тиражами, – красноречивый тому пример). «Власть», в единственном или множественном числе, в данном случае – собирательное обозначение сложной результирующей разных векторов и директивных инстанций: от партийных чиновников до академических начальников, а также издательских или журнальных редакторов.
Исторический ресурс для развития гуманитарной науки хрущевского или брежневского времени не мог быть вечным. Преимущественное движение назад становилось одним из симптомов пробуксовки мысли – ведь в одну и ту же умственную реку нельзя вступать вновь и вновь, до бесконечности. Какое же прошлое оставалось для стареющих шестидесятников, вплоть до горбачевского времени, своим? Показательна разница между двумя знаменитыми «семидесятническими» статьями о Бахтине: если Вячеслав Иванов в 1973 году развернуто доказывал близость взглядов авторитетного мыслителя к структуралистской парадигме, то на исходе десятилетия Михаил Гаспаров трезво, скупо и явно дистанцированно описывал Бахтина как наследника культуроборческих 1920-х годов – наперекор уже установившейся новой моде на Серебряный век[23]. Пассеистская установка неизбежно вела работу самоотождествления гуманитария за священной гранью 1917 года – и тем самым подрывала условия неписаного и исходного, «идейного», контракта с государством. Достаточно сравнить позицию ортодоксально-неофициального марксиста Михаила Лифшица, воплощавшего дух 1930-х годов и удобного в качестве неподвижной точки отсчета: из смелого, умного и радикального новомирского автора 1950-х он, по сути не меняясь, превращается в глазах «читающей публики» в ретрограда и завзятого антимодерниста уже в начале 1970-х годов[24].
Самые важные и знаковые фигуры ретроспективного почитания в философии, например, сложились уже к началу 1980-х годов – Ильенков и Мамардашвили; недаром им посвящено столько продукции, преимущественно мемуарной, которая все никак не обретет аналитических качеств. Но разговор о них «без скидок на обстоятельства» в содержательных историко-философских категориях, а не только во «внешней» рамке истории идей и институций, кажется, только начинается. А вот о Лешеке Колаковском, Яне Паточке или Агнеш Хеллер – уже написаны книги и статьи, которые важно учитывать и нам. Вообще восточноевропейский контекст развития советской мысли и советского марксизма от Сталина до Горбачева (включая параллели с югославским «Праксисом») – сюжет очень мало изученный и, на мой взгляд, весьма перспективный.
Раз уж зашла речь о географии, то нужно обязательно добавить, что обобщенная (при этом неизбежно схематизированная и лишенная важных нюансов и деталей) картина развития советской гуманитарной науки может реконструироваться по региональному принципу как совокупность историй отдельных центров и лидеров с их разнообразными интересами и предпочтениями – от политической философии Рэма Блюма и его учеников в Тарту до так называемой «уральской школы» историков философии (Константин Любутин, Вячеслав Скоробогацкий). Из разных гуманитарных дисциплин в советское время именно философия в региональных центрах оказывалась, как правило, наиболее креативной; нередко она выступала и в форме гуманитарной или общенаучной теории вообще.
С 1950-х началось (точнее все же – возобновилось) изобретение местной традиции: серьезные занятия «историей философской мысли народов СССР» в рамках марксистско-ленинской парадигмы – в Средней Азии, в Закавказье (Вазген Чалоян и «армянский Ренессанс»), работы последователей Владимира Шинкарука на Украине. После 1991 года переопределение специфики местного философствования как продолжения вековых истоков было практически подготовлено уже в 1970–1980-е годы. И порой занятия далеким прошлым «своей» традиции в республиках и регионах было более безопасным, чем изучение творчества местных «национал-уклонистов» 1920-х с партбилетами в карманах. Особый случай Грузии, где Дмитрий Узнадзе, Шалва Нуцубидзе и Константин Бакрадзе непосредственно обеспечили преемственность национальной философской традиции даже в сталинское время, вполне вписывается в стратегии поведения таких очень разных людей, как Валентин Асмус или Алексей Лосев. Однако справедливости ради стоит заметить, что связь региональных философских школ с местными новаторскими течениями в других гуманитарных областях (с Тартуской школой, «неформатными» филологами, историками и искусствоведами в Минске, Киеве, Харькове, Львове или Саратове) всегда была ограниченной. Единство теоретического фронта для разных дисциплин между серединой 1950-х и концом 1980-х обеспечивалось не только общностью марксистского канона (со всем богатством разрешенных оттенков) или усилиями штатных философов, но и общим методологическим багажом 1920–1930-х годов: Фрейденберг читали отнюдь не только специалисты-древники, а Выготского – не одни лишь психологи. Но с самого начала крушения советского «интеллектуального парника» на исходе 1980-х годов выявилась и некоторая искусственность этой несвободной общности; с тех пор дисциплинарные каноны заметно разошлись и обособились – по сравнению с былыми списками.
Среди того нового, что появилось в 1960-е годы и практически не имело связей или истоков в легендарные 1920-е (забытые усилия Ивана Боричевского или Тимофея Райнова здесь не в счет), – отечественное науковедение в лице Михаила Петрова в Ростове-на-Дону или Александра Огурцова, а также его единомышленников по Институту истории естествознания в Москве. Оно как раз жило и развивалось синхронной жизнью с западными открытиями – и русскими переводами! – Куна и «Слов и вещей» Фуко. Для естественников в 1970-е годы главной полулегендарной фигурой для исторической самопроекции стал Владимир Вернадский (а его «ноосфера» стала к середине 1980-х таким же размытым понятием, как пресловутые «диалог» или «карнавал»).
Итак, советская наука наиболее наглядно может быть помыслена не только через условность истока, но также как перманентный процесс ретроспективного переопределения своего прошлого. Когда все-таки кончились батареи у этого лунохода советского историографического самоперформатива? О чистомinvention of tradition тут говорить не приходится. Важно отметить, что эта работа советских гуманитариев с собственным прошлым во многом предвосхитила нынешнюю ситуацию уже XXI века, когда отсутствие актуальной теории в науках о человеке довольно успешно подменяется занятиями историей теории. Но как долго эта, уже ставшая почти привычной, ситуация продлится? Дистанция в двадцать постсоветских лет, отделяющая нас от крушения прежних идейных Lebensformen, кажется, подвигает к новой постановке самоочевидных вопросов, которые оказались почти вовсе забытыми. Главный и обескураживающий, разом возвращающий к исходной точке какого-нибудь сентября 1991 года, вопрос: так есть ли у нас предмет спора? Не «когда началась советская наука и как она развивалась» – но вопрос о том, благодаря чему существовала она как нечто целое и притом единое по сравнению с «мировой» гуманитаристикой (при всей условности последней как некой явной и верифицируемой целостности)? И наконец: кто такие эти «мы», так или иначе причастные к факту этого крушения и одновременно выносящие теперь некие законченные суждения и приговоры?
Потому что итогом этих размышлений будет неожиданный, но исторически справедливый вывод: судя по всему, наше видение позднесоветской ситуации является столь же селективным и субъективным, сколь выборочным и порой произвольным – как мы это уже можем с нашей дистанции увидеть – было и тогдашнее прочтение 1910–1930-х годов[25].
[1] В работе использованы результаты, полученные в рамках реализации проекта «Отечественные университеты в эпоху революции и Гражданской войны (1917–1922)» Научного фонда НИУ ВШЭ № 12-01-0207. Я благодарен Михаилу Немцеву за ряд важных исходных соображений, в полемике с которыми и возник этот текст.
[2] На это обратил внимание в своем фундаментальном исследовании Петр Дружинин: Дружинин П.А. Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы.Документальное исследование. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
[3] См. трехсотстраничную библиографию (по всем отраслям знания): Развитие советской науки за 50 лет: Указатель юбилейной литературы 1967–1969 гг. / Сост. О.А. Барыкина. М.: Наука, 1972.
[4] У нас уже существует важный задел для размышлений такого рода: Гаспаров М.Л. Ю.М. Лотман: Наука и идеология // Гаспаров М.Л. Избранные труды. М., 1997. Т. 2; Зорин А. Лидия Гинзбург: опыт «примирения» с действительностью // Новое литературное обозрение. 2010. № 1. С. 32–51; Зорин А., Баскирк Э. ван. Гинзбург и перестройка // Новое литературное обозрение. 2012. № 4. С. 416–423; Звеерде Э. ван дер. Философия в действии: социально-политический аспект философствования Мамардашвили // Мераб Константинович Мамардашвили / Под ред. Н.В. Мотрошиловой. М.: РОССПЭН, 2009.
[5] См., например, книги Григория Померанца, публикации ленинградского историка Якова Лурье или статью скрывшегося за псевдонимом Виктора Живова: ТропининИ. «Август четырнадцатого» и русское историческое самосознание // Август четырнадцатого читают на Родине: Сб. ст. и отзывов. Париж, 1973. С. 83–99.
[6] См. книгу материалов о нем: Павел Васильевич Копнин / Под. ред. М.В. Поповича. М.: РОССПЭН, 2010.
[7] См. важную недавнюю книгу: Jones P. Myth, Memory, Trauma. The Stalinist Past as Soviet Culture, 1953–1970. New Haven: Yale University Press, 2013.
[8] Савельев А.В. Номенклатурная борьба вокруг журнала «Вопросы истории» в 1954–1957 годах // Отечественная история. 2003. № 5. С. 148–162.
[9] Всесоюзное совещание историков о мерах улучшения подготовки научно-педагогических кадров по историческим наукам. 18–21 декабря 1962 г. М.: Наука, 1964; Нечкина М.В. К итогам дискуссии о периодизации истории советской исторической науки // История СССР. 1962. № 2. С. 57–76.
[10] См.: История в человеке. Академик М.В. Нечкина. Документальная монография / Отв. ред. Е.Л. Рудницкая, С.В. Мироненко. М.: Новый хронограф, 2011.
[11] Дунаевский В.А. Советская историография новой истории стран Запада. 1917–1941 г. М.: Наука, 1974.
[12] Нечкина М.В. Вопрос о Покровском в постановлениях партии и правительства 1934–1938 гг. о преподавании истории и исторической науке (К источниковедческой стороне темы) // Исторические записки. М., 1990. Т. 118.
[13] Соколов О.Д. М.Н. Покровский и советская историческая наука. М., 1970;Покровский М.Н. Избранные произведения: В 4 кн. М.: Мысль; АН СССР, 1965–1967.
[14] См. подробнее первую главу книги: Неретина С.С. Точки на зрении. СПб.: Русская Христианская гуманитарная академия, 2005.
[15] У философов (в отличие от филологов, большей части историков или психологов) занятия историей советской мысли оказались скорее вотчиной догматиков, а не либералов (см.: Чагин Б.А., Клушин В.И. Борьба за исторический материализм в СССР в 20-е годы. Л., 1975). Владимир Клушин был супругом и единомышленником известной Нины Андреевой, автора антиперестроечного манифеста «Не могу поступиться принципами».
[16] См. красноречивые воспоминания о том, как ближайшие соратники Выготского во второй половине 1950-х не спешили с публикацией и изучением его наследия: Щедровицкий Г.П. Я всегда был идеалистом. М., 2001. С. 71–84.
[17] Здесь нужно упомянуть исследования Игоря Голосенко по истории социологии и особенно (среди немногих исключений): Шереги Ф.Э. Методический аппарат прикладной социологии 20-х годов (проблемы репрезентативности исследований) // Социологические исследования. 1978. № 1. С. 192–201.
[18] См. книгу советского экономиста-эмигранта, вышедшую по-английски в начале 1970-х годов: Ясный Н. Советские экономисты 1920-х годов. Долг памяти. М., 2011.
[19] Ср. об особой роли устной коммуникации в позднесоветской гуманитарной среде: Берелович А. О культе личности и его последствиях // Новое литературное обозрение. 2005. № 76.
[20] См. личную страницу Антона Ясницкого: http://individual.utoronto.ca/yasnitsky.
[21] Аналог этого процесса в позднесоветском поэтическом сознании описан Сергеем Завьяловым: Завьялов С. «Поэзия – всегда не то, всегда другое»: переводы модернистской поэзии в СССР в 1950–1980-е годы // Новое литературное обозрение. 2008. № 92.
[22] Замечательный пример ламентаций такого рода – многочисленные сочинения Виталия Махлина (весьма квалифицированного знатока предмета) о «неверно понятом» на Западе Бахтине.
[23] Об особой роли Бахтина как нравственной инстанции для самых разных кругов середины 1970-х см. в записях Владимира Бибихина: Бибихин В.В. Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич Аверинцев. М.: Институт философии, теологии и истории Св. Фомы, 2004. С. 311–314.
[24] См. его характерные и натужные, сардонически остроумные выпады в адрес шестидесятников: Лифшиц М. Проблема Достоевского (Разговор с чертом). М.: Академический проект, 2013.
[25] Важные общие соображения, относительно советской «связи времен» см.: Зубок В.М. Д.С. Лихачев в общественной жизни России конца ХХ века. СПб., 2010; Тиханов Г. Проблема преемственности в советское время // Труды «Русской антропологической школы». Вып. 11. М.: РГГУ, 2012. С. 7–43.
Опубликовано в журнале:
«Неприкосновенный запас» 2014, №1(93)
Диссертации, рейтинги, индексы: о критериях оценки научной деятельности
Андрей Михайлович Ранчин (р. 1964) – литературовед, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры ЮНЕСКО Международного института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.
На протяжении последних лет, особенно в 2012-м и 2013 году, правительством, Министерством образования и науки, Высшей аттестационной комиссией РФ были приняты многообразные изменения в правилах, по которым долгое время жила отечественная наука, формировалась научная среда, – были внедрены новые критерии оценки эффективности и качества ученых трудов. Цель настоящей статьи рассмотреть некоторые из этих инноваций, ограничившись последствиями их внедрения в науках гуманитарных, автору статьи достаточно хорошо знакомых.
Похвала Плагиату
О том, что ситуация с защитой диссертаций скверная и плачевная, было ясно уже довольно давно. Большинство научных руководителей и членов диссертационных советов, думаю, согласятся с моим мнением: средний уровень диссертаций неуклонно снижается, упал он, в частности, и по сравнению с позднесоветскими годами. (И это, несмотря на неблагоприятные идеологические условия советской эпохи, вопреки идеологическому вирусу, заражавшему, пусть не повсеместно, гуманитарную науку.) Причины дел наших скорбных ясны. Прежде «остепенившиеся» обычно шли работать в науку и высшее образование: желание защитить диссертацию «просто так» было большой редкостью. Сейчас же, с одной стороны, кандидатский, и особенно докторский, диплом воспринимаются как знак определенного статуса. Прошли те времена, когда хозяева некоторых фирм желали, чтобы у них работали уборщицы со званием не ниже кандидата наук. Зато ученая степень стала родом лестной и ценной награды и для высокопоставленного государственного служащего, и для депутата, а порой и для бизнесмена. Но и для обыкновенных сотрудников частных компаний ученые степени бывают не всегда лишними – их ценность для начальства еще не девальвировалась. С другой стороны, ученая степень пока что гарантирует получение надбавки сотрудниками бюджетных организаций – отнюдь не только вузов и НИИ. Надбавка, в общем-то, невеликая, но и не лишняя. Вот и потянулись за степенями все, кому не лень, и в этом потоке утонули диссертации, подлинно ценные и замечательные. Министр образования и науки Дмитрий Ливанов заметил в этой связи:
«У нас… если брать за точку отсчета 1993 год, то к 2007 году в 3 раза выросло общее количество диссертаций, как кандидатских, так и докторских, а при этом, например, по политическим наукам – в 10 раз, по экономике – в 5 раз, по социологии – в 6 и так далее, а количество защит по естественным, техническим наукам осталось на том же уровне. При этом я хочу особо обратить внимание, что наибольший рост этой опухоли (я другое слово тут не могу применить) пришелся на период с 1998 по 2005 год. […] За эти годы фактически произошла инфляция научных степеней и званий, фактически возник серый рынок услуг по изготовлению диссертаций под ключ, и фактически наше научное сообщество понесло очень серьезные репутационные потери, потому что люди перестали доверять ученым степеням (и званиям), за каждой из которых стоит государство»[1].
Именование этого процесса «опухолью» – несомненный «перегиб»: как-никак в первые постсоветские годы и политические, и экономические науки, и социология находились, несмотря на ряд блестящих работ, созданных еще в «застойные времена», в полуэмбриональном состоянии, и простое арифметическое сопоставление данных за 1993-й и 2007 год попросту некорректно. А спрятанная в подтекст выступления мысль об «ущербности», о меньшей ценности гуманитарных наук в сравнении с науками естественными и прикладными разработками – взгляд довольно варварский и потому неверный. Ведь именно гуманитарные науки во многом влияют на модели национальной самоидентификации и способны во многом определять вектор развития страны. Но все же политико-экономический флюс действительно имеет место быть, а диссертационный «взрыв» отнюдь не свидетельствует о научном прорыве.
Внимание власть предержащих к проблеме привлекли и скандалы – большие и шумные. Так, в декабре 2012 года плагиат был обнаружен в диссертации кандидата педагогических наук, заведующего кафедрой политологии и социальных коммуникаций Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, первого заместителя председателя комитета по образованию Государственной Думы РФ Владимира Бурматова, после чего он покинул свой пост в комитете[2]. (Кстати, сам Бурматов указывал на плагиатчиков в Министерстве образования и науки.) Примерно тогда же в плагиате был заподозрен директор Специализированного учебно-научного центра имени А.Н. Колмогорова при МГУ Андрей Андриянов[3]. Но все эти скандалы тускнеют рядом с разоблачением председателя диссертационного совета Московского педагогического государственного университета по истории, профессора Александра Данилова: из двадцати пяти проверенных комиссией Минобрнауки диссертаций, защищенных в этом совете, «некорректные заимствования» объемом от 50% до 90% были обнаружены в двадцати четырех работах[4].
В сентябре 2013 года Общество научных работников в ответ на принятие 344-мя депутатами Госдумы «ликвидаторского» проекта реформы Российской академии наук вывесило на своем сайте открытое письмо. В нем были названы фамилии двадцати пяти из этих парламентариев, в чьих диссертационных работах обнаружились явные признаки плагиата; Общество потребовало аннулировать их дипломы[5]. Спустя пару месяцев сообщество «Диссернет» уличило в плагиате диссертации нескольких высокопоставленных чиновников, в том числе заместителя министра образования и науки Александра Климова и главу Рособрнадзора Сергея Кравцова[6].
Общественный резонанс, вызванный разоблачениями высокопоставленных плагиаторов, оказался столь сильным, что политтехнолог Андрей Макаркин даже заявил: министр образования и науки Дмитрий Ливанов подвергся, де, форменной «травле» как один из инициаторов проверок диссертаций на плагиат:
«Ключевая причина атаки – Ливанов наступил на хвост многим влиятельным политическим игрокам. […] Мы, мол, за Родину сражаемся, а нам тут про какие-то липовые диссертации рассказывают… Пока не было этого скандала с плагиатом, не было и такой беспрецедентной травли, […] полуобнаженных девиц в центре Москвы с требованием отставки министра, кампании в Интернете. Ливанов действительно обидел политическую элиту»[7].
Объяснение довольно абсурдное: инициаторами большинства «диссертационных» дел-расследований были ученые и блогеры, а вовсе не ливановское министерство. К тому же Дума, чьи депутаты подверглись обвинениям в «некорректных заимствованиях», поддержала и ливановские реформы, и министра лично. Но, несомненно, тема плагиата перестала быть узкопрофессиональной, превратившись в политическую.
Конкретные обвинения в «некорректных заимствованиях» могут быть доказанными, а могут быть и несправедливыми. Общая картина от этого не меняется. «Дело плагиатчиков» выявило, сколь далека от благополучия практика написания и защиты диссертационных исследований. И в этом смысле господин Плагиат заслуживает похвалы – как и непреходящая госпожа Глупость, некогда саркастически возвеличенная Эразмом Роттердамским.
По плагиату и серости решили «ударить» гаечным ключом и циркуляром. 26 марта 2013 года Дмитрий Медведев заявил на встрече с доверенными аспирантами: «Закручивайте гайки, и пена должна уйти»[8]. На совещании, проведенном в тот же день, премьер-министр усомнился в целесообразности защиты диссертаций госслужащими и представителями крупного бизнеса[9]. Новый председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов объявил о проведении тотального мониторинга всех диссертационных советов. Он предложил в качестве одного из критериев, как свидетельство принципиальности и требовательности, учет количества работ, отклоненных советами[10]. Еще более радикальной была другая идея – запретить защиту диссертаций по месту учебы и работы[11].
Законодательный результат всех этих обсуждений и бдений оказался куда более скромным. «Срок давности» (право проверки работ на соответствие таким требованиям, как оригинальность и научная новизна) по ранее защищенным диссертациям был увеличен до десяти лет (прежде было три года). Была ликвидирована возможность защищаться на основании научного доклада и совокупности ранее изданных статей и книг, без написания диссертационной работы[12]. Диссертантам вменили в обязанность размещать свои работы в Интернете за определенный срок до защиты. Было увеличено количество обязательных публикаций в журналах из списка ВАК: для кандидатов в кандидаты по гуманитарным дисциплинам – три статьи (рост втрое), для кандидатов в доктора – пятнадцать (рост более, чем в два раза, было семь, при этом норма носила формально рекомендательный, а не обязательный характер)[13]. Причем требования к количеству журнальных публикаций были разработаны ВАК еще задолго до эпохи Ливанова и Филиппова[14], а наиболее жесткое – обязательное наличие пяти статей, напечатанных в журналах, которые входят в международные рейтинги цитирования[15], – так и не было принято. Также не была осуществлена бродившая в кулуарах ВАК и Минобрнауки мысль о том, чтобы один из оппонентов даже по кандидатским работам был непременно из ученых иноземцев, – для вящей объективности и строгости оценки.
Убежденность премьер-министра Дмитрия Медведева в том, что от пены можно освободиться «закручиванием гаек», беспочвенна, ибо противоречит как законам физики (пене попросту некуда будет уходить), так и обычаям нашего социума. Представление о том, что порядка и эффективности можно добиться силой административного удара, глубоко неверно, по крайней мере hic et nunc: карающий топор циркуляров и распоряжений вязнет, словно в липком тесте. Академик РАН, председатель экспертного совета по математике и механике Виктор Васильев, заметил еще пару лет назад:
«Оказалось (как будто не было и так очевидно), что никакие формальные требования не гарантируют качества диссертации и не спасают от покупных и невыносимо халтурных работ. […] Но признать этот факт не хочется (потому что это значило бы начинать реальную, а не формально-показную борьбу с безобразиями), поэтому накручиваются все новые и новые цифры, которые опять не приводят к результату, из этого опять делается вывод, что, наверно, цифры были недостаточными, и т.п. […] На самом деле эти неразумные цифры только усугубляют положение, поскольку купить диссертацию или организовать лишний пяток публикаций – действия примерно одного порядка, и для околонаучного комбинатора не слишком большое препятствие. Напротив, все новые требования бьют прежде всего по тем, кто занимается наукой ради постижения истины и радости открытия и, соответственно, публикуется для того, чтобы познакомить коллег с интересными новостями. Для них это принуждение флудить публикациями и унизительно, и отрывает от настоящего дела»[16].
И правда: стоило появиться новым правилам, увеличивающим количество публикаций, как сайты компаний, предлагающих изготовление диссертаций, монографий и статей «под диплом» (а также гарантирующих прохождение защиты), поспешили успокоить погрустневших соискателей: все в порядке, работаем, как прежде. Только цены за услуги вырастут. Don’t worry, be happy!
Увеличение числа обязательных публикаций в журналах, рекомендованных ВАК, никак не может являться препоной на пути недобросовестности и некомпетентности. Только этот список появился, расплодились, как поганки после дождя, никому не известные журналы, без мыла пролезшие в заветный перечень, в который не сразу попали многие известные периодические издания[17]. Опубликоваться в них не составляло труда – были бы деньги, которые взимались совершенно официально и законно. История одной такой публикации стала подлинной притчей во языцех. Михаил Гельфанд, заместитель директора Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича, под именем аспиранта М.С. Жукова отправил в курский «Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов» статью с интригующим названием «Корчеватель: алгоритм типичной унификации точек доступа и избыточности». Статья, автору которой люто позавидовали бы Кафка, Беккет и Ионеско вместе взятые, представляла собой электронный перевод бессмысленного текста, изготовленного компьютером в Массачусетском технологическом институте. В этом подлинно новаторском исследовании доказательно утверждалось, например, следующее:
«Ключевая пара “общественная – частное” и красно-черные деревья редко совместимы, поскольку обычные объекты визуализации не могут быть применимы в этой области».
«[Предлагается] обратить внимание на то, что развертывание 16-разрядной архитектуры скорее, чем эмуляция ее в программном обеспечении, приводит к менее зубчатым и более воспроизводимым результатам».
Судьба научного сочинения господина Жукова, в отличие от письма на деревню дедушке, оказалась счастливой: статья была добросовестно отрецензирована и напечатана на страницах курского журнала, который входил в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», составленный ВАК РФ[18].
Несомненно, сама по себе идея перечня «особо доверенных» ваковских журналов глубоко порочна. Она отчасти взята из международной практики, но с «лица необщим выраженьем». Рекомендованными ВАК изданиями считаются только журналы, но не научные сборники, и это соответствует международной научной традиции, отдающей определенное предпочтение именно публикациям в научной периодике. Однако для защиты диссертации на соискание не только магистерской степени, но и степени доктора философии (Ph.D. в англосаксонской традиции) публикации в журналах из какого бы то ни было обязательного перечня не требуются; мало того, иногда диссертации защищаются, даже если у соискателя вообще нет публикаций по теме.
Полнейшее пренебрежение, выказанное со стороны ВАК научным сборникам, и благоволение журналам объясняется, очевидно, тем, что критерии отбора «правильных» изданий выработаны с ориентацией на естественные и технические науки: в них наиболее весомыми традиционно считаются (и являются по существу) статьи, напечатанные в научной периодике. Однако для докторантов по этим дисциплинам, по крайней мере механике и математике, следовало бы, как предлагал академик Виктор Васильев, требовать наличия «публикаций в полностью реферируемых журналах или серийных изданиях, входящих в международные базы цитирования и полностью переведенных или изданных на английском языке». При этом Виктор Васильев подчеркивает, что его рекомендации не применимы в отношении некоторых других научных дисциплин[19].
В случае с гуманитарными науками ситуация становится уже совершенно фантасмагорической: статьи в поминавшемся выше курском «Журнале научных публикаций аспирантов и докторантов» и в других «Рогах и копытах» журнального формата признаются, а публикации в научных сборниках, изданных академическими институтами или ведущими научно-исследовательскими университетами, – нет! В чем неоспоримое преимущество журнала перед научным сборником, превосходство a priori? В наличии редколлегии? Но она обычно есть и в сборниках. (К тому же члены журнальных редколлегий далеко не всегда даже знакомятся с печатаемыми статьями.) В грифе соответствующей научной институции? Но в сборниках он имеется, а в ваковских журналах – не обязательно. В рецензировании статей перед их публикацией? Но отечественные журналы редко практикуют рецензирование своих материалов. Остается чисто формальный принцип – периодичность.
В 1960–1980-е годы одним из самых известных отечественных гуманитарных научных изданий были тартуские «Труды по знаковым системам» (серия в составе университетских «Ученых записок») – значение их было мировым. Но в список ВАК они пробрались бы с большим трудом, пóтом и кровью: периодичность-то не строгая…
Непринятое предложение сделать обязательными публикации в журналах, входящих в международные списки-рейтинги, такие, как «Web of Science», «Scopus» и прочие, было бы вполне разумным, если бы не чрезмерная лаконичность этих списков в отношении гуманитарных изданий. Журналов по этим областям знания почти нет в списке индекса. Особенно не повезло филологии. Отсечены оказались многие лучшие не только российские (хотя такие издания, как «Новое литературное обозрение», «Известия Отделения литературы и языка Российской академии наук» или «Вопросы литературы», нимало не уступают иноземным), но и зарубежные журналы – в списке «Web of Science» нет, например, ни австрийского «Wiener Slawistischer Almanach», ни польского «Slavia Orientalis». Российские гуманитарные науки приговорены этим рейтингом почти что к небытию. Кроме того, введение правила пяти обязательных публикаций для докторантов в журналах из международных перечней вырубило бы на корню провинциальную науку – как вишневый сад в пьесе Чехова. Добыть желанную «пятерку», впрочем, было бы не так просто даже московским или питерским соискателям: их много, а журналы ведь не резиновые, их – даже при наличии хорошей научной репутации у автора – на всех не хватит.
Правило непременных публикаций в зарубежных изданиях могло бы стать обязательным для докторантов – исследователей других культур, иностранной литературы, истории, философии и так далее. Но при этом иностранные научные сборники (как, естественно, и российские) нужно приравнять к журналам. С гуманитариями-русистами все сложнее. За границей, конечно, есть немало блестящих ученых-русистов, печатаются замечательные журналы и сборники, посвященные штудиям в области русской культуры, истории, философии, искусства, словесности, но прекрасные журналы и сборники имеются и в самой России – издания, публиковаться в которых считают честью для себя иностранцы. С одной стороны, вменение в обязанность докторантам напечататься «за бугром» может хотя бы частично отсеять диссертационный «мусор» от зерен. С другой, – по существу это признание себя своего рода «научной колонией», которой в делах научно-административных не прожить без опеки и надзора чужеземного «господина оппонента». Кажется, никто в мире пока такие правила не вводил.
Кроме того, авторитетность международных списков не равноценна. Показательна появившаяся в Рунете услуга – публиковать за весьма приличные деньги статьи в нескольких иностранных англоязычных журналах, входящих в базы «Scopus» и «Web of Knowledge». (Услуга скромно именуется «помощь в публикации», но редактирование, перевод и прочее оплачиваются дополнительно.) Естественно, журналы, которые превратили в прибыльный бизнес публикацию «научных» статей за большую плату, взимаемую с авторов, никакого авторитета иметь не могут. Однако же имеют – в соответствии с положениями Перечня ведущих периодических изданий ВАК РФ для журналов, входящих в международные базы / индексы цитирования, не нужно выполнять правила, обязательные для российских периодических изданий для включения в заветный и желанный список[20].
Главное – критерии, по которым диссертация допускается к защите, должны быть разными – в зависимости от особенностей научной специальности.
Что же касается периодики из ваковского перечня, то из него надо вычистить все «отстойники»; выбросить журналы, печатающие соискателей за деньги и предназначенные только для метящих в кандидаты и доктора; подвергнуть остракизму издания, не имеющие никакого научного резонанса, никем не читаемые и не цитируемые, заклейменные нулевыми импакт-факторами[21]. К сожалению, современная тенденция скорее противоположная: один за другим по финансовым причинам закрываются журналы с не самой плохой репутацией (например, «Русская речь» или «Филологические науки»), дамоклов меч навис над гуманитарными сериями «Вестника Московского университета». Спрашивается: куда аспиранту и докторанту податься? В «Рога и копыта»?
Статус монографий необходимо определить более точно, чем сейчас, когда монография – результат значительно большего труда и, в идеале, несоизмеримо большей ценности, чем статья, – обыкновенно приравнивается к одной ваковской статье, но при этом во многих советах рассматривается как обязательное условие для принятия к защите. Необходимо было бы принять четкие правила относительно книг диссертантов. От соискателя кандидатской степени требовать монографию, конечно, нельзя, и случаи, когда такие требования выдвигаются советом, должны быть основанием для административного расследования. Для докторантов же, вероятно, наличие по крайней мере одной монографии обязательно. Как мне представляется, монография должна приравниваться не менее, чем к пяти статьям. Но должен быть определен и ограничен круг издательств (по индексам цитирования их публикаций, по количеству ранее опубликованных научных книг, рецензиям на них и так далее), и на книгу докторанта должны быть опубликованы рецензии – не менее двух (одна из них, возможно, в иностранном научном журнале). Впрочем, принятие этого условия будет целесообразным, только если во всех научных или научно-учебных институтах будет организована полноценная издательская деятельность. Сейчас же, к стыду и сожалению, даже в некоторых из самых известных институтов, как например, в МГУ, она влачит полуобморочное существование.
Отказ от защит «по совокупности» никакого энтузиазма у автора этих строк не вызывает. Если защита «по совокупности» проходит на основе действительно ценных монографии и статей, эта процедура ни в чем не уступает защите обычного диссертационного кондуита. Разве что в монографии отсутствуют набившие оскомину рубрики «Актуальность», «Новизна», «Цель» и «Задачи», и обычно (но далеко не всегда) нет обзора литературы, что тоже не беда: о подлинном освоении литературы вопроса свидетельствуют цитаты и сноски.
Публикация текста диссертации в Интернете за несколько месяцев до защиты[22]– норма неоднозначная. Естественно, облегчается доступ к ней заинтересованных читателей из научной среды и тем самым общественная экспертиза. Но облегчается и возможность разного рода диффамаций – вызванных как личной неприязнью к диссертанту, так и политическими мотивами. А можно такую диссертацию и слямзить.
Непрошедшее пожелание судить об эффективности и принципиальности диссертационных советов по числу отклоненных работ отдает прекраснодушной маниловщиной: между отделами, кафедрами и соответствующими советами ведется порой настоящее соцсоревнование за показатели «остепенения» – кто больше! И ни один председатель совета, принимая к защите диссертацию, прошедшую предварительное обсуждение в отделе или на кафедре, не желает ее провала.
Что же касается наиболее яркой и сильной «филиппики» – идеи запретить защиты по месту учебы или работы, – то она тоже стоит маниловских мечтаний о мосте с лавками, перекинутом через пруд, и о бельведере, с которого саму Москву видно. Председатели, секретари и даже члены диссертационных советов по одной и той же специальности нередко хорошо знают друг друга и без труда рано или поздно наладят бартер: я тебе внешний отзыв, ты мне – кандидата. И наоборот. «Ну как не порадеть родному человечку!» Стоит лишь уточнить, что совсем уж полная халтура пройдет далеко не в каждом совете.
Теоретически возможны действия еще более радикальные. Например, отмена надбавок за ученую степень в бюджетной сфере. И это было бы справедливо: получение денег за ученую степень не должно быть своего рода феодальной привилегией, дающей право на финансовую ренту, пусть и ничтожную. Правда, осуществить такое усекновение зарплат уже работающим сотрудникам бюджетных учреждений, обеспечивающих лишь весьма скромное существование, было бы форменным людоедством. Но в отношении работников будущих такое решение было бы возможным, хотя и жестоким. Так ставится препона для тех, кто решил защитить диссертации не ради науки, а из соображений меркантильных.
Идея еще более «экстремистская» – связать ученые степени с реальной научной деятельностью кандидата и докторанта после защиты независимо от того, работает ли он в научной организации или где-либо еще. Ученые степени диссертантов, в течение определенного времени не опубликовавших значимых научных работ, не участвовавших в конференциях, в том числе международных, попросту «сгорают», аннулируются. Таким образом хотя бы частично отсекаются госслужащие, депутаты, бизнесмены и прочие, вознамерившиеся «остепениться» «для престижу». Какими могут быть критерии плодотворной научной работы – вопрос особый.
Вообще же система ученых степеней и званий – явный феодально-бюрократический архаизм вроде классов в петровской Табели о рангах, а процедура защиты и присвоения степени – отдаленное подобие жестокого обряда инициации, во время которого посвящаемого в полноценные члены коллектива мужчин-воинов подвергали жестоким истязаниям. Наука – конечно, какой она должна быть, – область творчества и свободы, чины и звания в ней мало уместны. Свою состоятельность и свою репутацию ученый доказывает постоянно и повседневно. Ученая степень не может быть гарантией будущих неизменных достижений и не должна быть индульгенцией на последующую леность и атрофию воли к знанию. Показательно, что жесткая корреляция между учеными степенями и научными должностями, как и между учеными степенями и учеными званиями, соблюдается в отечественных науке и образовании сейчас не всегда и не везде: доцентом иногда может быть и не «остепененный» преподаватель, профессор или ведущий научный сотрудник – не быть доктором. Но, как правило, корреляция все-таки соблюдается. Причем во всем подлунном мире. Отказ от системы ученых степеней, видимо, невозможен. Но осознание ее условности необходимо.
Что же касается плагиаторов и бездарей, то они тоже останутся. А иные увенчают себя лаврами кандидатов и докторов наук. Пена дырочку найдет. Тем более, что власть по существу, кажется, совершенно не озабочена качеством диссертационных исследований. Иначе невозможно объяснить легальное и безмятежное существование нескольких сайтов в Рунете, открыто предлагающих сделать за соискателей все: от написания диссера со статьями и монографиями до подбора оппонентов и проведения защиты. Прейскуранты прилагаются. А в это же самое время проблемой плагиата озаботились некоторые журналы, входящие в перечень ВАК и опасающиеся проверок своих публикаций этим ведомством: они стали «прогонять» статьи через систему «Антиплагиат», в результате чего возникли претензии к авторам, например, за чрезмерное цитирование – слишком много совпадений с чужими текстами. Абсурд крепчал: по таким механистическим критериям подозрение в малой оригинальности могли бы вызвать, например, работы Александра Веселовского, Бориса Успенского или Владимира Топорова, не гнушавшихся обильного цитирования. Оригинальность идей «Антиплагиат» ведь оценить не в состоянии.
Нет у власть предержащих и мало-мальски внятной идеи, для чего нужны аспирантура и диссертационные исследования. В марте 2013 года на совещании у премьер-министра Дмитрий Ливанов недовольно заметил:
«40% кандидатских диссертаций защищается без обучения в аспирантуре, через соискательства, и это опять-таки наиболее распространено среди экономистов, педагогов, юристов и так далее»[23].
Получается, что начальник Минобрнауки мыслит аспирантуру прежде всего как учебное заведение, в то время как она предоставляет прежде всего возможности для самостоятельной научной работы, для участия в конференциях, для выступлений на заседаниях аспирантских научных объединений, для доступа в архивы, для консультаций с научным руководителем. Мало того: ни в одном из документов, отправленных министерством Дмитрия Ливанова в вузы и научные институты, целью аспирантуры не названа подготовка диссертаций, зато вменено в обязанность проведение многочисленных регулярных учебных занятий для аспирантов! В таком случае вся «диссертационная» реформа превращается в имитацию, а подлинной задачей инноваций оказывается только сокращение бюджетных затрат на выплаты аспирантам, докторантам и «остепенившимся» кандидатам и докторам, но вовсе не улучшение качества научных исследований[24].
На весах Хирша
Почти одновременно с «диссертационной» проблемой Министерство образования и науки, а также Российская академия наук озаботились выработкой критериев эффективности и качества ученых трудов. Как уже говорилось, научные издания были выстроены по ранжиру: журналы оценили выше, чем сборники; среди журналов приличными оказались насельники ваковского списка, а самыми достопочтенными названы высокорейтинговые участники международных баз. Именно по этому принципу разработана, например, система ИСТИНА, внедренная в МГУ и предназначенная «для учета и анализа научной деятельности сотрудников организаций»[25]. Подобным же образом была выстроена ценностная иерархия научных публикаций в РАН, причем за публикации в иностранных изданиях начали выплачивать надбавки бóльшие, чем за статьи в изданиях российских.
В качестве инструмента, измеряющего вклад в науку, был позаимствован американский индекс Хирша, подсчитывающий пропорцию между количеством научных работ исследователя и числом ссылок на эти работы. Доморощенным вариантом индекса Хирша стал Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), который, как и следовало ожидать, начал создавать списки только журнальных публикаций российских авторов. Правда, в системе РИНЦ были частично учтены (логика учета/неучета не поддается пониманию[26]) цитаты из монографий и сборников, однако опять-таки фиксировались случаи их цитирования лишь в журнальных статьях. Помимо измерения в «хирше-ринцах», научную деятельность было решено мерить международными индексами цитирования «Web of Science» и «Scopus».
В роли дополнительного критерия весомости публикаций РИНЦ стал использовать такой признанный за границей инструмент, как импакт-фактор – индекс цитирования журнала, в котором вышла публикация.
На пишущего эти строки внедряемая на просторах отечества международная система инструментов оценки производит двойственное впечатление. Изменение ситуации в чем-то благотворно: например, после введения этих рейтингов стала учитываться и хоть как-то материально поощряться научная деятельностью университетских преподавателей, до недавнего времени нередко воспринимавшаяся администрацией на местах только как странноватое личное хобби[27]. Надбавки за публикации для сотрудников Академии наук, получающих – по крайней мере в гуманитарных институтах – полунищенские зарплаты, тоже оказались не лишним подспорьем. Правда, за доплаты пришлось расплачиваться заполнением вороха бюрократических документов.
Однако объективность критериев оставляет желать лучшего. Выше, в связи с обсуждением перечня научных журналов, рекомендованных ВАК, уже было сказано, что незаслуженно недооценены публикации в сборниках и особенно научные монографии. «Журнальный флюс» для гуманитарных дисциплин – болезнь неприятная и тяжелая. Упоминал я и о том, что особое почтение к высокорейтинговым журналам для отечественного гуманитарного знания, в первую очередь для русистики, мало приемлемо. Но главное – хромают индексы цитирования. Ни один индекс ничего не говорит о семантике, о природе цитирования работы одного автора другим. Системы индексов не различают глухую «дежурную», «этикетную» ссылку и развернутую цитату с толкованием, не отличают усвоение и развитие идеи ни от плодотворной полемики, ни от голого отрицания. Одна из моих знакомых, сотрудница академического института, точно подметила, что по индексу цитирования какой-нибудь псевдоисторик Анатолий Фоменко со товарищи, выдумавшие концепцию «новой хронологии», легко обгонят серьезных ученых, ибо цитируют их настоящие историки много, но вот только неизменно оспаривая и отрицая, пытаясь ниспровергнуть их авторитет у непрофессиональной читающей публики.
В мире уже давно существует и такая практика, как «возгонка» индекса учеными, обращающимися к своим знакомым, встречным и поперечным, со слезной просьбой одарить парой-тройкой цитат. Конечно, этим суетным делом заняты далеко не все. Речь о другом – о том, что индекс цитирования, хотя бы в какой-то степени, можно повысить не только научными заслугами. Есть и явление обратное: замалчивание чужих работ, отказ от их цитирования по причинам не самым благовидным – обиды, зависти и так далее. Ученые – тоже люди, а люди, как известно, несовершенны.
Импакт-фактор журнала может кое-что сказать о достоинстве публикации. Но отнюдь не все. Само по себе появление статьи в качественном журнале с высоким индексом цитирования не всегда свидетельствует о ее собственном научном достоинстве. Как и наоборот: в издании, посредственном и сером, можно порой обнаружить настоящую жемчужину.
Но совсем скверно иное. Ситуация, когда учитываются цитаты только в журналах, искажает реальную картину, как искажает ее кривое зеркало. Цитирование работ ученого в монографиях других исследователей, по определению, ценнее, чем в журнальных статьях, потому что монография – труд, более концептуальный и объемный, и ее автор стремится максимально полно отразить работы, посвященные той же теме.
Грехи и огрехи критериев научной деятельности в главном – те же, что и изъяны в требованиях, предъявляемых к диссертантам. Совершенно не учитываются объект исследования и природа специализации: гуманитариев и технарей мерят по одному шаблону, словно рекрутов, отбираемых в гренадерский полк.
Но совсем дико выглядят критерии научной эффективности, связанные с участием в научных конференциях. Осенью 2013 года в соответствии с настоянием Минобрнауки и ВАК проводился мониторинг диссертационных советов, членов которых заставляли заполнять несколько таблиц. Была среди них таблица, в которой требовалось указать участие в конференциях. Принимались во внимание только те конференции, «организаторами которых являются ведущие международные профессиональные ассоциации в соответствующей дисциплине, а также организации, входящие в перечень, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 812-р». В означенный перечень[28] были включены зарубежные университеты, чьи дипломы решили признать в России. Не хочу оценивать сам список, хотя вопросы он вызывает[29]. Изумительно другое: было принято считать настоящими, полноценными конференциями либо те, что проводятся международными ассоциациями (например, Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы), либо те, которые организуются иностранными университетами и институтами. Конференции, проводимые ведущими академическими институтами и научно-исследовательскими университетами России, признания не удостоились – их просто выбросили вон. С какой стати, например, иностранные университеты, перед которыми правительство присело в глубоком реверансе, были приравнены к международным ассоциациям? Но если уж предаваться греху недомыслия, то надо быть последовательными. Почему же тогда российские институты оказались ущемлены в правах? Или иностранные лучше только потому, что они не наши?
Мне уже приходилось однажды писать по поводу реформ российского образования, затеянных в последние годы, как о примере унизительного и безумного «низкопоклонства перед Западом» (впрочем, как и перед Востоком)[30]. Это жутковатое выражение моему лексикону глубоко чуждо. Однако адаптация правительственного распоряжения министерством Дмитрия Ливанова и ведомством Владимира Филиппова заставляет повторить его вновь.
Несомненно, принятые критерии научной эффективности требуют серьезной корректировки. Необходим учет особенностей конкретных научных специализаций, следствием чего должен стать отказ от индексов «Web of Science» или «Scopus» как от основных и общезначимых, преимущественная ориентация на собственные индексы и рейтинги, в которых – для гуманитарных специальностей – должны присутствовать статистические данные о публикациях в научных сборниках и монографиях. Индекс цитирования в гуманитарных дисциплинах должен отражать цитаты в статьях из научных сборников и монографиях. Однако в этих индексах и рейтингах российского производства следует отражать сведения о публикациях и о цитировании не только в отечественных (как это происходит с РИНЦ), но и в зарубежных изданиях. Конференции, проводимые отечественными и зарубежными институтами, конечно, следует уравнять в правах.
Одним из критериев может быть избрание исследователя в эксперты по научным проектам.
Но абсолютизировать идею контроля и учета, плодом которой явились и зарубежные индексы и рейтинги, как и РИНЦ, не стоит. Такая сверхтонкая материя, как наука, и тем более наука не прикладная, да еще и гуманитарная, не поддается строгому измерению ни в граммах, ни в джоулях, ни в скопусах и ринцах. Меряться рейтингами – занятие не очень умное и не особенно приличное. Критерий основной – это научная репутация. Будет хорошо, если отечественные реформаторы и модернизаторы это осознают. Если, конечно, главной их целью является именно сбережение и приумножение российской науки. Властные решения последних лет говорят об обратном. Это и «реформа» РАН, направленная прежде всего на сокращение бюджетных трат и «освобождение» Академии от недвижимости, а отнюдь не на реальное улучшение положения ученых и продуктивности их работы[31]. И обременение преподавателей ведущих университетов (например, РГГУ) независимо от должностей и званий педагогической нагрузкой в 900 часов (что превышает количество часов по ставке школьного учителя), а порой и выше[32]: в таких условиях серьезная научная деятельность становится попросту невозможной.
[1] Дмитрий Медведев провел совещание о совершенствовании системы подготовки и аттестации научных и научно-педагогических работников.2013. 26 марта (http://минобрнауки.рф/новости/3221). В речи премьера на этом совещании мысль о засилье «остепененных» юристов и экономистов в ущерб естественникам и прикладникам прозвучала уже открыто.
[2] См. об этом: Кандидаты липовых наук и как спасти репутацию Бурматова?(http://don-beaver.livejournal.com/110741.html); Депутаты просят Госдуму проверить диссертацию Бурматова на плагиат // Forbes.ru. 2012. 13 декабря (www.forbes.ru/news/230951-deputaty-prosyat-genprokuraturu-proverit-disse...); Тарануха А. Известный челябинский астрофизик поставил под вопрос ученую степень Бурматова // Uralpress.ru. 2012. 26 ноября (http://uralpress.ru/news/2012/11/26/izvestnyy-chelyabinskiy-astrofizik-p...);Кандидатский максимум Бурматова: диссертация первого заместителя Комитета по образованию Госдумы похожа на плагиат // Новая газета. 2012. 10 декабря (www.novayagazeta.ru/politics/55804.html?p=3).
[3] Онуфриева З. Директор СУНЦ МГУ и член ОНФ Андрей Андриянов обвиняется в подлоге и плагиате // Слон.ру. 2012. 22 ноября (http://slon.ru/fast/russia/v-chem-obvinyayut-novogo-direktora-sunts-mgu-...); Плагиат стоил должности // Expert Online. 2013. 4 февраля (http://expert.ru/2013/02/4/plagiat-stoil-dolzhnosti/?ny).
[4] Глава диссовета МПГУ со скандалом уволен из вуза // НТВ. 2013. 2 февраля (www.ntv.ru/novosti/455199/).
[5] См.: Черных А., Чуракова О. Ученые назвали депутатов с фальшивыми диссертациями (http://news.mail.ru/politics/14784271/?frommail=1).
[6] См.: Установлено наличие плагиата в диссертациях сразу нескольких чиновников // Независимая газета. 2013. 14 ноября (www.ng.ru/news/449302.html).
[7] Борта Ю. Кто «сливает» Ливанова. Те, кому он наступил на хвост с их купленными диссертациями? // Аргументы и факты. 2013. № 18. С. 17; Тагаева Л. Кто заказал Ливанова? // Слон.ру. 2013. 25 апреля (http://slon.ru/russia/kto_zakazal_livanova-936226.xhtml).
[8] Новые требования к защите диссертаций пойдут на пользу науке – председатель ВАК Владимир Филиппов // ИТАР-ТАСС. 2013. 30 сентября (www.itar-tass.com/c95/896391.html).
[9] Дмитрий Медведев провел совещание...
[10] Емельяненков А. Пена сойдет, наука останется: принципы работы ВАК радикально изменятся уже в этом году // Российская газета. 2013. 4 апреля (www.rg.ru/2013/04/04/vak.html).
[11] Глава ВАК предлагает запретить защиту диссертаций по месту учебы // РИА «Новости». 2013. 6 марта (http://ria.ru/society/20130306/926197383.html).
[12] По словам председателя ВАК Владимира Филиппова, это решение связано с тем, что «было много злоупотреблений со стороны, в основном, начальства, защищавшегося облегченным способом» (Новые требования к защите диссертаций…).
[13] Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842. Приложение: «О порядке присуждения ученых степеней», пункт 13 // Российская газета. 2013. 1 октября (www.rg.ru/2013/10/01/stepen-site-dok.html).
[14] Требования к защите диссертаций планируют повысить // Полит.ру. 2011. 12 апреля (www.polit.ru/news/2011/04/12/vak_project/).
[15] См.: Демина Н. Уход от списков // Полит.ру. 2011. 20 апреля (http://polit.ru/article/2011/04/20/vasilyev_vak/).
[16] Там же.
[17] А иные не попали и по сей день. С большим трудом получили для себя место в списке ВАК «Труды Отдела древнерусской литературы» Института русской литературы РАН – лучшее серийное издание, посвященное специально древнерусской словесности. Отказывали под предлогом, что оно не является строго периодическим.
[18] См. об этой истории: Водолазкин Е. Инструмент языка: о людях и словах. М., 2012. С. 92–97.
[19] Демина Н. Указ. соч.
[20] См.: Перечень ведущих периодических изданий (vak.ed.gov.ru/help_desk/list/).
[21] Ср. наблюдения за импакт-факторами ваковских журналов по социологии; у абсолютного большинства этот признак оказался ничтожным: Илле М. Список ВАК: элитарный журнальный клуб или профанация качества научных публикаций // Телескоп. 2013. № 2(98). С. 40–42.
[22] Для кандидатских – установленная норма один месяц, для докторских – три. С начала 2014 года стало обязательным еще и размещение в Интернете официальных отзывов на диссертации.
[23] Дмитрий Медведев провел совещание…
[24] Между прочим именно такая задача поставлена перед Федеральным агентством научных организаций (ФАНО), которое должно не только управлять имуществом реформируемой Российской академии наук, но и выделять (или не выделять) деньги институтам, финансировать (или не финансировать) научные проекты и тому подобное. В пункте 5.15 Положения о ФАНО агентство прямо и откровенно определено как «главный администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета». См. анализ Положения, принадлежащий директору Института проблем передачи информации РАН, академику Александру Кулешову: Чистильщик для Академии: Уничтожение Академии наук как самоуправляемой научной структуры подходит к логическому финалу. Беседовал Андрей Липский // Новая газета. 2013. 25 октября. № 120(2115). С. 5.
[25] ИСТИНА – Интеллектуальная система тематического исследования научно-технической информации (http://istina.msu.ru).
[26] В отдельных случаях сборник или монография попадает в РИНЦ после заключения финансового договора и оплаты услуги.
[27] Едва ли не единственное разительное исключение – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», в котором введена система весьма значительных надбавок за научную работу, причем работы и проекты претендентов проходят обязательную экспертизу. Впрочем, НИУ ВШЭ, перенявший систему таких надбавок, по-видимому, из китайской традиции (на Западе их, например, нет), финансируется с несоизмеримо большей щедростью, чем другие научно-исследовательские университеты. Похожий случай – с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
[28] См.: Перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации, признаваемые на территории Российской Федерации. 25 мая 2012г. // Российская газета. 2012. 25 мая (http://rg.ru/2012/05/25/obrazovanie-dok.html).
[29] Так, например, не ясно, по какой причине в него из южнокорейских институтов попал только Сеульский национальный университет, но был отвергнут старейший Университет Корё.
[30] Ранчин А. Сумерки просвещения. Высшее образование в современной России // Новый мир. 2013. № 7. С. 171–178.
[31] Реальная реформа нужна, Академия наук во многих отношениях является косной структурой, построенной по феодальным принципам. (Другой вопрос – заинтересованы ли и в состоянии ли провести такую реформу и власть предержащие, и руководство РАН.) Но «модернизация» и «оптимизация» по-ливановски может ситуацию только ухудшить.
[32] В бумагах Минобрнауки как максимально допустимая нагрузка фигурируют чудовищные 1250 академических часов.
Опубликовано в журнале:
«Неприкосновенный запас» 2014, №1(93)
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























