Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
В Татарстане находилась делегация Азербайджанской Республики для решения вопросов экономического сотрудничества, в том числе и в области лесного хозяйства.
Бакинские гости побывали в Сабинском лесничестве, где познакомились с работой Лесного селекционно-семеноводческого центра Республики Татарстан, и в лесном базисном питомнике ГБУ "Учебно-опытный Пригородный лесхоз", в котором их заинтересовал ассортимент крупномерного посадочного материала - голубые ели, тополь, туя.
Достигнута договоренность о подписании соглашения о поставке посадочного материала, произведенного в лесных питомниках и Лесном селекционно-семеноводческом центре Республики Татарстан, для лесовосстановительных работ Азербайджана.
Президент Приднестровья Евгений Шевчук в ходе своего визита в Москву встретился с представителями Администрации Президента РФ и Правительства РФ, передает "Новый Регион". По информации пресс-службы Президента ПМР, на встречах глава приднестровского государства обсудил вопросы развития приднестровско-российских отношений.
21 февраля Евгений Шевчук принял участие в международной конференции "Евразийский экономический союз: пути к новым горизонтам интеграции". На конференции собрались эксперты, политологи, политики из России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Молдовы, Армении, Азербайджана, Киргизии и Таджикистана.
В ходе обсуждения перспектив создания Евразийского союза были рассмотрены ключевые задачи, проблемы и вызовы, стоящие перед интегрирующимися странами на пути укрепления ими многостороннего сотрудничества в политической, экономической и технологической областях.
Эксперты говорили и о том, насколько реальна идея формирования нового союза и каковы перспективы его расширения. Александр Комаров.
В гражданской авиации государств-участников межгосударственного Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства в 2011 году произошло 50 авиационных происшествий, в том числе 28 катастроф, в которых погибли 187 человек. Об этом говорится в материалах Межгосударственного авиационного комитета (МАК), передает AK&M.В коммерческой авиации имели место 26 авиапроисшествий, в том числе 13 катастроф, в которых погибли 164 человека.
В авиации общего назначения имели место 24 авиапроисшествий, в том числе 15 катастроф, погибли 23 человека.
По государственной принадлежности воздушных судов авиационные происшествия распределились следующим образом: РФ - 38 авиапроисшествий, в том числе 22 катастрофы, погибли 139 человек, Украина - 6 авиапроисшествий, в том числе 3 катастрофы, погибли 6 человек, Азербайджанская Республика - 2 авиапроисшествия, в том числе 1 катастрофа, погибли 9 человек, Республика Беларусь - 1 катастрофа, погиб 1 человек, Грузия - 1 катастрофа, погибли 32 человека, Республика Казахстан - 1 авиапроисшествие, Кыргызская Республика - 1 авиапроисшествие.
В целом, в 2011 году абсолютные показатели состояния безопасности полетов ухудшились по сравнению с 2010 годом. Количество авиационных происшествий и катастроф по всему парку воздушных судов возросло: до 50 авиапроисшествий в 2011 году с 43-х в 2010 году; до 28 катастроф в 2011 году с 20 в 2010 году.
В 2011 году по абсолютному показателю количество авиационных происшествий с тяжелыми самолетами (10 авиапроисшествий) осталось практически на уровне 2010 года (11 авиапроисшествий). Однако возросло количество катастроф: в 2011 году 7 катастроф, в 2010 году - 4-е. Тяжесть катастроф в 2011 году существенно выросла - в 2010 году погибли 25 человек, в 2011 году - 153 человека.
На легких и сверхлегких самолетах количество авиапроисшествий уменьшилось на одно (7 авиапроисшествий, в том числе 2 катастрофы с гибелью 4-х человек в 2010 году; 6 авиапроисшествий, в том числе 2 катастрофы с гибелью 5 человек в 2011 году).
На вертолетах количество авиапроисшествий осталось практически на уровне 2010 года (9 авиапроисшествий, в том числе 5 катастроф, погиб 21 человек в 2010 году, 10 авиапроисшествий, в том числе 4 катастрофы, погибли 6 человек в 2011 году).
Существенно возросло количество авиапроисшествий и катастроф с воздушными судами авиации общего назначения (16 авиапроисшествий, в том числе 9 катастроф с гибелью 16 человек в 2010 году, 24 авиапроисшествия, в том числе 15 катастроф с гибелью 23 человек в 2011 году).
В 2011 году возросла тяжесть авиационных происшествий - на всех видах работ и перевозок погибло 187 человек, в 2010 году - 66 человек.
В 2011 году в авиакомпаниях государств-участников Соглашения с тяжелыми самолетами произошло 10 авиационных происшествий, в том числе 7 катастроф, в которых погибло 153 человека.
В 2010 году с тяжелыми самолетами имели место 11 авиационных происшествий, в том числе 4 катастрофы с гибелью 25 человек.
В 2011 году 6 авиационных происшествий произошли на этапах захода на посадку и при посадке, 2 - в процессе взлета, 2 - при выполнении полета.
Ухудшение относительных показателей безопасности полетов на тяжелых транспортных воздушных судах при всех видах перевозок в 2011 году обусловлено увеличением количества катастроф при выполнении регулярных и нерегулярных пассажирских рейсов, при выполнении грузовых перевозок число катастроф не изменилось по сравнению с 2010 годом.
Относительный показатель аварийности при выполнении пассажирских перевозок на тяжелых транспортных самолетах в 2011 году остался на уровне 2010 года, что является самым высоким за 5 лет по количеству авиапроисшествий, по количеству катастроф показатель значительно увеличился и превзошел практически в 2 раза показатели последних пяти лет.
При этом показатели безопасности полетов в мировой авиации в 2011 году - одни из самых лучших. Всего в коммерческой авиации с ВС пассажировместимостью более 13 человек произошло 28 катастроф с гибелью 507 человек. Это был второй год с наименьшим числом погибших и третий год - с наименьшим числом происшествий. В 2011 году в мире отмечен самый длительный период без человеческих жертв в истории современной гражданской авиации - 79 дней.
С легкими и сверхлегкими воздушными судами с взлетной массой менее 10 т в 2011 году произошло 6 авиационных происшествий, в том числе 2 катастрофы с гибелью 5 человек. В 2010 году в этой категории воздушных судов имело место 7 авиационных происшествий, в том числе 2 катастрофы с гибелью 4 человек.
Авиационные происшествия с легкими и сверхлегкими самолетами в 2011 году, как и в предыдущие годы, происходили, в основном, из-за нарушений и ошибок пилотов при подготовке и выполнении полетов, невыдерживания скоростей и безопасных высот полета, нарушений требований РЛЭ воздушных судов, личной недисциплинированности пилотов, что является следствием недостатков в профилактической работе и обучении персонала. Два АП, предварительно, связаны с отказом (неисправностью) авиационной техники.
С вертолетами государств-участников соглашения в 2011 году произошло 10 авиационных происшествий, в том числе 4 катастрофы с гибелью 6 человек.
В авиации общего назначения в 2011 году произошло 24 авиационных происшествия, в том числе 15 катастроф с гибелью 23 человек. В 2010 году имели место 16 авиационных происшествий, в том числе 9 катастроф, погибло 16 человек.
Данные по аварийности в 2011 году позволяют утверждать, что по-прежнему в этой сфере деятельности гражданской авиации не налажен действенный контроль за обеспечением и выполнением полетов, отмечает МАК.
Большинство авиационных происшествий, как и в предыдущие годы, связано с грубыми нарушениями правил выполнения полетов, подготовки пилотов и эксплуатации воздушных судов.
Значительная часть авиационных происшествий происходит в результате сваливания ВС из-за ошибок в технике пилотирования при полете на высоте ниже безопасной и отклонений по скорости и крену, а также из-за столкновения ВС с проводами ЛЭП и другими препятствиями.
Среди причин авиационных происшествий также отмечаются: отсутствие необходимой профессиональной подготовки пилотов и допусков для выполнения данных видов полетов; вылеты без метеообеспечения и связи, отклонения от заявленных маршрутов; нарушение технологии выполнения работ, минимумов погоды и безопасных высот; недостатки РЛЭ ЕЭВС. Допуск к эксплуатации ЕЭВС, не имеющих естественных признаков приближения к сваливанию, при отсутствии соответствующей системы сигнализации.
Особую озабоченность вызывает состояние обеспечения безопасности полетов легких и сверхлегких воздушных судов, их техническое обслуживание и подготовка соответствующих специалистов.
Результаты расследования авиационных происшествий с ВС свидетельствует о том, что не выполняются обязательные процедуры по допуску к полетам пилотов, сертификация единичных экземпляров воздушных судов имеет серьезные недостатки, в ряде случаев выдача сертификатов летной годности не обоснована, эксплуатация проводится на самолетах за пределами установленных ресурсов и сроков службы.
Эти и другие недостатки в эксплуатации ВС обусловлены в значительной степени отсутствием документов, четко определяющих порядок деятельности авиации общего назначения, обеспечения и выполнения полетов пилотами-любителями, являющимися собственниками воздушного судна авиации общего назначения.
Рекомендации по результатам расследования авиапроисшествий, направленные на повышение безопасности полетов авиации общего назначения, не выполняются в полной мере.
Для сдерживания негативной тенденции в развитии авиации общего назначения следует изучить и внедрить лучшие примеры зарубежного опыта (прежде всего Северной Америки и Европы) по классификации видов полетов, относимых к авиации общего назначения, а также по производству и обеспечению безопасности полетов в этой сфере деятельности.
В дни северокорейской скорби
Сеул провел военные маневры не там, где хочет Пхеньян
Александр Самохоткин
Всего два часа продолжались вчера в Желтом море маневры армии Южной Кореи, оказавшиеся на поверку достаточно скромными артиллерийскими стрельбами, но в нынешней накаленной атмосфере в отношениях между Севером и Югом они вызвали резкую отповедь со стороны КНДР. Хотя Сеул загодя уведомил Пхеньян о проведении учений (кстати сказать, плановых и регулярных), Северная Корея в ответ предупредила о своей готовности «как к локальному конфликту, так и к широкомасштабной войне». С заявлением на этот счет выступил комитет за мирное объединение Кореи.
Южане провели маневры хоть и в своих территориальных водах, но недалеко от установленной еще американцами после Корейской войны 1950–1953 годов морской делимитационной линии между Югом и Севером, которую КНДР не признает. По этой причине северокорейский комитет вменил Сеулу в вину стремление «сохранить незаконно установленную разграничительную линию и до предела обострить ситуацию на Корейском полуострове». В развитие этого тезиса командование Западного фронта северокорейской армии назвало маневры «заранее спланированной военной провокацией». Еще оно пригрозило — в том случае, если «хоть один южнокорейский снаряд» упадет на территории КНДР — «беспощадными ответными ударами», в том числе по находящейся в пределах досягаемости северокорейской артиллерии резиденции президента Южной Кореи Ли Мен Бака.
Кроме того, стрельбы с использованием боевых снарядов прошли не просто возле спорной линии, а в районе пяти южнокорейских островов, включая Енпхендо, подвергнутого 23 ноября 2010 года (тоже во время учений Юга) северокорейскому артобстрелу. Тогда погибли два морпеха и два мирных жителя, 17 военных и три гражданских лица получили ранения. КНДР заявила, что попала первой под огонь южан, — те эту информацию опровергли. На этот раз комитет за мирное объединение Кореи посулил южнокорейским «поджигателям войны» и «марионеткам США» наказание «гораздо более суровое», чем в 2010 году. При этом северокорейские военные проявили заботу о гражданском населении южнокорейских островов, посоветовав ему в уведомлении для командования армии южан эвакуироваться в безопасные районы и переждать учения там. Примечательно, что власти Южной Кореи этой рекомендации последовали, и островитяне до конца стрельб просидели в подземных убежищах.
Северяне обвинили Вашингтон и Сеул в организации «очередной серьезной военной провокации в то время, когда народ КНДР продолжает выражать скорбь в связи с кончиной любимого вождя Ким Чен Ира» в декабре прошлого года. Южнокорейские СМИ пишут о том, что северянам было не с руки осуществлять их угрозы перед намеченными на 23 февраля и первыми после смерти Кима переговорами в Пекине делегатов КНДР и США по ядерной проблеме КНДР. Эксперты в Сеуле полагают, что грозные заявления направлены в основном «на внутреннее потребление» с целью сплотить северокорейцев вокруг нового лидера Ким Чен Ына, чья власть будет окончательно узаконена на конференции правящей партии в апреле.
Кубок «Шах-Дениза»
В схватке за транзит азербайджанского газа в Европу осталось три проекта
Алексей Гривач
Решение Азербайджана по вопросу доставки газа со второй фазы проекта «Шах-Дениз» в Европу задерживается. Пока из борьбы выбыл только один участник — Интерконнектор Турция–Греция–Италия (ITGI). Выбирать из оставшихся трех участников придется дольше, чем планировалось. Главный фаворит Еврокомиссии, газопровод Nabucco, стремительно терявший шансы на успех, решил представить Азербайджану новую усеченную концепцию.
Консорциум по разработке месторождения «Шах-Дениз» на азербайджанском участке шельфа Каспийского моря к 2017 году собирается начать добычу в рамках второй фазы проекта. Мощность — 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд Азербайджан обязался поставлять в Турцию, а 10 млрд планирует экспортировать через турецкую территорию в Европу. Соответствующие соглашения между Баку и Анкарой, а также коммерческие договоры консорциума «Шах-Дениз» и турецкой Botas, были подписаны минувшей осенью.
Тогда же технический оператор «Шах-Дениз» — британская ВР, и коммерческий — норвежская Statoil, завершили сбор официальных предложений от потенциальных партнеров, которые собирались строить газопроводы для доставки азербайджанского газа в Европу. Предложения поступили от трех старинных проектов — Трансадриатического (TAP), ITGI и Nabucco, а также от основного участника «Шах-Дениза» — ВР. Компания выдвинула идею доставки газа из Турции в страны Восточной Европы отдельными интерконнекторами, получившую название Юговосточноевропейский газопровод (SEEP). TAP и ITGI ориентированы на поставки газа на юг Италии, а Nabucco и SEEP — в Болгарию, Румынию, Венгрию и Австрию.
Решение планировалось принять до конца 2011 года, но концепция конкурса менялась на ходу. В декабре азербайджанская госкомпания ГНКАР и турецкая Botas подписали меморандум о строительстве Трансанатолийского газопровода. Эта труба позволит доставлять газ со второй фазы «Шах-Дениза» потребителям на западе Турции и осуществлять транзит в направлении Европы. Данный шаг автоматически хоронил проект Nabucco, так как концепция этой трубы предусматривала доставку каспийского газа от турецко-грузинской границы до хаба в австрийском Баумгартене. Кроме того, Nabucco в отличие от более мелких конкурирующих газопроводов рассчитан на 30 млрд кубометров в год, что требовало дополнительных объемов газа из других стран, прежде всего из Туркмении. Это делало проект одновременно крайне привлекательным для Еврокомиссии, нивелируя зависимость от российского газа, и проблемным для азербайджанских поставщиков — с позиций коммерции.
В итоге, как сообщила накануне The Wall Street Journal, консорциум Nabucco решил предоставить альтернативное предложение по «Шах-Денизу». Оно предполагает, что газопровод в Австрию пойдет от границы Турции и Болгарии, что снизит протяженность маршрута с 4000 км до примерно 1300, а пропускная способность трубы снизится до 10 млрд кубометров в год.
Официальный представитель консорциума «Шах-Дениз» сообщил Интерфаксу, что от предложения ITGI решено отказаться. По его словам, из двух вариантов транзита на юг Италии в борьбе за проект остался TAP. Отметим, что одним из инициаторов TAP является участник разработки «Шах-Дениза» норвежская Statoil, в то время как ITGI продвигали итальянская Edison и греческая DESFA. Во второй полуфинальной паре — SEEP против Nabucco — выявление победителя отложено. «Поскольку предложение по проекту Nabucco-West новое, то нужно время, чтобы его оценить», — цитирует Интерфакс представителя консорциума. Хотя понятно, что именно вариант ВР выглядит для разработчика проекта предпочтительнее.
Соответственно окончательный выбор должен быть сделан между TAP и победителем пары SEEP и Nabucco. Срок принятия решения зависит от политических консультаций с Еврокомиссией.
Еще один шанс, предоставленный Nabucco акционерами «Шах-Дениза», судя по всему, является данью уважения Еврокомиссии, которая бьется за своего протеже, несмотря на все проблемы. Однако изменение концепции проекта, вероятно, сделает Nabucco бесполезным для политических задач Брюсселя, который хочет организовать полноценный коридор доставки каспийского и в том числе туркменского газа в Европу. Даже если заложить в проект возможность расширения, это ничего не даст, поскольку для увеличения поставок придется строить новые транзитные мощности в Азербайджане, Грузии и Турции.
ООО "Украинский универсальный терминал" (Группа компаний Совфрахт УУТ) и ООО "ВилхелмсенШипс Сервис Грузия" (Wilhelmsen Ships Service Georgia Ltd) объявляют о начале работы нового прямого контейнерного сообщения Одесса - Поти - Одесса.
Линия открывается 15 марта 2012 года. На первоначальном этапе судозаходы будут выполняться один раз в две недели на современном контейнеровозе вместимостью 976 TEUs. В дальнейшем частота судозаходов будет увеличена до одного раза в неделю. Транзитное время Поти-Одесса составляет 1 день, Одесса-Поти - 4 дня. Гарантируется наличие контейнерного оборудования (20'dc, 40'dc, 40'hc) в необходимом количестве.
"Мы будем рады оказать нашим клиентам комплексную услугу по перевозке продукции, включая расформирование контейнеров, погрузку груза в контейнеры на наших терминалах в Одессе и Поти, доставку контейнеров и грузов и подачу порожних контейнеров автомобильным и железнодорожным транспортом в Украине, Республике Беларусь, Литве, Латвии, Эстонии, Российской Федерации, Молдове, Грузии, Армении и Азербайджане", - говорит генеральный директор группы Совфрахт УУТ Андрей Павлютин.
Таким образом, рынок торговли между указанными странами получает возможность воспользоваться всеми преимуществами контейнеризации, такими, как:- сервис по расписанию
- снижение уровня логистических затрат грузовладельца, как за счет снижения стоимости перевозки, так и за счет оптимизации уровня запасов, а следовательно затрат на их складирование и хранение, размещения заказов по ним, дополнительных издержек, связанных с замораживанием денежных средств
- гибкость в определении вида транспорта для доставки продукции конечному потребителю и, как следствие, возможность выхода на новые рынки сбыта продукции

По мнению многих экспертов, одной из причин сложившейся сегодня кризисной ситуации вокруг Ирана, если не основной из них, являются богатейшие энергетические ресурсы Исламской Республики, давно привлекающие внимание мировых центров силы. В условиях углубляющегося охватившего Запад системного экономического кризиса и как следствие обостряющегося геополитического соперничества в регионе вопрос контроля над этими ресурсами, особенно иранскими запасами газа, приобретает первостепенную важность.
В нынешней тревожной обстановке упомянутыми центрами учитываются все факторы: и отношения Ирана со своими соседями, и особенности энергетической политики Исламской Республики, и ситуация в приграничных государствах.
Судя по всему, наиболее стабильной и безопасной для Тегерана сфера ирано-армянских отношений, даже в самые кризисные моменты никогда не омрачавшиеся какими-либо межгосударственными трениями. Это факт, видимо, не дает покоя многим силам, выискивающим шероховатости в отношениях двух вековых соседей, в традиционно дружеских связях Армении и ИРИ.
В чем смысл этих поисков, какова их цель? Какие нюансы в этих тенденциях привлекают внимание Тегерана? На эти и другие вопросы отвечает директор действующего в Иране Стратегического центра "Новая Концепция" и член правления общества дружбы Иран-Армения, доктор наук по линии международных отношений господин Миргасем МОМЭНИ.
- Господин Момэни, в первую очередь хочу попросить Вас разъяснить, какова проводимая Исламской Республикой Иран (ИРИ) политика в энергетической сфере и каковы приоритеты этой политики в регионе?
- Исламская Республика Иран обладает колоссальными источниками энергии и выступает на международной арене в качестве страны, экспортирующей энергоносители - причем как в нефтяной, так и в газовой сферах. Этот фактор имеет для Исламской Республики стратегическое значение. В своей энергетической политике Иран в последние годы придает первостепенное значение экспорту газа. Среди стран-экспортеров газа наше государство занимает второе после России место в мире, именно поэтому экспорт газа играет существенную роль для экономического развития ИРИ. Газовый ресурс является тем ключевым рычагом, который может быть очень важен для Ирана и в сфере международных отношений. В качестве примера можно привести ту же Россию. Сегодня о ценах на газ не договариваются, они просто назначаются страной-экспортером, и какая бы цена ни назначалась, импортирующие страны обязаны ее выплатить. В этом плане ИРИ, как вторая по запасам страна, экспортирующая газ, по объективным причинам не успела полноценно воспользоваться предоставленной ей возможностью, посему не имеет пока эффективного экспорта в газовой сфере. Именно поэтому Иран разработал долгосрочную программу экспорта газа и в рамках этой программы заключил соответствующие договоры с Пакистаном и Индией. Голубое топливо в эти страны будет поставляться по газопроводу, известному под названием "Мирный".
На втором этапе ИРИ начала переговоры с Турцией об экспорте иранского газа в Европу. Однако эти переговоры, по тем же объективным причинам, по сей день не дали положительного результата.
Но основным вопросом является экспорт газа в Республику Армения (РА). Как сосед Ирана, как политический и экономический союзник на Южном Кавказе, Армения может обеспечить самый надежный путь для экспорта иранского газа в Европу. Армянское государство тоже очень нуждается в иранских энергоносителях. Иран располагает огромнейшим потенциалом экспорта газа и в этом заинтересованы практически все, в частности, сообщество европейских государств, которое желает сотрудничать с ИРИ, даже если Иран из-за своей атомной программы будет кем-то признан неугодной страной.
Борьба в будущем развернется вокруг энергетических проблем, и сегодня источники энергиии используются как влиятельное и могущественное оружие. Один из французских экспертов в этой связи как-то заметил, что своим атомным оружием Москва не смогла впечатлить Европу, но своим газовым оружием она доказала, что Россия - могучая страна. Это говорит о том, что фактор энергоносителей сегодня играет важнейшую роль в мире. Поэтому ИРИ намерена в рамках своей долгосрочной государственной программы извлечь пользу из своих энергетических и, особенно, значительных газовых источников.
- В результате двусторонних переговоров между Ираном и Арменией стороны пришли к соглашению, что за каждый кубический метр газа Армения будет расплачиваться с Ираном 3 кВт электроэнергии. Основной объем электроэнергии в Армении вырабатывается Мецаморской атомной электростанцией, часть которой была повреждена при землетрясении 1988 года. В недалеком прошлом США изъявили желание, отреставрировав ее, начать эксплуатацию атомной станции. В связи с этим Вашингтон заявил, что Армения вправе использовать атомную энергию. Но мы видим, что сегодня та же Америка желает лишить Иран этого права и, всячески оказывая давление и даже угрожая Тегерану, пытается удержать ИРИ от производства атомной энергии. Как Вы оцениваете эту двойственную политику США?
- Армения, как Вы отметили, имеет излишек производства электроэнергии, а Иран в своих приграничных районах нуждается в ней. Поэтому обе стороны договорились о том, что Армения будет расплачиваться за иранский газ электроэнергией. Основной проблемой здесь является вопрос возможного контроля Армянской атомной электростанции со стороны Соединенных Штатов. Проще говоря, США и Россия конкурируют между собой в вопросе Армении, и Ереван в этой конкуренции оказывается в неопределенной ситуации. Русские имеют долгосрочные интересы в Армении и сегодня в регионе Армения рассматривается как южная база России. С другой стороны, Соединенные Штаты очень нуждаются в Армении для осуществления своих стратегических программ на Южном Кавказе и обеспечения своей модели безопасности в регионе.
Возвращаясь к вопросу об атомной электростанции, нужно отметить, что произошло землетрясение, которое повредило часть Мецаморской АЭС, и именно поэтому США пытаются провести параллели между Мецамором и Чернобылем. Конечно, Чернобыль стал причиной больших несчастий и во избежание подобных случаев нужно отреставрировать Мецаморскую электростанцию. Но необходимо знать, какие цели преследуют США, в недалеком прошлом изъявившие желание установить контроль над Мецаморской АЭС. Прежде всего, нужно отметить, что Мецаморская электростанция построена русскими, и если США хотят реставрировать ее или построить новую, то обязательно должны согласовать это с РФ. Без согласия России США не могут построить в Армении новую станцию. Значит, они должны договориться с Москвой.
Эти поползновения в энергетической сфере преследуют далеко идущие геополитические цели. Для того, чтобы превратить Южный Кавказ в однородный, прозападный регион, США нуждаются в Армении. Азербайджан уже находится в лагере Запада, Грузия, совершив бархатную революцию, примкнула к нему, и только Армения пока колеблется между Востоком и Западом, пока полностью не примкнула к западному лагерю. Значит США считают, что наилучшим методом оказать давление на Армению и склонить ее в сторону Запада является также вопрос атомной электростанции, а не политическое давление, так как общественное мнение легко воспримет первое, а не второе.
Одним словом, США пытаются осуществить свое политическое давление всеми возможными способами, в том числе научным и экологическим путями, но нужно знать, что за всем этим скрываются стратегические и политические цели. Я уверен также, что американцы имеют четкие планы и относительно предстоящих в Армении выборов. Они желают видеть в Армении такую власть, которая обеспечила бы их присутствие в республике.
Соединенные Штаты стремятся обеспечить свое долгосрочное присутствие на Южном Кавказе, и залогом этого являются разногласия между соседними странами, наличие и продолжение конфликтов в регионе. Существование конфликтов гарантирует их присутствие.
- Вы имеете в виду проблему Нагорного Карабаха?
- Да. Я много раз заявлял: карабахский конфликт, который держит Армению и Азербайджан в состоянии ни войны, ни мира, стал причиной того, что конфликтующие стороны начали впадать в большую зависимость от США. Так как русские имеют более крепкие позиции в Армении, чем в Азербайджане, в будущем мы станем очевидцами еще большего давления США на Ереван. Поэтому мы должны внимательно следить за присутствием Соединенных Штатов в Армении, так как если в одной стране сталкиваются интересы двух сверхдержав, о стабильности там не может быть и речи. Я уверен, что если бы руководители Армении и Азербайджана вели прямые переговоры по вопросу Нагорного Карабаха, они были бы более эффективными, чем сейчас, когда за переговорным процессом следят США и Европа. Наличие и продолжение конфликтов на Южном Кавказе выгодно Соединенным Штатам и Европе в плане оказания политического давления на страны этого региона. Без наличия конфликтов присутствие сверхдержав на Южном Кавказе будет незаконным.
- Как Вы оцениваете отношения между ИРИ и Арменией?
- Отношения между Ираном и Арменией с первого же дня провозглашения независимости РА были очень хорошими. Иран был одним из первых среди соседей Армении, кто сразу же после провозглашения независимости открыл свое посольство в Ереване, и на сегодняшний день между обеими странами установились очень хорошие политические, экономические и культурные отношения.
В Иране проживают более 120 тысяч армян, и это само по себе является поводом для развития дружественных, эффективных отношений. Сегодня в Армении получают образование около 3000 иранских студентов, что не имеет прецедента в какой-либо иной стране, и это доказывает, что Армения имеет очень важное значение для ИРИ.
В завершение добавлю, что народы Ирана и Армении связывают вековые взаимоотношения, и одной из главных целей общества дружбы Иран-Армения является сохранение и развитие этих вековых связей.
Беседу вел
Артин АРАКЕЛЯН, Тегеран
для Iran.ru

В четвертом веке от Рождества Христова в стольном городе Иберии, Мцхете, молитвами святой равноапостольной просветительницы Нино были низвергнуты идолы главных грузинских божеств того времени - Армази, Гаими и Гоци. Этот эпизод из истории Грузии знает каждый школьник, но мало кто задумывается о схожести главного божества древних грузин Армази с зороастрийским «господом мудрым», или Ахурамаздой. В древности, как и сегодня, страны и народы входили в цивилизационно-культурные круги, и идентичность народов определялась, прежде всего, религией и традициями, которая определяла ценностные ориентиры людей.
Древняя Иберия, после гибели иберийского мира, о котором мы мало что знаем, стала органичной частью персидской цивилизации. Это, конечно, не исключало периодические военные конфликты с той же Персией, но культурное влияние персидского фактора в истории Грузии (особенно восточной) сложно переоценить.
Персидский мир никуда не исчез из жизни грузин ни после принятия христианства Грузией, ни после принятия ислама Ираном. Длительная историческая традиция поддерживалась веками, вельможи и военные грузинского происхождения часто играли большую роль при шахском дворе, а Тбилиси, сердце Грузии, вплоть до девятнадцатого века был вполне восточным городом, мало чем отличающимся от большинства городов Персии. Даже в двенадцатом веке, золотом веке Грузии, когда Иран был ослаблен, а Грузия была одним из сильнейших государств Ближнего Востока, влияние персидской культуры не подлежит сомнению. Вхождение в одну цивилизационную систему обусловило и то, что самые кровавые эпизоды в истории Грузии, ровно так же, как и самые важные исторические события, были связаны именно с Ираном. Конечно, не следует считать данное влияние тотальным. Тот факт, что в Грузии после продолжительной борьбы победило именно православие, а не христианство восточного обряда, свидетельствует и о мощном влиянии Константинополя, который был частью западного мира, хоть и существенно отличался от Западной Европы. В сущности, Грузия была полем столкновения цивилизаций и, вместе с тем, местом переплетения традиций и культур. После гибели Византийской империи персидская традиция становится доминантной еще и потому, что османы не могли предложить своей альтернативы, и сами находились под мощным культурным влиянием Ирана.
Разрыв культурной традиции произошел с начала девятнадцатого века. Ослабевший Иран полностью потерял свои позиции на Кавказе, а вестернизированная Российская империя предложила грузинской элите столь желанную альтернативу многовековой восточной традиции. К сожалению, в рамках одной статьи мы можем лишь затронуть наиболее важные пласты вопроса исторических связей между Грузией и Ираном. А между тем, данный вопрос является крайне интересным как для понимания сегодняшних реалий, так и для глубокого научного исследования. Ведь историография времен Российской империи и советского периода, объявив главным врагом и источником всех бед Грузии Османскую империю, старательно игнорировала упоминание персидского фактора в грузинской истории, ограничиваясь описанием нескольких трагичных эпизодов в истории грузино-персидских отношений. Впрочем, перейдем к сегодняшнему дню.
Прежде чем начать разбор сегодняшнего состояния дел, давайте зададимся простым вопросом – так ли важны сегодня отношения между Грузией и Ираном. Ведь и у Грузии, и у Ирана достаточно своих проблем, и эти проблемы, на первый взгляд, никак не связаны друг с другом. Оккупированные территории, угроза новой войны, внутренняя нестабильность, постоянно поддерживаемая извне - это те проблемы Грузии, перед которыми страна оказалась бы абсолютно беззащитной, лишившись поддержки Запада. В свою очередь, Запад является сегодня главной угрозой для Ирана, и вероятность начала новой войны на Ближнем Востоке с участием Ирана многие аналитики рассматривают не просто как очень высокую, но и как неизбежную. Грузия является стратегическим союзником Соединенных Штатов и Европейского Союза в регионе, в свою очередь, Иран во внешней политике часто солидаризируется с Российской федерацией, войска которой оккупируют два региона Грузии. Казалось бы, это - обстоятельства непреодолимой силы, и Грузия с Ираном просто обречены быть врагами в ближайшей перспективе. Однако это далеко не так.
Сегодня отношения Грузии с Ираном можно признать не только удовлетворительными, но и хорошими. По настоящему прорывным был 2010 год: визит министра иностранных дел Ирана Манучхера Моттаки в ноябре 2010 года, установление безвизового режима, открытие генерального консульства в Батуми открыли новую главу в грузино-иранских отношениях. Сегодня на улицах городов Грузии можно увидеть автобусы с иранскими номерами, а иранские туристы стали неотъемлемой частью туристической Грузии. Иран вновь открывает для себя Грузию, а Грузия открывает для себя иранцев. Прямые авиарейсы Тбилиси – Тегеран, интерес иранского бизнеса к Грузии, и, конечно, постоянные визиты ферейданских грузин на свою историческую Родину, все это создало достаточно прочный фундамент для добрососедских отношений, которые хоть и обходятся без громкого пиара со стороны СМИ, но, тем не менее, очень важны для обеих стран.
Однако, геополитическая обстановка на Ближнем Востоке сегодня создает новые вызовы ирано-грузинским отношениям. Географическая близость Грузии к Ирану - предмет особого внимания и даже провокаций на тему возможного участия Грузии в будущей войне против этой страны. Впрочем, о провокациях отдельно. Одной из самых громких провокаций на тему возможного участия Грузии в войне против Ирана было заявление оппозиционно настроенного академика Элизбара Джавелидзе о том, что Соединенные Штаты готовят в Грузии объекты для войны с Ираном. В интервью газете «Палитра недели» Джавелидзе заявил следующее: «Эти 20-коечные больницы - это американский проект. Большая война начинается в Персидском заливе между Америкой и Ираном, и 5 миллиардов долларов выделено на строительство этих 20-коечных военных госпиталей. В основном, они строятся на американские деньги. Потому строят в ускоренных темпах аэропорты, потому заговорили о строительстве порта для подводных судов в Кулеви и вообще о строительстве Лазики. Все это связано с размещением американских военных баз. Лазика будет американским военным городком, а в Марнеули уже построен секретный аэродром. И если в случае военного конфликта с Ираном Тегеран выпустит ракеты по американским военным объектам, кто тогда будет защищать нашу страну?»
Данное заявление было явно рассчитано на зарубежную аудиторию. В Грузии хорошо известно, что проект сто больниц был разработан еще в 2007 году в рамках реформирования системы здравоохранения. Победившая в тендере чешская компания «Блок Джорджиа» из-за экономического кризиса не смогла выполнить свои обязательства. Как следствие, общая система оказания медицинских услуг за пределами крупных городов продолжает оставаться в Грузии на достаточном низком уровне. Новый импульс системе здравоохранения придало недавнее решение правительства Грузии об обязательном страховании лиц пенсионного возраста, что в свою очередь и обусловило строительство медицинских объектов страховыми компаниями. Причем тут Соединенные Штаты и военные действия остается загадкой для посвященного читателя. Однако для людей, не владеющих информацией о Грузии, версия кажется вполне правдоподобной, правда и тут непонятно, зачем строить кучу мелких медицинских учреждений, разбросанных по всей Грузии, вместо того, чтобы построить один крупный военный госпиталь. Кстати сам уровень здравоохранения в Грузии достаточно высок, и медицинский туризм, в том числе и из Ирана, обретает все большую популярность.
Еще более неразумно звучит довод о строительстве военной базы Соединенных Штатов на Черном море. В декабре 2011 года президент Грузии объявил о планах создания нового города, который будет современными воротами страны в мир. Оставлю за скобками прения в грузинском обществе о целесообразности строительства нового города. Скажу только, что, по некоторым данным, эта идея связана с желанием азербайджанского бизнеса, владеющего терминалом в Кулеви, иметь свой порт на Черном море. Порт Батуми принадлежит казахской компании, а порт Поти - арабской. Понятно, что ни с военной, ни с политической точки зрения, ни американцам, ни Грузии не нужна база на Черном море, которое является внутренним и плотно контролируется союзником США по НАТО Турцией. Ну а фантазии престарелого академика о подводных судах можно оправдать разве что его любовью к творчеству Жюль Верна.
И наконец, по поводу секретного аэродрома в Марнеули. Конечно, никакого секретного аэродрома в Марнеули нет и быть не может. Любой пользователь программы Google планета Земля может легко найти грузинский военный аэродром в городе Марнеули, построенный еще при Советском Союзе. Данный аэродром несколько раз подвергался бомбардировкам российской авиации в ходе августовского конфликта 2008 года, о чем писали средства массовой информации. Никаких дополнительных работ, кроме ремонтных, по устранению последствий российских бомбардировок на аэродроме в Марнеули с 2008 года не проводилось.
На этом можно было бы закрыть тему и задать простой вопрос – если Грузия намерена участвовать в войне против Ирана, то в чем выражаются приготовления к этой войне? Уверен, ответа на этот вопрос вы не получите, потому что никаких приготовлений просто нет. Министерство иностранных дел Грузии официально призвало оставить все спекуляции на тему возможного участия Грузии в войне против Ирана. Следует отметить, что и общественное мнение в Грузии крайне негативно относится к перспективе включения Грузии в антииранскую коалицию. На самом популярном грузинском форуме forum.ge обсуждение иранской темы вызвало горячие споры по вопросу об отношении к властям страны, но отношение к возможной войне практически у всех было негативным. И это при том, что грузинское общество вполне терпимо относится к участию грузинских военных в операциях НАТО в Афганистане, понимая необходимость с точки зрения получения дополнительных гарантий от Запада в случае возможной агрессии с севера.
Учитывая все вышесказанное, очевидно, что Грузия может и должна избежать активного участия в возможной войне с Ираном. Однако это совсем не означает, что грузинское руководство должно самоустранится от большой политики на Ближнем Востоке. Процессы, происходящие в регионе, не могут не оказывать самого непосредственного влияния на ситуацию в стране, а посему, Грузия крайне заинтересована в мире и стабильности. К сожалению, прогноз на развитие событий на большом Ближнем Востоке в среднесрочной перспективе нельзя назвать оптимистическим. Вероятность возникновения конфликтов весьма велика, причем практически все страны региона принадлежат к тому или иному лагерю. В этих условиях у Грузии есть уникальный шанс сохранить нейтралитет между враждующими сторонами и стать своеобразной площадкой для контактов между ними, по типу Швейцарии времен второй мировой войны. Думаю, такой расклад вполне устроил бы все стороны и прежде всего Грузию, для которой вопрос сохранения мира является жизненно необходимым.
Буквально на днях появилась информация о том, что иранские предприниматели начали строительство гостиничного комплекса в Кобулети, на черноморском побережье Грузии. Это - еще один аргумент в пользу сохранения и развития отношений между Грузией и Ираном, причем далеко не самый последний.
Гела Васадзе, политолог
Тбилиси, Грузия
Специально для Iran.ru
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетит с официальным визитом Южную Корею в марте 2012 года, где планируется подписание пакета документов с корейским консорциумом по проекту Балхашской тепловой электрической станции (ТЭС), сообщил председатель Совета директоров АО «Самрук-Энерго» Алмасадам Саткалиев.
«Под руководством фонда «Самрук-Казына», компанией «Самрук-Энерго» завершены переговоры с консорциумом компаний «KEPCO» и «Samsung» по основным соглашениям по проекту Балхашской ТЭС. Подписание пакета планируется в рамках официального визита главы государства в Корею в марте текущего года», - сказал Саткалиев на заседании правительства во вторник.
При этом он отметил, что по поручению правительства совместно с корейским консорциумом был разработан план мероприятий реализации проекта с детализацией работ, «реализация которого позволит приступить к началу строительства основных объектов проекта в четвертом квартале текущего года».
«Для реализации данного проекта необходимыми моментами являются ускорение ратификации межправительственного соглашения, подписанного 25 августа 2011 года, а также внедрение законодательства о рынке мощности», - подчеркнул Саткалиев.
Межправительственное соглашение в области развития, финансирования, проектирования, строительства, эксплуатации и технического обслуживания Балхашской ТЭС было подписано в августе 2011 года в рамках визита в Казахстан президента Южной Кореи Ли Мён Бака.
Сдача в эксплуатацию Балхашской ТЭС мощностью 2 640 МВт намечена в следующие сроки: ввод 1 и 2 энергоблоков - в 2013 году, 3 и 4 энергоблоков - в 2016 году. Строительство ТЭС началось летом 2010 года, - передает newskaz.ru.
20 февраля в Государственном нефтяном фонде Азербайджана (ГНФАР) прошло заседание многосторонней группы (МГ) по внедрению в стране Инициативы прозрачности в добывающей промышленности (EITI).
Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение ГНФАР, на заседании были обсуждены результаты конкурса по отбору аудиторской компании, которая сопоставит выплаты и поступления от местных и зарубежных компаний, работающих в отечественной добывающей промышленности, правительству по XV отчету Азербайджана (охватывает 2011 год) по EITI.
Было принято решение, что аудит будет проведен компанией Moore Stephens.
Данная аудиторская компания сопоставит выплаты и поступления от местных и зарубежных компаний, работающих в отечественной добывающей промышленности, правительству Азербайджана.
Вознаграждение аудитору будет выплачено компаниями, занятыми в добывающей промышленности страны.
Напомним, что аудиторское заключение на VII, VIII, IX, XI, XII, XIII и XIV отчеты по EITI были даны компанией Moore Stephens, на X - Deloitte.
Представители консорциума по строительству газопровода "Набукко" обсуждают возможность уменьшения масштабов проекта трубопровода для транспортировки газа из Каспийского региона в Европу в соответствии с небольшим количеством доступного газа в регионе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По первоначальному проекту, длина газопровода должна была составить 3900 км от восточной границы Турции с Грузией через Болгарию, Румынию, Венгрию в Австрию. Его проектная мощность должна достигать 32 млрд кубических метров газа в год. По новому проекту, мощность "Набукко" должна быть снижена вдвое. Однако официально консорциум от первоначального проекта еще не отказывался.
Консорциум, состоящий из семи европейских компаний, подтвердил, что рассматривает другие проекты строительства "Набукко". "Мы просчитываем несколько различных сценариев, в том числе и другие размеры трубопровода в плане мощности и его длины. Однако пока мы основываемся на нашем первоначальном сценарии, окончательное решение еще не принято", - рассказал представитель консорциума Кристиан Долезал.
Строительство данного газопровода необходимо Европе для открытия нового "коридора" для импорта газа из Центральной Азии помимо поставок из России. Однако, по расчетам специалистов, в месторождении Шах-Дениз слишком мало газа для запланированных мощностей (оно может заполнить трубопровод лишь на треть), а шансы получить дополнительные объемы газа из Ирака и Туркменистана невелики. В результате консорциум вынужден искать альтернативное решение проблемы.
В конце декабря 2011 года Азербайджан и Турция подписали меморандум о создании консорциума по строительству газопровода из Азербайджана в Турцию и далее в Европу. Он должен связать азербайджанское месторождение Шах-Дениз на Каспийском море с магистральной системой газопроводов Турции, которые позволят передавать азербайджанский газ европейскому потребителю без участия России.
Carlsberg намерен выставить оферту на покупку акций "Балтики" у миноритариев. Для получения полного контроля над российским активом датский производитель может выплатить 26-процентную премию
Датский пивоваренный концерн Carlsberg до конца мая планирует выставить оферту на выкуп оставшихся у миноритариев акций российской "Балтики". Оферта будет объявлена после завершения всех процедур, связанных с конвертацией привилегированных акций "Балтики" в обыкновенные и погашением казначейских акций, говорится в сообщении датского концерна.
По предварительной информации, стоимость бумаг в рамках оферты составит не более 1550 рублей за штуку, однако может быть и существенно ниже этого уровня, отмечается в сообщении. Сегодня на ММВБ акции растут на 8,96%, до 1340 рубля.
ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" основано в 1992 году. "Балтика" - крупнейший российский производитель пива. Компания владеет 11 заводами в России и заводом в Азербайджане. Продукция представлена более чем в 60 странах мира. По итогам первого полугодия 2011 года выручка компании по РСБУ составляла 43,34 млрд рублей, чистая прибыль - 9,37 млрд рублей.
Если датская компания выставит оферту по максимально заявленному уровню 1550 рублей, то это предполагает 26-процентрую премию к котировкам закрытия пятницы, отмечает старший аналитик "ТКБ Капитала" Наталья Колупаева. "Премия связана с тем, что сейчас Carlsberg контролирует 84,55% капитала российского производителя пива. Пока доля датской компании не вырастет до 95%, у нее не будет возможности принудительно выкупить бумаги миноритариев российской "дочки", - поясняет эксперт.
Впоследствии Carlsberg планирует провести делистинг акций "Балтики" с биржи ММВБ-РТС. Представители "Балтики" уточнили для BFM.ru, что не исключают возможности проведения делистинга до оферты.
Вероятно, это связано с тем, что иностранная компания просто не заинтересована в сохранении российского актива как самостоятельного игрока на рынке капитала и не желает нести расходы на поддержание публичности "Балтики". Отметим, российская пивоваренная компания и так в последние годы снижает свою прозрачность для инвестиционного сообщества. В частности, она отказалась от публикации собственной отчетности по МСФО в пользу выкладки в отчетности Carlsberg.
Новая инициатива Carlsberg по усилению контроля над российской компанией вписывается в общую концепцию датского холдинга. Около года назад "Балтика" проводила выкуп своих акций с рынка, а впоследствии совет директоров пивоваренного холдинга одобрил конвертацию привилегированных акций в обычные.
Все это проходило на фоне ухудшения положения "Балтики" на российском рынке. С одной стороны, государство продолжает повышать акцизы на пиво и ужесточает контроль над отраслью. С другой, - за последние два года доля "Балтики" на российском рынке снизилась с 40% в 2009 году до 37,4% в 2011 году.
В результате, в конце октября прошлого года сменился генеральный директор компании "Балтика". На место Антона Артемьева пришел Исаак Шепс, ранее курировавший деятельность Carlsberg в Юго-Восточной Европе и Великобритании.
"Дальнейшее снижение доли компании на российском рынке - основной риск для Carlsberg", - цитирует агентство Bloomberg аналитика UBS Мелису Эларм. Ухудшение ситуации в России уже негативно отразилось на показателях датской компании. По итогам 2011 года операционная прибыль да Carlsberg составила 9,82 млрд датских крон против 9,80 млрд крон; рост мог быть и более значительным, если бы не негативная динамика российского подразделения.
Отметим, это уже не первая сделка по покупке российских компаний потребительского сектора зарубежным игроком за последнее время. Ранее англо-голландский Unilever сообщил о покупке 85% акций "Калины", а в конце 2010 года американская PepsiCo объявила о покупке 100% акций "Вимм-Билль-Данна".
Российский потребительский сектор пользуется спросом среди стратегических иностранных игроков, поскольку Россия - это один из немногих рынков, который может показывать двузначный рост в год, отмечает аналитик ИК "Атон" Иван Николаев. "Очень многие компании развивались здесь с уровня локальных игроков, и за 20 лет превратились в крупные корпорации. Многие такого уровня уже достигли, дальше агрессивного роста не будет, и тут появляются люди, готовые заплатить хорошую премию за компанию, почему бы не продать?" - указывает эксперт.
В пятницу, 17 февраля, в иранскую провинцию Хузестан прибыла делегация российского журнала «Деловой Иран» во главе с главным редактором журнала Раджабом Сафаровым с целью ознакомления с потенциалом провинции и подготовки информационных материалов об этой южной провинции для россиян и в первую очередь для российских предпринимателей, сообщает агентство ИРНА.
Журнал «Деловой Иран» представляет собой периодическое издание, выходящее в России тиражом в 10 тыс. экземпляров, и каждый номер журнала посвящается одной из иранских провинций и ее торгово-экономическому потенциалу.
В первом номере журнала примерно на 100 страницах рассказывалось о провинции Мазендеран, и во втором – о провинции Восточный Азербайджан. Эти два номера вышли в виде отдельных информационных бюллетеней, посвященных торгово-экономическому потенциалу названных провинций.
В первый день своего пребывания в провинции Хузестан члены делегации журнала «Деловой Иран» встретились с советником губернатора провинции Саидом Момбейни и рассказали ему о целях своего визита.
Главный редактор журнала «Деловой Иран» Раджаб Сафаров отметил, что визит продлится пять дней и члены делегации постараются за это время ознакомиться с потенциалом провинции Хузестан в области торговли и сельского хозяйства, а также планируют посетить промышленные предприятия, другие производственные объекты, порты и т.д.
Раджаб Сафаров подчеркнул: «Наши усилия направлены на то, чтобы подготовить содержательный материал о возможностях провинции Хузестан и довести его до сведения заинтересованных лиц в России, чтобы они получили как можно больше информации об этой иранской провинции».
По словам главного редактора российского журнала, ранее были совершены подобные поездки в провинции Восточный Азербайджан и Мазендеран и по их результатам были подготовлены обзорные материалы, касающиеся экономического положения в этих провинциях. Такие же материалы будут готовиться и о других иранских провинциях.
По мнению Раджаба Сафарова, провинция Хузестан с учетом ее экономического потенциала представляет собой сердце Ирана. Именно эта провинция, занимающая стратегически важное положение, становилась объектом агрессивных действий, направленных на нанесение максимального ущерба Ирану, и примером этому может служить восьмилетняя ирано-иракская война.
Присутствовавший на встрече глава представительства агентства ИРНА в провинции Хузестан Бижан Рабии высказал ряд своих предложений и подчеркнул необходимость создания условий для более широкого обмена информацией между двумя сторонами с целью повышения уровня торгово-экономического сотрудничества.
Раджаба Сафарова в ходе визита в провинцию Хузестан сопровождают члены редколлегии журнала «Деловой Иран» Владимир Онищенко, Игорь Симонов и Аида Соболева.
В январе–феврале нынешнего года в отношении Израиля администрация Обамы провела то, что в американском экспертном сообществе назвали «принуждением к миру». Все дипломатические усилия Вашингтона были направлены на недопущение превентивного удара по Ирану, о необходимости которого руководство Израиля кричало на весь мир.
В январе израильские представители положили на стол Белого дома документ о планирующейся ими «пятидневной войне» с Ираном, получившей в американских источниках рабочее название Austere Challenge («Суровый Вызов»). Когда у американских политиков прошел первый шок от прочтения данного документа и они попросили израильтян сие творение прокомментировать, один из израильских чиновников спокойно заявил: «Вы останетесь в стороне. Мы сделаем это самостоятельно». Предлагаемый израильской стороной сценарий предусматривал нанесение по территории Ирана ударов с воздуха и глубокие рейды диверсионных групп на стратегически важные объекты Исламской республики. Основной целью должны были стать предприятия, участвующие в ракетной и ядерной программах. По расчетам израильских военных, на проведение кампании отводилось пять дней, а затем, при посредничестве ООН, будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Потери Израиля при осуществлении операции, по тем же расчетам, не должны были превысить 500 человек.
Совершенно очевидно, что этот план не имел ничего общего ни с военным планированием, ни со здравым смыслом, а являлся рефлексией партии войны в Израиле на «экзистенциальную угрозу со стороны Ирана». Что бы не говорили израильские ястребы, но конечной целю этого плана было втягивание США и их союзников по НАТО в военную авантюру, от которой выигрывал бы Израиль (что, кстати, не факт), а платил бы по счетам – весь остальной мир. Прямое вторжение в Иран означает тотальную войну в регионе, в которую втянутся и остальные державы. Это в Вашингтоне понимают отчетливо и именно это американские чиновники пытались объяснить активистам «партии войны» в Израиле.
«Да не будет никакой войны в регионе», - успокаивали американцев израильтяне. И в качестве аргумента о том, что удар по Ирану не развяжет тотальную войну в регионе, ссылались на итоги атаки 2007 года против ядерного реактора Сирии. А некоторые израильские политики вообще говорили о «второй операции Энтеббе», когда успешный рейд специальных сил Израиля по освобождению заложников привел к смене режима Уганды в 1976 году.
Стремясь добиться от США поддержки своих планов, израильская партия войны, в лице начальника военной разведки генерала Авива Кочави, запустила уж совсем несуразную информацию о том, что якобы Исламская республика уже (!) располагает возможностью создания четырех атомных зарядов, которые будут нацелены на Израиль и (держитесь крепче) на США! От последнего заявления в Вашингтоне впали уже в совершенный ступор, но все же сумели поинтересоваться: «А как эти заряды вообще могут попасть на территорию Америки?» Сделав честные глаза, израильтяне тут же сообщили, что по неопровержимым данным их разведки, в Иране уже созданы баллистические ракеты с радиусом действия 12 тысяч километров. Чего вполне хватит для удара США.
Американские чиновники, надо отдать им должное, в это заявление израильтян категорически не поверили. Эксперты Пентагона и Конгресса США в один голос заявили, что у Ирана есть возможность создавать ракеты такого класса, но в обозримом будущем эти ракеты угрозы для Америки не представят.
Но одновременно, в Белом доме поняли, что с находящимся в истерике ближневосточным союзником надо что-то делать, как-то его успокаивать, пока он не втянул весь остальной мир в кровопролитную авантюру. Кроме того, в Белом доме понимали, что далеко не все в Израиле хотят войны и там даже в кабинете министров хватает политиков, которые отчетливо понимают, что война против Ирана обернется уничтожением Израиля. Для начала США организовали два неофициальных предупреждения. Сначала в «Foreign Policy» появилась статья Марка Перри «Фальшивый флаг» («False Flag»), содержавшая разоблачения деятельности МОССАДа в Иране и его причастность к террористическим актам. «Невозможно отрицать, что идет тайная, кровавая и непрестанная кампания, призванная остановить ядерную программу Ирана... Многие сообщения указывают на Израиль, как организатора этой тайной кампании, унесшей жизнь очередной жертвы», - писал автор, приводя многочисленные свидетельства сотрудников американских спецслужб.
Через две недели появилось открытое письмо израильскому премьеру Нетаньяху ведущего американского эксперта по международным отношениям Лесли Гелба, в котором он прямо заявил, что «угрозы Израиля лишь ожесточают иранские сердца... Эти угрозы ведут к тому, что мы движемся в сторону невероятно опасной для нас войны… Буквально на днях ваш министр обороны Эхуд Барак заявил, что в ходе этой атаки «не будет ста тысяч, десяти тысяч и даже тысячи убитых, а государство Израиль не будет уничтожено». Он не должен быть столь самоуверенным и бесцеремонным».
Но помимо неофициальных шагов были приняты и совершенно конкретные официальные действия.
Прежде всего, министр обороны США Леон Панетта, который является убежденным противником военной акции против Ирана в ближайшее время, а поэтому весьма нелюбим израильским лобби, сделал ряд официальных заявлений о том, что состояние ядерная программа Исламской республики в настоящее время не носит военного характера и, следовательно, не представляет угрозы для США и его союзников в регионе. Для того, чтобы успокоить своих израильских и саудовских союзников, США пошли на увеличение своей авианосной группировки в регионе. Причем, комментируя этот шаг, достаточно влиятельный эксперт из Вашингтона в беседе со мной подчеркивал, что эта мера является вынужденной, что США сделали это «под давлением своих союзников в регионе», что Вашингтон пошел на данный шаг исключительно в целях предоставления Израилю и монархиям Персидского залива «гарантий защиты от недружественных шагов Ирана». При всем определенном лукавстве, доля истины в словах о вынужденности такого шага, в этой информации есть.
Кроме того, буквально на днях в Израиле побывали с визитом глава национальной разведки США Джон Клэппер и глава американской военной разведслужбы Рональд Берджесс, которые в ходе встреч с премьером Натаньяху, министром обороны Эхудом Бараком и директором МОССАДа Тамиром Пардо прямо говорили о том, что США крайне негативно относятся к воинственным планам Израиля. С аналогичным заявлением, кстати, выступили на минувшей неделе и ряд сенаторов США, в числе которых Роберт Мендес (кстати, автор законопроекта о санкциях против финансовых институтов Исламской республики), и спикер палаты представителей Конгресса Джон Бонер.
А теперь, изложив все подробности этого «принуждения к миру», которое совершила администрация Обамы в отношении военной партии Израиля, я подхожу к главному вопросу. Означает ли вся эта история то, что США изменили свое отношение к Исламской республике и готовы к нормальному дипломатическому диалогу с Тегераном? Означает ли отказ кабинета Натаньяху от начала военных действий против Ирана то, что в Тель-Авиве поняли необходимость нормализации двусторонних отношений? По моему мнению, ответ на эти вопросы может быть только отрицательным.
Стратегической целю США в отношении Ирана является свержение существующего там строя и приход к власти лидеров прозападной оппозиции. В Белом доме совершенно отчетливо понимают, что сделать это путем военных угроз невозможно. Как отметил Лесли Гелб в своем обращении к Натаньяху, «ваши нескончаемые угрозы нападения на Иран не могут остановить его ядерную программу. Эти угрозы только объединяют иранцев и активизируют их сопротивление внешнему давлению». В отношении Ирана США реализуют сегодня другую политику – с помощью санкций добиться максимального ухудшения экономического положения в Исламской республике, максимального ухудшения материального положения людей. И тем самым вызвать недовольство иранского общества руководством. А уже на волне этого недовольства спровоцировать массовые выступления, используя как предлог либо ближайшие выборы в Маджлис ИРИ, либо итоги президентских выборов 2013 года.
И если к нынешним мартовским выборам оппозиция активно выступать еще не готова, и не в состоянии организовать сколько-нибудь серьезные антиправительственные акции (хотя ее финансирование по различным каналам нарастает), то к 2013 году США постараются сделать все для укрепления ее финансовой, организационной и материально-технической базы. А Израиль к этому же времени постарается сделать все для активизации и вооружения сепаратистов , иранского Курдистана, иранского Азербайджана, «Моджахедов-е Хальк» и «Джундаллы» через возможности своих резидентур в Азербайджане (Ленкорань) Ираке (Эрбиль) и ряде других мест.
Многозначительная оговорка председателя комитета по разведке Сената США Дианы Фейнштейн о том, что «2012 год станет решающим в деятельности по предотвращению ядерной программы Ирана» означает, что в 2012 году экономическое давление на Иран со стороны США будет только нарастать, а работа по формированию «пятой колонны» и активизация подрывных действий против Исламской республики примет тотальный характер.
Джавад Шабири, MEAA,
специально для Iran.ru
Турция, импортирующая газ из России, Ирана, Азербайджана, Нигерии и Алжира, намерена закупать его еще в двух странах, сообщил журналистам накануне министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз, сообщает в понедельник газета Sabah.
"Турция намерена подписать с целью диверсификации источников импорта газа соглашения еще с двумя странами", - сказал он.
При этом министр не назвал эти страны и сроки подписания соглашений.
По словам Йылдыза, этот шаг Турции направлен на снижение стоимости импортируемого газа.
Согласно статданным турецкой государственной трубопроводной компании Botas, в 2011 году Турция импортировала 39,7 миллиарда кубометров газа. Среди экспортеров газа в Турцию первое место занимает Россия, далее следуют Иран и Азербайджан, - передает www.newsazerbaijan.ru.
Европейский банк реконструкции и развития предоставляет кредит в размере 1,2 млн долл. частному логистическому оператору DGT Logistics Turkmenistan. Средства будут направлены на приобретение автомобилей и оборудования для обработки грузов, пишет SeaNews.DGT Logistics Turkmenistan является подразделением DGT Logistics, имеющем также офисы в ОАЭ, Франции, Казахстане, Азербайджане и Узбекистане. По информации ЕБРР, в Туркменистане основными клиентами компании являются предприятия нефтегазового сектора.
На сегодня совокупные инвестиции ЕБРР в Туркменистане составляют 700 млн долл. С момента выхода на этот рынок банк принял участие более чем в 300 проектах.

Кавказский дом по тбилисскому проекту
Каковы цели политики Грузии на Северном Кавказе
Резюме: По мнению ряда грузинских и российских экспертов, стабильный Северный Кавказ – чуть ли не единственный общий интерес Грузии и России, на котором можно «здесь и сейчас» строить процесс примирения. Известно, однако, что строить сложнее, чем ломать.
До 2008 г. нельзя было утверждать, что Грузия проводила продуманную и последовательную государственную политику в отношении Северного Кавказа. Первый президент страны Звиад Гамсахурдиа, правда, когда-то выдвинул идею «общего кавказского дома», но дальше заявления дело не пошло. Во-первых, сам Гамсахурдиа слишком недолго продержался во власти, чтобы воплотить в жизнь свои замыслы (весьма противоречивые, а зачастую – опасные или даже вредные для грузинской государственности), а во-вторых – потому, что никто так и не понял, на каком фундаменте должен строиться и как может выглядеть т.н. общий кавказский дом. К тому же этой экстравагантной идее Москва противопоставила Конфедерацию горских народов Кавказа со штаб-квартирой в Сухуми (КГНК – создана в 1989 г., впоследствии слово «горских» из названия убрали).
По замыслу архитектора «кавказского дома», ведущая роль в нем отводилась Грузии, а вот КГНК на деле явилась антигрузинским проектом (хотя Гамсахурдиа и посылал своих представителей на ее съезды), ибо оставила после себя лишь один заметный след – активное участие в грузино-абхазском конфликте 1992–1993 гг. на стороне абхазов. Если не считать того, что после своего свержения Гамсахурдиа нашел пристанище в Грозном, можно констатировать, что начало 90-х гг. прошлого века – на фоне конфликтов в Абхазии и Южной Осетии – стало периодом резкого ухудшения отношений грузин с северокавказцами (хотя разных народов региона это касается в разной степени).
Второй президент Грузии – Эдуард Шеварднадзе – северокавказской проблематикой занимался лишь тогда, когда просто не мог игнорировать ее, то есть когда процессы там непосредственно влияли на Грузию. В основном все свелось к ситуации вокруг Панкисского ущелья, принесшей Тбилиси серьезную головную боль. Перекрывать путь в Грузию чеченцам, бежавшим от «наведения конституционного порядка» федеральными войсками, было невозможно с моральной точки зрения, и недальновидно – политически. Да и собственных сил для возведения барьеров и отфильтровывания боевиков от мирных граждан у Тбилиси долгое время не было. Из-за Панкисского ущелья Грузия оказалась под постоянным давлением России, которая позволяла себе даже бомбардировку территории сопредельного государства под предлогом нанесения превентивных ударов по базам боевиков. В конечном счете Шеварднадзе все же «разрулил» ситуацию – не без помощи американцев: программа «Обучи и оснасти» (Train and Equip) позволила создать предпосылки для решения проблемы чеченских боевиков в Панкисском ущелье без нанесения ущерба основной массе беженцев. Грузия смогла сохранить лицо и перед Западом, и перед северокавказцами (чеченцами – в частности). Но дальше этого дело опять не пошло. А приобрести доверие Москвы не удалось все равно, поскольку она и не собиралась менять отношение к соседней стране.
Северокавказскому направлению не уделялось достойного внимания и в грузинской политической и экспертной мысли. Были лишь разрозненные попытки осмыслить фактор Северного Кавказа вообще и в контексте грузино-российских отношений. В частности, автор данного материала писал в 1999 г., что Северный Кавказ превращается в «зону устойчивой нестабильности», требующей наличия у Грузии соответствующей концепции. Но таковой не появилось.
Третий президент Грузии – Михаил Саакашвили – начал свою внешнеполитическую деятельность с визита в Москву (11 февраля 2004 г.), но период оттепели во взаимоотношениях двух стран, который возвестил грузинский лидер, продолжался недолго. На смену ему пришел режим открытого личностного противостояния (Путин – Саакашвили) с обвинениями друг друга во всех мыслимых и немыслимых грехах, что «увенчалось» августовской войной 2008 г. и окончательными «заморозками» в период президентства Дмитрия Медведева. И если до войны Северный Кавказ фактически пребывал вне поля зрения грузинской политики, то после августа 2008 г. ситуация изменилась.
После войны: атака «мягкой силы»
В послевоенный период руководство Грузии предприняло ряд действий, свидетельствующих о намерении проводить активную политику на северокавказском направлении. Уже осуществленные мероприятия можно условно (ибо они – взаимодополняющие) объединить в три основных группы, заслуживающие рассмотрения на предмет политико-правовой сути и целей.
1. Меры организационного характера, создающие институциональную основу для северокавказской политики:
а) Учреждение в парламенте Грузии в декабре 2009 г. группы дружбы с парламентами Северного Кавказа. Подобные решения обычно выглядят конструктивными. Резолюция 1773 (2010) ПАСЕ, например, поощряет «создание в национальных парламентах групп дружбы и аналогичных групп с целью расширения практики обмена эффективными методами работы, в частности – в парламентской и политической сфере». Однако в рассматриваемом случае наблюдается очевидная асимметрия, ибо парламент суверенного государства – члена ООН заявляет о намерении дружить не с законодательным органом другого (соседнего) государства – члена ООН, а с парламентами субъектов федерации этого государства. Подобная асимметрия не соответствует международной практике. Быть может, она не бросилась бы так в глаза, будь отношения Грузии и России добрососедскими, а шаг – заранее согласованным. Однако, как известно, после августовской войны 2008 г. Грузия разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией, и демонстративное предложение дружбы на официальном уровне отдельным субъектам этой страны вызывает вопросы.
Конечно, Россия пошла намного дальше Грузии, переступив черту, когда признала независимость Абхазии и Южной Осетии, установила с ними дипломатические отношения и открыла посольства в Сухуми и Цхинвали. Но эти решения не просто не поддержаны подавляющим большинством государств, но и прямо осуждены многими из них, равно как и международными организациями. Получается, что в поисках адекватного ответа на противоправные действия Российской Федерации в отношении Грузии (именно так они характеризуются в докладе «Комиссии Тальявини») Тбилиси сам отходит от международной практики, оказываясь в двусмысленном положении. Наконец, официального отклика от парламентов республик Северного Кавказа не последовало, ибо лояльность Москве является неизбежным условием получения жизненно необходимых финансовых дотаций.
Два других шага грузинского руководства из той же категории.
б) Трансформация в декабре 2010 г. парламентского Комитета по связям с соотечественниками, проживающими за рубежом, в Комитет по делам диаспоры и Кавказа; в) принятие в феврале 2011 г. решения о создании специальной комиссии по делам Кавказа при аппарате государственного министра по делам диаспоры. Оба призваны, как представляется, высветить два обстоятельства:
Закрепление в обиходе понятия «грузинская диаспора» (пост государственного министра по делам диаспоры был учрежден в феврале 2008 г.), не имевшего ранее широкого распространения в грузинском дискурсе;
Подчеркивание особого значения Кавказа (не только Южного, но и Северного) для грузинской политики.
Последнее обстоятельство не вызывает сомнений, но найти следы деятельности упомянутой Специальной комиссии (которой поручили изучение политических и социальных процессов в северокавказских республиках) за минувшее время не удалось. Можно разве что упомянуть объявление конкурса на создание мемориала памяти жертв геноцида черкесского (адыгского) народа (на основе постановления парламента Грузии от 1 июля 2011 г.), но для этого вряд ли требовалась специальная комиссия. Победителем конкурса, кстати, в декабре 2011 г. был объявлен скульптор из Кабардино-Балкарии.
2. Меры идеологического и пропагандистского характера, подводящие соответствующую базу под северокавказскую политику и призванные обеспечить «влияние на умы», как то:
а) Выступление Михаила Саакашвили на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября 2010 г., где он представил свое видение «свободного, стабильного и единого Кавказа». Президент упомянул общую историю и интересы народов Кавказа, призвал к установлению прямых контактов между людьми и разработке проектов в области энергетики, просвещения, культуры. В докладе речь шла о политико-экономическом взаимодействии, создании общего рынка, самодостаточности региона, не нуждающегося в помощи извне. «Нет Северного и Южного Кавказа – есть один Кавказ, который принадлежит мировой цивилизации», – заявил Саакашвили и уточнил, что Кавказ – не просто часть европейской цивилизации, но и одна из колыбелей оной. Среди других идей следует отметить: «Наше объединение не будет направлено против кого-либо, и мы не собираемся менять никакие границы»; «Пора прекратить борьбу друг с другом и ослаблять друг друга. Наша сила – в нашем единстве. Без единства мы не будем по-настоящему свободными». Впрочем, дальнейшей детализации инициатива с тех пор не получила. Принимая в Тбилиси президента Армении Сержа Саргсяна в ноябре 2011 г., Саакашвили повторил основные тезисы годичной давности. Поэтому многие воспринимают предложения лишь как перепев основательно подзабытой гамсахурдиевской концепции «общего кавказского дома» – сколь туманной, столь и иллюзорной. В сухом остатке можно разглядеть претензии на лидерство в кавказском регионе (хотя о регионе в политическом смысле тут говорить не приходится), что вряд ли вызвало понимание и одобрение соседей (азербайджанская пресса, например, едко отреагировала на саакашвилевские «вариации на тему кавказского единства» в ходе его переговоров с армянским визави). Да и едва ли подобные амбиции соответствуют возможностям обремененной многочисленными внутренними и внешними проблемами страны.
б) Выход в эфир в январе 2010 г. Первого кавказского телеканала – информационное обеспечение конкретного политического проекта. Российские власти приняли это в штыки – замминистра внутренних дел Аркадий Еделев заявил, что «детище грузинской пропагандистской машины» требует самого пристального внимания, ибо «будет пропагандировать антироссийские антигосударственные настроения, а также идеологию экстремизма». Неудивительно, что вскоре возникли проблемы у владельцев спутника, посредством которого осуществлялось вещание канала на обширную территорию, что и возымело действие: вещание было прекращено (естественно, «по техническим причинам»). Однако затем появились новые возможности, и канал вновь вышел в эфир, на этот раз – под названием ПИК (Первый информационный кавказский).
Формальная задача – нейтрализация антигрузинской пропаганды российского официоза, предоставление аудитории объективной информации о происходящих в Грузии и кавказском регионе событиях. Впрочем, скорее откровенно пропагандистская, нежели контрпропагандистская суть канала не составляет секрета, ибо подоплека практически любой общественно-политической программы заключается не только в стремлении представить Грузию в максимально благоприятном свете, но и выставить Россию в максимально неблагоприятном. Пропаганда направлена за пределы Грузии (здешний телеэфир и без того перенасыщен проправительственным контентом), и на Северный Кавказ – в первую очередь, хотя собственно северокавказская тематика и не занимает много эфирного времени. Насколько достигает своей цели вещание ПИК на Северном Кавказе (и в других местах) – судить пока трудно, хотя особое беспокойство у официальных кругов России он, видимо, вызывать перестал. Более того, 5 августа 2011 г. ПИК оказался среди трех интервьюеров президента Российский Федерации Дмитрия Медведева (вместе с телеканалом Russia Today и радиостанцией «Эхо Москвы»). Таким образом, первое лицо России способствовало легализации этого канала в своей стране, и автор признается в своем бессилии постичь глубину данной политической игры.
в) Проведение в марте и ноябре 2010 г. в Тбилиси двух международных конференций «Неизвестные народы. Непрекращающееся преступление: черкесы и кавказские народы между прошлым и будущим». Их организатором явился Тбилисский государственный университет Ильи в сотрудничестве с Jamestown Foundation (США). Именно эта исследовательская организация вместе с Черкесским культурным фондом Соединенных Штатов организовала в Вашингтоне дискуссию на тему «Черкесы: прошлое, настоящее и будущее» (21 мая 2007 г.), где затронули вопрос о геноциде черкесского народа в Российской империи в XIX веке. Это позволяет полагать, что «черкесская тема» в послевоенном арсенале официального Тбилиси возникла не стихийно, и развитие она получила в силу благоприятных для инициаторов обстоятельств (для Грузии – крайне неблагоприятных, ибо итоги войны 2008 г. назвать благоприятными невозможно никоим образом). Первая тбилисская конференция приняла обращение к парламенту Грузии с призывом о признании геноцида черкесов; вторая – призвала к бойкоту Олимпийских игр в Сочи.
Последние два из мероприятий этой группы – г) Открытие в Тбилиси в октябре 2011 г. Центра черкесской культуры и д) Объявление конкурса на создание мемориала памяти жертв геноцида черкесского народа – значительно уступают по масштабу первым трем. Открытие культурного центра вообще можно было бы однозначно приветствовать, если бы не отягощенное политической нагрузкой заявление по этому поводу представителя «Черкесского конгресса» в Грузии, прозвучавшее в унисон с выступлением Саакашвили на Генеральной Ассамблее ООН (что неудивительно), и служащее косвенным подтверждением тех амбиций, о которых уже говорилось. В контексте многовекторной пропаганды можно рассматривать и намерение воздвигнуть мемориал жертвам геноцида черкесского народа в новостроящемся курорте Анаклиа – в непосредственной близости от Абхазии.
3. Собственно политические действия на сегодняшний день сводятся к двум основным.
а) Решение правительства Грузии о предоставлении права въезда и пребывания на территории страны в течение 90 дней без визы жителям северокавказских субъектов Российской Федерации, вступившее в силу 13 октября 2010 года. Президент Саакашвили заявил, что данный шаг следует рассматривать как часть политики «единого Кавказа». В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что «в рамках отношений, которые приняты между цивилизованными партнерами, это принято обсуждать на взаимной основе», а то, как это произошло, напоминает ему очередной пропагандистский жест. Вне зависимости от политической подоплеки следует признать, что шаг грузинского правительства облегчил жизнь тем жителям Северного Кавказа, кто поддерживает постоянные контакты с Грузией.
«Грузины много делают, чтобы использовать “мягкую силу” во взаимодействии с Северным Кавказом – например, введение безвизового въезда для жителей этих республик», – заявил президент Jamestown Foundation Глен Ховард на форуме «Кризис на Северном Кавказе: есть ли выход?» (организован в феврале 2011 г. Центральноазиатским и Кавказским институтом Университета Джонса Хопкинса). Он считает, что это способствует экономическому развитию региона, а то, что в Тбилиси учатся студенты с Северного Кавказа, помогает новому поколению жителей региона взаимодействовать с Западом.
В любом случае следует отметить, что в вопросе передвижения между двумя странами Грузия предстает в несравнимо более выгодном свете, чем Россия. Грузинскую визу граждане Российской Федерации (не жители республик Северного Кавказа) могут приобрести по прибытии в морские и воздушные порты Грузии, а со второй половины 2011 г. – и на КПП Верхний Ларс на Военно-Грузинской дороге. Тем самым Грузия завершила процесс установления безвизового режима со всеми непосредственными соседями (с Российским Северным Кавказом – в одностороннем порядке), и даже с Ираном, с которым у Грузии нет общей границы.
б) Принятие 20 мая 2011 г. парламентом Грузии постановления о признании геноцида черкесского (адыгского) народа в период русско-кавказской войны стало, несомненно, самым резонансным событием, привлекшим внимание далеко за пределами Кавказа. В постановлении, в частности, сказано:
Признать массовое истребление черкесов (адыгов) и их изгнание с исторической родины в период русско-кавказской войны актом геноцида согласно Гаагской IV конвенции «О законах и обычаях сухопутной войны» от 18 октября 1907 г. и Конвенции ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него» от 9 декабря 1948 года.
Признать черкесов, депортированных в период Русско-Кавказской войны и впоследствии, беженцами согласно Конвенции ООН от 28 июля 1951 г. «О статусе беженцев».
Признание геноцида – главное оружие
Грузия стала первым суверенным государством, признавшим геноцид черкесов, но признание произошло не на пустом месте; определенные шаги в 1990-х гг. предприняли парламенты тех северокавказских республик, между которыми советская власть «поделила» уцелевших после трагических событий черкесов. Верховный совет Кабардино-Балкарии принял 7 февраля 1992 г. постановление «Об осуждении геноцида адыгов (черкесов) в годы русско-кавказской войны» и предложил Верховному совету Российской Федерации рассмотреть вопрос о признании геноцида и предоставлении их зарубежным соотечественникам двойного гражданства. Президент Российской Федерации Борис Ельцин признал 18 мая 1994 г. в обращении к народам Кавказа, что кавказская война привела к большим человеческим жертвам и материальным потерям и «появляется возможность объективной трактовки событий кавказской войны как мужественной борьбы народов Кавказа не только за выживание на своей родной земле, но и за сохранение самобытной культуры, лучших черт национального характера». Никаких правовых последствий, впрочем, данное заявление не возымело.
В апреле 1996 г. президент и Государственный совет Республики Адыгея направили Государственной думе РФ обращение, аналогичное кабардино-балкарскому. В октябре 2006 г. 20 адыгских общественных организаций из разных стран обратились в Европарламент с просьбой о признании геноцида. Спустя месяц общественные объединения Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии обратились к президенту Владимиру Путину с такой же просьбой. И снова ни одно из этих постановлений и обращений не повлекло за собой правовых последствий; лишь обращение к Грузии в 2010 г. увенчалось официальным признанием.
За данным шагом грузинского руководства можно усмотреть несколько намерений.
Во-первых, укрепить собственные позиции на Кавказе в качестве радетеля о правах и интересах северокавказских народов, а также приобрести поддержку черкесской диаспоры за рубежом. Многими черкесами, где бы они ни проживали, решение Тбилиси встречено с одобрением, переходящим порой в восторг.
Во-вторых, досадить России, нанеся удар по самой больной для нее точке – Северному Кавказу, где продолжают аккумулироваться трудноразрешимые проблемы. Одна из них – восстановление в правах разделенного черкесского народа. Москва, во всяком случае, склонна рассматривать данное решение официального Тбилиси именно как месть за войну 2008 г. и признание Абхазии и Южной Осетии.
В-третьих, посеять семена недоверия между абхазами и северокавказцами (адыгами – в частности), ибо морально-политическая поддержка пришла последним не от родственных им абхазов, а от грузин, против которых они воевали в ходе грузино-абхазской войны 1992–1993 годов.
Третий пункт заслуживает отдельного комментария. Дело в том, что в октябре 1997 г. парламент Абхазии принял постановление, первый пункт которого гласит: «Признать массовое истребление и изгнание абхазов (абаза) в XIX веке в Османскую империю геноцидом – тягчайшим преступлением против человечества». Однако официальный Сухуми так и не решился квалифицировать подобным же образом черкесскую трагедию, хотя соответствующие ожидания среди черкесов, безусловно, присутствовали.
«Самим актом признания геноцида Тбилиси уже добился некоторых результатов. Определенная степень охлаждения отношений между абхазами и черкесскими народами так или иначе наметилась. Абхазам непонятен восторг адыгов действиями грузин, так как для Абхазии Грузия – главный враг. Черкесам же, напротив, не совсем ясно, почему Тбилиси признал геноцид, а братская Абхазия по этому поводу молчит и никак не реагирует», – считает абхазский аналитик Инал Хашиг. Понятно, что Сухуми не желает навлекать на себя недовольство России – главного (по сути – единственного) спонсора и гаранта своей сецессии от Грузии. И как в подобной ситуации сбалансировать отношения с черкесами с одной стороны, и Россией – с другой, неясно.
Неблагоприятное для абхазов смещение акцентов в среде их непосредственных соседей отражено в позиции председателя организации «Хасэ», влиятельного черкесского активиста и героя Абхазии Ибрагима Яганова. По его мнению, абхазам пора пересмотреть свое отношение к Грузии, ибо существующее положение дел «не дает нам интегрироваться в европейское пространство». А надежды на Абхазию как на окно в свободный мир (недаром ведь штаб-квартиру КГНК в свое время разместили в Сухуми) не только не оправдались, но Абхазия «перекрывает нам и другое окно – через Грузию». Заявление героя Абхазии вызвало бурю эмоций в Сухуми, но обвинение в том, что он подыгрывает Грузии, которая преследует собственные интересы, Яганов парировал спокойно: «Вполне возможно, что у Грузии есть определенная цель – использовать черкесский вопрос. Но это нормально. Такие интересы есть у любого государства. Есть интересы и у черкесов».
Таким образом, можно констатировать, что каждая из целей, которые поставил перед собой официальный Тбилиси признанием геноцида черкесов, достигнута в большей или меньшей степени. Косвенный политический результат данного акта можно усмотреть также в том, что он отчуждает черкесов от идеи Имарата Кавказ (в которой они, впрочем, не играют ведущей роли), ибо актуализирует для них иные цели и задачи. Однако вряд ли они будут в гармонии с целями карачаевцев и балкарцев, совместно с которыми черкесы проживают в двух северокавказских республиках.
Наконец, имеется еще один аспект признания, затрагивающий зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 г., когда отмечается 150-летие трагической для черкесов даты. Полномочный представитель президента РФ в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин, например, прокомментировал признание Грузией геноцида черкесов как попытку «разыграть черкесскую карту под Олимпийские игры». Ведь олимпийские объекты расположены именно в тех местах, где истреблялись и откуда выселялись черкесы. Характерно, что в июне 2010 г. все тот же фонд Jamestown провел круглый стол на тему «Сочи 2014: можно ли проводить Олимпийские игры там, откуда 150 лет тому назад изгнали черкесов?».
Официальный Тбилиси был бы рад подпортить олимпийский праздник Кремлю, тем более что Владимир Путин не только был главным лоббистом Сочи на проведение Олимпийских игр, но и готовится пожинать лавры в качестве президента страны-организатора. Ложка дегтя в путинскую бочку меда в виде хотя бы частичного бойкота Олимпиады послужила бы Саакашвили бальзамом на рану, хотя никто пока не заявлял официально о намерении бойкотировать соревнования. Сам же грузинский президент так ответил в октябре 2011 г. на вопрос чешского телеканала СT24, будет ли Грузия бойкотировать игры в Сочи: «Это зависит не от меня, а от Олимпийского комитета Грузии. Но дело не только в этом. Это этнически вычищенная территория. И это место, где был геноцид черкесов. У Сочи действительно сложная история. К тому же там есть проблемы с безопасностью. Северный Кавказ – непростая территория. 2014 год приближается быстро, но решение этих проблем требует времени. И я не могу сказать, что произойдет до 2014 года».
Думается, что президент Грузии несколько кривит душой, когда говорит, будто не руководитель страны, а Национальный олимпийский комитет будет принимать политическое решение, каковым, безусловно, является бойкот Олимпиады. Глава государства также запамятовал, что в 2013 г. истекает его последний президентский срок, и принятие соответствующего решения не будет (не должно) зависеть от него и по этой простой причине. Но основной вопрос, судя по всему, остается открытым; сторонники бойкота игр могут найтись не только среди черкесов. Что касается безопасности Олимпийских игр (а Россия по привычке и тут указывает в сторону Грузии), то, как заявил Саакашвили, «создание физической угрозы играм 2014 г. в Сочи не только не в наших планах, но и не в наших возможностях тоже».
Риски для Грузии
Понятно и естественно, что замораживание положения в «новых военно-политических реалиях» (т.е. тех, что возникли в результате войны), к которым официально апеллирует Россия, рассматривается Грузией как процесс отторжения части своей территории. И на этот процесс естественным же образом последовала реакция на самом проблемном для России – северокавказском направлении. Михаил Саакашвили, однако, играет в опасные игры. Еще до признания Грузией геноцида черкесов директор Национальной службы разведки США Джеймс Клапер отметил, что наряду с присутствием российских войск в Абхазии и Южной Осетии напряженности в регионе способствуют и последние шаги Грузии в отношении северокавказских республик России. В декабре 2011 г. то же самое отметила эксперт Института Брукингса Фиона Хилл в ходе слушаний по вопросу конфликтов на Кавказе в Хельсинкской комиссии Соединенных Штатов (Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе).
«Раскачивание» ситуации на Северном Кавказе таит для Грузии не меньше опасностей, чем для России, и не сулит прямых выгод. Инфантильными выглядят надежды на то, что под грузом неразрешимых проблем Россия уйдет с Северного Кавказа (или будет вынуждена оттуда уйти; с Курилами, например, Москва явно не спешит расставаться). Программная статья по национальной политике бывшего и будущего президента России однозначно свидетельствует о незыблемости подхода Кремля к вопросу. Грузино-абхазский и грузино-осетинский конфликты не решатся сами собой даже в условиях полного невмешательства со стороны России (и выглядящего сегодня нереальным отзыва признания независимости Абхазии и Южной Осетии). Северокавказские народы отнюдь не поспешат единым строем под экономическое и иного рода покровительство Грузии, на что у последней просто нет ресурсов.
Более того, в случае успешного продвижения «черкесского проекта» (от признания геноцида – через воссоединение – к независимости), появится еще один претендент на Абхазию в лице крепнущих адыгов. Включение в их проект родственных абхазов может произойти даже не вполне добровольно со стороны последних, а многочисленная черкесская диаспора с определенным политическим влиянием в разных странах послужит значительным фактором. Сергей Маркедонов, выступая в Университете Джорджа Вашингтона еще до признания Грузией геноцида черкесов (в ноябре 2010 г.), отметил, что «после признания независимости Абхазии Москва столкнулась с растущим черкесским национализмом, поскольку Абхазия считается частью черкесского мира в Адыгее, Карачаево-Черкесии и в Кабардино-Балкарии». Понятно, что признание геноцида черкесов со стороны Тбилиси лишь подогрело эти настроения.
Следует также учитывать, что способность Грузии проводить активную политику («политику мягкой силы») в отношении Северного Кавказа во многом зависит от геополитической конъюнктуры: нарастающий кризис вокруг Ирана и анонсирование Россией беспрецедентных по масштабам и вовлеченности маневров «Кавказ-2012» могут изменить таковую, равно как и исход выборов в Грузии и США.
Наконец, неясно, чем и как Тбилиси будет отвечать на просьбу о признании геноцида со стороны других соискателей, живущих в непосредственной близости. Есть ведь и практически идентичная проблема геноцида абхазов в Российский империи, хотя сами абхазы пока и не просили никого о признании их геноцида.
Прямого ответа со стороны Российской Федерации (в свойственном ей силовом духе) на признание геноцида черкесов и некоторые другие шаги Грузии на северокавказском направлении пока не последовало. Оно и понятно – практически все аналитики сходятся во мнении, что до завершения зимней Олимпиады в Сочи Россия не пойдет ни на какие меры, способные еще более дестабилизировать ситуацию в регионе, и тем самым поставить под угрозу проведение Олимпийских игр и собственный престиж. Но игры завершатся в середине марта 2014 года… В арсенале же грузинской политики остается еще признание геноцида вайнахов (эта тема, кстати, прозвучала в марте 2010 г. на конференции в Тбилиси, а группа ингушей, проживающих в Европе, обратилась к грузинским властям с просьбой об инициировании процесса признания в Европарламенте), хотя гадать о том, что на уме у лидеров в Москве и Тбилиси – дело неблагодарное.
* * *
Остается надеяться, что до марта 2014 г. политические элиты не будут заняты тем, чтобы придумать, как еще побольнее досадить друг другу (а фактически – населению своих стран). Вместо этого стоило бы поискать пути отхода от принципа игры с нулевой суммой (достигли же согласия по ВТО с сохранением лица), которого упрямо придерживаются до сих пор все без исключения официальные стороны всех без исключения конфликтов на Кавказе, и который контрпродуктивен для всех вместе и каждого в отдельности. По мнению ряда грузинских и российских экспертов, стабильный Северный Кавказ – чуть ли не единственный общий интерес Грузии и России, на котором можно «здесь и сейчас» строить процесс примирения. Известно, однако, что строить сложнее, чем ломать.
Ивлиан Хаиндрава – директор программы южнокавказских исследований Республиканского института (г. Тбилиси).

В поисках симметрии компромиссов
Конфликт в Нагорном Карабахе: право на самоопределение не противоречит принципу территориальной целостности
Резюме: Соглашение о промежуточном статусе для Нагорного Карабаха обеспечит легитимность этой самоуправляющейся территории и способствует созданию благоприятных условий для референдума об окончательном статусе.
Несмотря на многолетний переговорный процесс и интенсивные усилия международных посредников в лице Минской группы ОБСЕ, вооруженный конфликт вокруг Нагорного Карабаха все еще далек от окончательного урегулирования. Активные военные действия между Арменией и Азербайджаном были прекращены в 1994 г., однако стороны так и не преодолели разногласий по поводу статуса Нагорного Карабаха. В Баку, опираясь на европейскую практику, полагают, что единственный путь к примирению двух соседних народов лежит через самоопределение этого региона в составе Азербайджана, с предоставлением ему наивысшей степени самоуправления.
Единый Карабах
Как известно, начавшись в 1988 г. с требований о передаче Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, этот внутренний спор двух союзных республик после распада Советского Союза фактически перерос в полномасштабный межгосударственный вооруженный конфликт. В результате военных действий армянская сторона сумела взять под полный контроль не только территорию бывшей НКАО, но и семь соседних административных районов Азербайджана, где армянское население никогда не проживало. Это кардинально отличает конфликт от положения, которое складывалось, например, в Косово, Абхазии и, до августа 2008 г., в Южной Осетии. Там все еще проживают соответственно этнические сербы и грузины, в то время как армянская сторона вынудила азербайджанское население полностью покинуть и Нагорный Карабах, и обширные территории за его пределами, препятствуя возвращению азербайджанцев в места постоянного проживания. Более того, оккупированные территории, рассматриваемые армянской стороной в качестве своеобразной «буферной зоны», используются и для частичного размещения там армянских переселенцев.
После исчезновения СССР первоначальные призывы о присоединении Нагорного Карабаха к Армении трансформировались в требование о признании полного суверенитета т.н. Нагорно-Карабахской Республики («НКР»), которая была самопровозглашена на контролируемых армянской стороной территориях. Армения официально не признает независимость «НКР», однако состоит с ней в тесном союзе, фактически ведет ирредентистскую политику (ирредентизм – движение, направленное на присоединение территории, на которой проживает этническое меньшинство, к территории титульного государства, в котором этот этнос уже составляет большинство) и оказывает «НКР» военно-политическую, дипломатическую и социально-экономическую помощь, без которой существование этого образования было бы практически невозможно. Ощутимую финансовую и информационную поддержку «НКР» также получает от влиятельной армянской диаспоры.
Баку, естественно, не признает легитимность этой «республики», образование которой сопровождалось применением военной силы, изгнанием азербайджанского гражданского населения и нарушением многих принципов международного права. Несмотря на тяжелые последствия вооруженного конфликта, Азербайджан продолжает рассматривать армянское население Нагорного Карабаха как своих граждан и призывает их не игнорировать вековой опыт совместного проживания двух народов. В связи с этим стоит упомянуть и о таких фактах недавнего прошлого, как большое число смешанных браков, наличие населенных пунктов, в которых до конфликта никогда не возникало межэтнических проблем (например, знаменитая деревня Туг в Нагорном Карабахе), существование азербайджанцев и армян родом из Карабаха, носящих одинаковые древние фамилии (Мелик-Еганов – Мелик-Еганян).
Кроме того, в Баку полагают, что абсолютизация права части населения Нагорного Карабаха на самоопределение (а фактически на отделение) уже привела к прямому нарушению прав тех, кто населяет весь Карабахский регион. Последний с исторической и географической точки зрения всегда включал в себя верхнюю (горную) и нижнюю (равнинную) части. В состав верхнего Карабаха входят, кроме территории бывшей НКАО, также Лачинский и Кельбаджарский районы Азербайджана. Эти два района, а также практически вся территория нижнего Карабаха, которая граничит с бывшей НКАО, находятся в настоящее время под контролем армянской стороны.
В социально-экономическом плане Карабах всегда представлял собой единый организм, что в немалой степени обусловлено спецификой местного сельского хозяйства. Она заключалась в том, что азербайджанское население нижнего Карабаха издавна использовало высокогорную часть верхнего Карабаха (а также частично территорию современной Армении, граничащую с этим регионом) в качестве летних пастбищ. В силу этого, а также географических особенностей региона транспортные коммуникации между горной и равнинной частью Карабаха всегда пролегали в направлении с востока на запад, пересекая земли бывшей НКАО. В первую очередь это касается расположенных вне границ бывшей НКАО территорий верхнего Карабаха – северной части Лачинского района и всего Кельбаджарского района, отделенного от остальных частей Азербайджана Муровдагским хребтом, высотой более 3000 м над уровнем моря.
Таким образом, НКАО, созданная лишь в 1923 г. на части территории верхнего Карабаха с преимущественно армянским населением, находилась в центре большого Карабахского региона, в котором до конфликта всегда преобладало азербайджанское население. Причем в НКАО наряду с армянами проживали и азербайджанцы (21,5% по результатам всесоюзной переписи 1989 г.), а город Шуша, основанный Панахали-ханом как столица Карабахского ханства, до сих пор воспринимается азербайджанцами в качестве одного из исторических центров национальной культуры.
Следовательно, наличие тесной взаимосвязи горной и равнинной частей Карабаха, а также фактор города Шуша показывают, что подлинное урегулирование конфликта возможно лишь при учете интересов не только армянской общины Нагорного Карабаха, но и всех жителей Карабаха. Это возможно при условии сохранения единства региона, восстановления и развития экономических связей, транспортных коммуникаций, жизненно необходимых для его населения, совместного использования водных ресурсов.
Трансформация силы
Фактор единого Карабаха, к сожалению, до сих пор недооценивается или игнорируется как армянской стороной, так и международными посредниками, предпочитающими рассматривать конфликт исключительно в рамках этнического противостояния армянского меньшинства и Азербайджанского государства. Однако даже в этом контексте отношение к конфликту ведущих мировых и региональных держав, международных организаций носит двойственный характер. С одной стороны, они признают территориальную целостность и ратуют за нерушимость границ Азербайджана, с другой, выступают против любых попыток «принуждения к миру», декларируя лишь готовность стать гарантами окончательного урегулирования в случае самостоятельного нахождения Арменией и Азербайджаном взаимоприемлемых компромиссов.
Одна из причин такой двойственности заключается в следующем. В пост-косовском мире между ведущими державами отсутствует согласие по основным принципам международного права, касающихся территориальной целостности государства и права народов на самоопределение. Одновременно консенсусный характер принятия решений в ОБСЕ (на сегодняшний день единственной организации, имеющей мандат на урегулирование этого конфликта) делает практически невозможной выработку единой концепции разрешения конфликта, которую международные посредники могли бы не просто предложить, но и попытаться «навязать» противоборствующим сторонам.
Справедливости ради следует напомнить, что одна из первых попыток официально очертить принципиальные рамки урегулирования конфликта была предпринята еще на Лиссабонском саммите ОБСЕ в 1996 году. Сопредседатели Минской группы предложили три принципа, которые должны были стать частью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта:
обеспечение территориальной целостности Республики Армении и Азербайджанской Республики;самоопределение Нагорного Карабаха в составе Азербайджана с предоставлением этому региону наивысшей степени самоуправления;обеспечение гарантий безопасности Нагорного Карабаха и всего его населения.
Как известно, Армения стала единственной страной, отказавшейся поддержать эти принципы, и, к сожалению, за истекшее время в подходах Еревана существенных изменений не произошло. Такая жесткая позиция армянской стороны в переговорном процессе в первую очередь обусловлена тем, что итоги военных действий 1992–1994 гг. оцениваются ею как безусловная «победа» Армении, а контролируемые ею территории вокруг Нагорного Карабаха рассматриваются как своеобразный военный трофей. После заключения в мае 1994 г. соглашения о режиме прекращения огня армянская сторона стала использовать эти территории в качестве самого главного аргумента в вопросе определения статуса Нагорного Карабаха и основного средства давления на Азербайджан. В Ереване считали, что в условиях возникшего асимметричного баланса сил переговоры с «побежденным» Баку следует вести лишь о формах «капитуляции», а не о равноценных компромиссах. В полном соответствии с принципами Realpolitik, видимо, полагалось, что в перспективе Баку должен будет признать свое «поражение» в борьбе за Нагорный Карабах и согласиться на окончательное урегулирование конфликта по формуле «территории в обмен на независимость», получив в качестве компенсации контроль над частью оккупированных районов.
Однако Азербайджан сделал правильные выводы из событий начала 90-х гг. прошлого века и в первую очередь добился установления национального консенсуса о запрете применения проблемы Нагорного Карабаха в качестве инструмента внутриполитической борьбы. Затем прагматичное использование благоприятного геостратегического расположения и успешное освоение нефтегазовых ресурсов Каспийского моря позволили Баку уже к началу ХХI века наладить полноправный внешнеполитический диалог с ведущими мировыми и региональными державами, минимизировав, таким образом, возможность воздействия на Азербайджан посредством неурегулированного конфликта в Нагорном Карабахе. Одновременно возросший экономический потенциал Азербайджана, его ключевая роль в обеспечении энергетической безопасности европейских стран, неуклонный рост военного бюджета привели к формированию в регионе нового баланса сил, что в значительной степени нивелировало значение пресловутого фактора «военно-политических реалий».
Неучастие Еревана в крупных инфраструктурных проектах из-за противостояния с Азербайджаном и отсутствие сухопутного транспортного сообщения с Россией после событий августа 2008 г. привели к появлению в Армении хронических социально-экономических проблем. Они, в свою очередь, отразились на ухудшении демографической ситуации. В последние годы стало также очевидно, что в отличие от Азербайджана, который динамично развивался вопреки существующему конфликту в Нагорном Карабахе, Армения продолжает испытывать трудности именно из-за этого конфликта.
К сожалению, возникновение нового баланса сил не привело к существенным изменениям в подходах международных посредников. Хотя сопредседатели Минской группы неоднократно и заявляли о неприемлемости статус-кво, усилия они направляли скорее на предотвращение эскалации конфликта, чем на поиск решения ключевых проблем, имеющих важное значение для Баку. В частности, это относится к вопросу безусловного освобождения ряда оккупированных азербайджанских районов вокруг Нагорного Карабаха (к чему, кстати, призывают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и ряда других международных организаций).
Более того, для улучшения геополитической ситуации вокруг Армении и создания для нее возможностей прямого выхода на Запад ведущие державы предприняли попытки нормализации армяно-турецких отношений и открытия межгосударственной границы, которая была закрыта Турцией в 1993 г. после оккупации армянской стороной Кельбаджарского района Азербайджана. К сожалению, инициаторы этого проекта, в частности, США, недооценили важность хотя бы частичной синхронизации этого процесса с урегулированием карабахского конфликта, вследствие чего подписанные Цюрихские протоколы так и не были ратифицированы.
Параллельно в ноябре 2008 г. после подписания Майендорфской декларации начался новый этап в урегулировании карабахского конфликта, инициированный Москвой. За последние три года при непосредственном участии президента России Дмитрия Медведева было проведено 10 встреч между президентами Армении и Азербайджана, на которых, как известно, обсуждались различные варианты т.н. Мадридских принципов урегулирования, которые базируются на таких положениях Хельсинкского заключительного акта, как неприменение силы или угрозы силой, уважение территориальной целостности и право народов распоряжаться своей судьбой.
Конечно, благодаря российскому посредничеству сторонам удалось значительно сблизить позиции по некоторым вопросам, однако из-за того, что переговорный процесс уже многие годы фактически базируется на принципе «согласовано все или ничего», урегулирование все еще остается заложником вопроса будущего статуса Нагорного Карабаха. К сожалению, армянская сторона, несмотря на изменившийся баланс сил, пока не готова отказаться от пресловутой формулы «территории в обмен на независимость» или ее различных модификаций («территории в обмен на т. н. референдум»), предопределяющих статус Нагорного Карабаха на начальном этапе урегулирования. Более того, в понимании азербайджанской стороны статус Нагорного Карабаха будет полностью легитимным лишь в случае достижения консенсуса между армянским и азербайджанским населением региона. А это, по образному выражению президента Азербайджана Ильхама Алиева, «может быть и через год, может быть через 10 лет, может быть через 100 лет, а может быть, никогда». Именно на этот пока неопределенный временной период и предлагается заключить Соглашение о промежуточном статусе для Нагорного Карабаха. Оно обеспечит легитимность этой самоуправляющейся территории, позволит армянской и азербайджанской общинам самостоятельно сформировать законодательные, исполнительные, муниципальные и иные региональные органы, а также будет способствовать созданию благоприятных условий для проведения в будущем референдума по поводу окончательного статуса Нагорного Карабаха.
Формула компромисса
Содержательная дискуссия о предоставлении Нагорному Карабаху промежуточного статуса требует от сторон серьезных симметричных уступок с одновременным отказом от восприятия конфликта лишь сквозь призму «игры с нулевой суммой». В связи с этим стоит рассмотреть ряд предварительных условий, без выполнения которых реализация идеи промежуточного статуса практически невозможна.
С азербайджанской стороны условия неоднократно артикулировались, и их суть сводится к поэтапному освобождению оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха, а также возвращению вынужденных переселенцев к местам их постоянного проживания. В контексте Соглашения о промежуточном статусе это означает возвращение азербайджанцев в Нагорный Карабах и формирование совместно с армянской общиной новых органов самоуправления, что, на взгляд Баку, является естественной предпосылкой для осуществления в дальнейшем демократического волеизъявления всего населения этого региона.
Условия армянской стороны можно рассматривать в рамках трех нижеприведенных принципов: гарантии безопасности для населения Нагорного Карабаха, наличие сухопутного коридора для связи с Арменией и отсутствие вертикальных отношений с официальным Баку.
Ясно, что обеспечение безопасности должно осуществляться в рамках симметричной формулы «территории в обмен на безопасность», т.е. освобождение районов вокруг Нагорного Карабаха, в соответствии с одним из положений Мадридских принципов, сопровождается заключением соглашения об окончательном отказе сторон от применения силы, обеспечением международных гарантий безопасности и проведением миротворческой операции.
Более того, как неоднократно заявлял Баку, начало освобождения оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха способно стать катализатором и других процессов, связанных с открытием границ, нормализацией армяно-турецких отношений и вовлечением Армении в региональные инфраструктурные проекты. В этом контексте в дополнение к вышеуказанной формуле начнет работать и другая симметричная формула – «территории в обмен на экономическое сотрудничество».
Что касается сухопутного коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией, то компромисса в этом вопросе легко достигнуть, если в рамках симметричного подхода Азербайджану будет предоставлена возможность свободного транзита в Нахичевань через территорию Армении. Такой транзит возможен как через автомобильную дорогу Агдам – Нагорный Карабах – Лачин – Горис (Армения) – Нахичевань – Турция, так и по ныне блокированной железной дороге Баку – Нахичевань – Ереван.
Одновременно достижение принципиального согласия по промежуточному статусу может помочь в решении такой сложной проблемы, как включение в переговорный процесс де-факто властей Нагорного Карабаха. Очевидно, что такие вопросы, как организация безопасного возвращения азербайджанцев к местам постоянного проживания в Нагорном Карабахе и формирование новых органов самоуправления на переходный период, просто невозможно решать без совместной работы с выборными или назначенными представителями армянской общины. Фактически речь идет о своеобразной легитимации этих представителей в качестве стороны, которая ведет переговоры о детальном содержании промежуточного статуса, подписывает соглашения и несет определенную ответственность за их выполнение.
Конечно, наиболее трудноразрешимым выглядит вопрос о конфигурации (иными словами, о степени «горизонтальности») будущих отношений Азербайджана с созданными в рамках «промежуточного статуса» новыми органами самоуправления Нагорного Карабаха. Но именно здесь и может пригодиться успешный опыт европейских автономий, в частности, на Аландских островах в Финляндии или в Трентино-Альто Адидже (Южном Тироле) в Италии. Европейская практика свидетельствует, что гармоничное сочетание политических институтов, основанных на концепциях самоуправления, и совместного решения вопросов, представляющих взаимный интерес, может способствовать формированию равноправных (т.е. фактически «невертикальных») отношений между этническими регионами и центром.
Контуры «промежуточности»
Надо отметить, что идея использования европейских моделей на Южном Кавказе еще с середины 1990-х гг. остается довольно популярной среди представителей ряда международных организаций и государственных структур, экспертного сообщества и общественности стран региона. Ознакомившись с уровнем местного самоуправления на Аландских островах и в Южном Тироле, даже самые радикальные сторонники независимости обычно признают преимущества этих моделей и в принципе не возражают против их применения для урегулирования собственных конфликтов. Но несмотря на это, возможность практической реализации европейского опыта все еще подвергается сомнению в силу исторических и национально-культурных различий между Европой и Южным Кавказом. Надо признаться, что еще 15 лет назад на такую, на мой взгляд, не очень убедительную «аргументацию» возразить было довольно сложно. Однако не будем забывать, что Азербайджан и Армения уже более 10 лет являются членами Совета Европы, тесно сотрудничают со многими евро-атлантическими структурами и даже претендуют на право стать в будущем неотъемлемой частью Европы.
Естественно, европейская модель местного самоуправления в полиэтнических регионах должна рассматриваться не как объект для слепого подражания, а как некая социально-политическая, экономическая и культурная концепция, способствующая преодолению издержек чрезмерной централизации и созданию современной системы государственно-территориального самоуправления. С другой стороны, с учетом эволюционного становления европейских автономий (например, в Южном Тироле процесс растянулся почти на 50 лет, с 1946 по 1992 гг.), именно в режиме «промежуточности» легче разрабатывать механизмы взаимодействия между соответствующими органами самоуправления Нагорного Карабаха и Азербайджанской Республики, формировать четкие правовые процедуры достижения консенсуса в случае возникновения конфликта интересов. За вычетом ограниченного набора вопросов т.н. совместного ведения Азербайджан, в соответствии с европейским принципом субсидиарности, может делегировать остальные властные полномочия новым органам самоуправления Нагорного Карабаха, сформированным в рамках Соглашения о промежуточном статусе. К таким органам могут быть отнесены местные парламент, правительство, муниципалитеты и иные органы власти, в деятельности которых равноправное участие должны принимать представители обеих общин региона.
Естественно, с учетом того, что в Нагорном Карабахе преобладают этнические армяне, в Соглашении по промежуточному статусу должны быть предусмотрены дополнительные привилегии, которые гарантируют защиту языковой, религиозной и культурной идентичности армянского населения. Но эти привилегии не должны ущемлять права населяющего регион азербайджаноязычного меньшинства. С учетом выполнения данного условия Соглашение может закреплять за органами самоуправления Нагорного Карабаха исключительные полномочия на проведение самостоятельной политики в следующих областях:
определение символики Нагорного Карабаха (флаг, герб, гимн);регулирование использования официальных языков Нагорного Карабаха (армянского и азербайджанского);образование, культура и искусство, религия, защита языковой и этнической идентичности, топонимики (с учетом армяно-азербайджанского двуязычия), развитие прямых гуманитарных связей с Арменией и армянской диаспорой;здравоохранение и медицинское обслуживание;организация почтовой службы;право на осуществление вещания местных радио- и телевизионных программ;законодательное регулирование социально-экономической сферы в Нагорном Карабахе;законодательное регулирование демографической ситуации в Нагорном Карабахе с целью предотвращения искусственного изменения этнического состава населения региона;законодательное регулирование ограничений активного избирательного права для лиц, не живущих постоянно в Нагорном Карабахе (кроме лиц, проживавших на территории бывшей НКАО Азербайджанской ССР и их прямых потомков);формирование местных полицейских сил;законодательное регулирование механизма этнических квот для служащих органов самоуправления с учетом численности граждан, представляющих армянскую и азербайджанскую общины;установление обязательных требований знания армянского и азербайджанского языков при приеме на работу в органы самоуправления и т.д.
Естественно, расширение перечня полномочий органов самоуправления, а также их конкретизация может стать предметом дальнейших переговоров. Однако также ясно, что с учетом взаимосвязанности отдельных частей Карабахского региона в соглашении должны быть определены сферы, деятельность которых будет согласовываться с официальным Баку.
Например, следует предусмотреть взаимодействие органов самоуправления Нагорного Карабаха с центральными органами власти Азербайджана в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, обеспечения бесперебойной работы средств связи, крупных объектов транспортной инфраструктуры и энергетики, т.е. в тех сферах, которые традиционно затрагивают непосредственные интересы всего Карабахского региона и (или) всей страны. Большую часть этих вопросов можно безболезненно решить в рамках различных программ постконфликтного восстановления, обсуждение, принятие и реализация которых невозможна без тесного участия органов самоуправления Нагорного Карабаха. Заметим, что, несмотря на отсутствие серьезного прогресса в урегулировании конфликта, в Азербайджане уже прорабатываются первичные варианты таких программ. В частности, в прошлом году на суд общественности был представлен проект независимых экспертов «Концептуальные основы восстановления постконфликтных территорий Азербайджана», в котором рассматриваются все аспекты социально-экономического восстановления расположенных вокруг Нагорного Карабаха семи административных районов Азербайджана, в настоящее время находящихся под контролем армянских вооруженных сил. Программа восстановления рассчитана на пять лет и потребует прямых государственных инвестиций в размере 19,4 млрд долларов (без учета инфляции).
Сегодняшнее состояние экономики Азербайджана, а также перспективы ее развития на ближайшие 10 лет позволяют утверждать, что у страны хватит собственных финансовых ресурсов на осуществление такой дорогостоящей реконструкции. Более того, авторы указанного проекта исходили из того непреложного факта, что горная и равнинная части Карабаха образуют единый социально-экономический ареал. Таким образом, в случае достижения Соглашения о промежуточном статусе вышеуказанная программа может быть легко дополнена соответствующим разделом, посвященным социально-экономическому развитию Нагорного Карабаха. Также заметим, что возможности азербайджанской экономики позволяют без труда покрывать возможный дефицит бюджета Нагорного Карабаха, инвестировать значительные средства в его экономику, делегировать региону все полномочия по сбору и распределению налоговых поступлений, способствовать созданию в Нагорном Карабахе свободной экономической зоны со свободным обращением валют.
С другой стороны, сферы, в которых традиционно исключительные полномочия имеет центральное правительство, такие как, например, внешняя политика, оборона и пограничная служба, конституционное законодательство и т.д. должны находиться в ведении Баку при условии закрепления в соглашении четких механизмов учета интересов Нагорного Карабаха.
В целом в условиях дефицита доверия сторон друг к другу важным элементом соглашения, конечно, должна стать комплексная система гарантий выполнения принимаемых решений. Кроме естественных международных гарантий, например, от сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в законодательном порядке должны быть закреплены взаимные обязательства сторон, механизмы и процедуры разрешения спорных вопросов, предусмотрены меры международного мониторинга процесса реализации соглашения. Для решения подобных проблем также можно использовать опыт Финляндии и Италии, законодательство которых предусматривает установление особых согласительных механизмов принятия консенсусных решений, если какая-либо из сторон (центральное правительство или автономия) посчитает, что другой стороной превышены ее законодательные полномочия.
В любом случае, на начальном этапе Соглашение о промежуточном статусе в первую очередь должно способствовать решению социально-экономических проблем региона, восстановлению складывавшихся десятилетиями народно-хозяйственных связей Нагорного Карабаха с остальными областями Азербайджана. Тогда Карабахский регион вновь начнет выполнять одну из своих исторических транзитных функций, соединяя Азербайджан и Армению. Импульс и мотивацию взаимовыгодному процессу может дать лишь возвращение азербайджанских переселенцев на места постоянного проживания, а дальнейшая полноценная реинтеграция азербайджанской общины в общественно-политическую и социально-экономическую жизнь Нагорного Карабаха, по сути, должна стать главным итогом реализации Соглашения о промежуточном статусе. В понимании Баку только после этого в рамках равноправного диалога двух общин может начаться политико-правовой процесс определения будущего статуса региона, и лишь решения, принятые в результате такого процесса, могут считаться легитимными как в Армении, так и в Азербайджане.
Географический фатализм
На заре независимости многие и в Армении, и в Азербайджане наивно полагали, что разрешение конфликта в Нагорном Карабахе возможно лишь при безусловном доминировании в регионе какой-либо одной внешней силы. Между тем, на протяжении 70 лет обе республики уже находились под патронатом Советской власти, которая хотя и обеспечила временное «этническое перемирие», но не смогла распутать гордиев узел проблем двух соседних народов. К тому же при сегодняшнем прагматичном миропорядке внешние игроки в таком геополитически чувствительном регионе, как Южный Кавказ, озабочены не столько абстрактным расширением сфер влияния, сколько конкретной и жесткой защитой собственных национальных приоритетов, в число которых скорейшее урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе может и не входить. К тому же неизвестно, окажется ли принятая под внешним давлением новая версия «этнического перемирия» более долговечной и, самое главное, будет ли оно отвечать интересам и Азербайджана, и Армении.
Конечно, стороны конфликта способны самостоятельно вывести переговорный процесс из тупика, но только в случае «рационализации» подходов к урегулированию, отказа от безуспешных попыток согласования бескомпромиссных позиций в пользу поиска точек соприкосновения подлинных национальных интересов обоих народов. Движению по этому пути не в последнюю очередь мешают сформировавшиеся за десятилетия национальные поведенческие стереотипы и высокая степень недоверия друг к другу. Между тем очевидно, что совместный интерес и Армении, и Азербайджана в Нагорном Карабахе заключается в обеспечении внутренней и внешней безопасности, устойчивого развития и повышении благосостояния и армянской, и азербайджанской общин.
Если это действительно так, то основанное на симметрии компромиссов Соглашение о промежуточном статусе, смягчая болезненный для обеих сторон вопрос о суверенитете Нагорного Карабаха, может стать незаменимым инструментом решения насущных проблем жителей как этого региона, так и самой Армении.
К сожалению, пока нет признаков того, что армянская сторона готова действовать в рамках такой рациональной логики. Лучше всего об этом свидетельствуют слова президента Армении Сержа Саргсяна, который в интервью газете «Московские новости» на риторический вопрос о возможности полноценного экономического роста Армении без решения очевидных геополитических проблем обреченно заметил, что «география – это приговор, это судьба». В Азербайджане такой своеобразный геополитический фатализм не разделяют и полагают, что судьба Армении все-таки должна находиться в руках армянского народа и его политической элиты. Сумеет ли армянское общество сделать рациональный выбор до того, как «география» станет окончательным «приговором», не подлежащим обжалованию, покажет самое ближайшее будущее.
Гюльшен Пашаева – кандидат филологических наук, заместитель директора Центра стратегических исследований (г. Баку).

Несчастливы по-своему
Постсоветские пути Азербайджана, Армении и Грузии
Резюме: Нынешний закрытый характер политических режимов трех закавказских стран объясняется тем, что государству в малой степени приходится обращаться к обществу за ресурсами, необходимыми для сохранения и укрепления государственности.
Статья написана по материалам исследования «Внутриполитические трансформации государств Закавказья», проведенного некоммерческим партнерством «Кавказское сотрудничество» (www.georgiamonitor.org).
Страны Южного Кавказа разделили общую судьбу. Обретя независимость, Грузия, Армения и Азербайджан пострадали от войн, этнических конфликтов, разрыва прежних коммуникаций и распада государственных структур. Но нельзя сказать, что одинаковый жребий выпал и на долю политических режимов – равные стартовые позиции и схожие внешнеполитические условия обернулись различными итогами.
Азербайджан после нескольких лет метаний практически вернулся к сложившейся еще в рамках Советского Союза системе патрон-клиентских сетей как основе политического режима. Приток нефтедолларов позволяет не замечать порождаемых этой системой издержек и гасить потенциальные конфликты внутри элиты – делимый пирог постоянно (хотя и все более медленно) растет. Экономика Армении относительно диверсифицирована, страной правят различные группы, представляющие своеобразный конгломерат интересов и выторговывающие у государства те или иные преференции. В Грузии после многих лет распада установилась власть жестких либералов-западников, построивших дисциплинированный государственный аппарат – главную опору и источник силы политического режима, бюрократия поставлена на службу личной власти.
Примечательно, что различия между этими тремя странами будто бы не зависят от степени их демократичности. Публичная критика в адрес властей в Азербайджане чревата большими издержками для критикующего, чем в Армении или Грузии. Но ни одна из стран так и не приобрела опыта легитимной смены власти в результате выборов, поэтому значимых «маркеров демократии» здесь не существует. Более весомым может оказаться показатель качества государственного управления. Однако симптоматично, что грузинские реформы, которые многими и в регионе, и в мире оцениваются как образцовые, так пока и не привели к отрыву Грузии от соседней Армении по подушевому ВВП.
Траекторию внутриполитических трансформаций в Азербайджане, Армении и Грузии можно описать и сравнить, если рассматривать ее в качестве результирующей четырех факторов. Это
место страны в мировом и региональном разделении труда;исход противоборства за контроль над государственными институтами между различными группировками внутри элиты;роль «вооруженных людей» в политической системе;степень зависимости государства от изымаемых им у населения ресурсов.
Три закавказские республики не относились к самой развитой части Советского Союза, хотя и не были самой бедной. В Азербайджане и Армении произошла индустриализация, ко времени распада СССР в структуре их ВВП преобладала промышленность. Оценки данного показателя по Грузии разнятся, однако в целом страна не слишком отставала от соседей. В индустрии республик Закавказья довольно заметная доля приходилась на высокие технологии – авиационную промышленность в Грузии, электронную в Армении. По данным Российского института стратегических исследований, на излете советской эпохи азербайджанское машиностроение обеспечивало до 80% всех потребностей в оборудовании нефтедобывающей промышленности страны.
Итогом деградации Советского Союза и сопровождавших этот процесс войн, разрыва традиционных транспортных коммуникаций, экономического кризиса стала деиндустриализация всех трех стран. К середине 1990-х гг. доля промышленности в структуре ВВП Азербайджана сократилась вдвое (с 60 до 30%). В Армении многие отрасли промышленности упали в несколько раз. В Грузии, по данным Иосифа Арчвадзе, в течение 1990-х гг. работу потеряли 400 тыс. человек, занятых в промышленности (численность населения страны по переписи 1989 г. составила около 5 млн человек). Уместно добавить, что крах советской системы торговых ограничений привел также и к резкому снижению экспортного потенциала закавказского сельского хозяйства – его продукция утратила исключительное положение на рынках России и других постсоветских стран. Таким образом, «рукотворные» экономические преимущества в значительной мере исчезли, остались преимущества естественные. Внутриполитическое развитие трех государств зависело от того, какими именно преимуществами они обладали (если обладали) и как политические элиты ими распорядились.
Нефть – это решение?
Для Азербайджана единственным способом добиться быстрых темпов экономического роста и наполнить государственный бюджет стало расширение добычи и экспорта нефти и газа. В определенный момент экспорт энергоносителей на мировые рынки по новым маршрутам в сотрудничестве с крупнейшими западными компаниями стал рассматриваться как панацея, одновременно обеспечивающая Азербайджану экономический подъем, укрепление государственного суверенитета (благодаря уходу из-под влияния России) и внешнеполитические преимущества в конфликте с Арменией.
Рост мировых цен на нефть, увеличение добычи углеводородов (по данным Международного статистического комитета стран СНГ, в 2000–2010 гг. добыча нефти в Азербайджане выросла с 14 до 50,4 млн т) и расширение возможностей для их экспорта через нефтепроводы на Супсу и Джейхан и газопровод на Эрзерум обеспечили стране экономический бум. По оценкам Всемирного банка, в 2006 г. рост ВВП в Азербайджане составил 34,5%, в 2007 г. – 25%. В дальнейшем его темпы снизились, однако по сравнению с соседями по региону, да и большинством стран мира, Азербайджан легче перенес глобальный экономический кризис. В 2008–2010 гг. средние темпы ежегодного роста его ВВП составили 8,4% при среднемировых 1,2%.
Однако экономический успех, который принесла нефть, обернулся закреплением статуса моноотраслевой структуры экономики. В 2005 г. добыча углеводородов давала около 40% ВВП Азербайджана, в 2008 г. этот показатель увеличился до 60%. Темпы роста «ненефтяной» промышленности в последние годы значительно ниже темпов роста экономики в целом.
Приток нефтедолларов позволяет поддерживать внешние атрибуты процветания вроде строящихся в столице небоскребов и запредельных по сравнению с соседями оборонных расходов. Однако Азербайджан все еще остается сравнительно бедной страной. Подушевой ВВП по ППС составляет 10,2 тыс. долларов (данные МВФ, сентябрь 2011 г.), что почти вдвое выше, чем у соседних Армении и Грузии (приблизительно по 5,4 тыс. долларов), однако ниже, чем у Казахстана (13,0) и России (16,7).
Показательно субъективное восприятие экономического бума населением. По данным опроса социологической службы Puls-R (Баку), с 2006 по 2010 гг. доля респондентов, которые оценивают положение своей семьи с помощью фразы: «С трудом сводим концы с концами», сократилась с 50,8% опрошенных в 2006 г. до 49% в 2010 году. «Острую нужду» испытывали, соответственно, 10,1 и 9,1% на фоне обширных государственных программ по борьбе с бедностью. А доля тех, кто, по их собственному признанию, не сталкивается с материальными трудностями (организаторы опроса отождествляют их со средним классом), выросла с 28,0 до 32,5%. Иными словами, взрывной рост экономики практически не привел к сдвигам в социальной структуре населения.
Последнее обстоятельство во многом объясняет незыблемость политических порядков в Азербайджане. Те социальные группы, которые были двигателем перемен в конце советской эпохи, исчезли вместе с породившим их экономическим укладом. Углеводородный рост коснулся лишь элит и зависимой от них прослойки среднего класса. В основном общество осталось таким, как оно сложилось в 1990-е гг. – состоящим из бедных масс, узкого слоя богатой элиты и обслуживающего ее интересы небольшого среднего класса. В обществе нет массовых групп, чьи интересы нуждались бы в выражении и согласовании, и это сужает социальные условия для политической конкуренции.
Углеводородный бум влечет за собой еще одно следствие. Добыча и экспорт нефти и газа доминируют в национальной экономике за отсутствием других сопоставимых по масштабу отраслей. За пределами углеводородного сектора экономический рост сосредоточивается в строительстве и на рынке недвижимости, причем последний, по всей видимости, носит спекулятивный характер (подобно докризисному московскому рынку недвижимости, когда квартиры в российской столице воспринимались как инвестиционный инструмент). В Азербайджане относительно мало собственных производств, причем высокий курс национальной валюты объективно способствует росту импорта.
Политический режим Баку накладывает ограничения на активную политику в сфере диверсификации экономики. При всей своей жесткости он страдает вследствие ряда «родовых травм» постсоветской государственности – влияние автономных центров власти в виде различных номенклатурных групп, слабость институтов, коррупция.
Длительная устойчивость кадрового состава высших эшелонов власти Азербайджана говорит о том, что процесс передачи полномочий от отца к сыну в 2003 г. происходил в обстановке сохранения пребывающих у власти бюрократических кланов. Некоторые из них – те, кто бросал прямой вызов президенту Ильхаму Алиеву, – были подавлены. Однако сами принципы осуществления власти остались без изменений.
Хотя в глазах внешнего наблюдателя политическая реальность страны может ассоциироваться с ближневосточными нефтяными монархиями, делать выводы об авторитарности Баку неверно. Политика строится не столько на диктате из единого центра, сколько на сложном полицентричном балансировании интересов. Этому отвечает такая особенность азербайджанского политического режима, как фактически раздробленный силовой ресурс. В Азербайджане, кроме армии, не менее семи ведомств имеют в своем составе вооруженные формирования – МВД, Пограничная служба, Министерство национальной безопасности, Министерство юстиции, Государственная особая служба охраны, Министерство по чрезвычайным ситуациям. Отчасти эти силовые структуры входят в сферу интересов тех или иных влиятельных бюрократических группировок, по сути поддерживая баланс сил внутри элиты.
Будущее политического режима Баку, вероятно, зависит от того, каким образом правящие группы будут реагировать на замедление, а затем и остановку углеводородного роста. Ответ предстоит искать в короткий по историческим меркам отрезок времени. В последние годы власти, по всей видимости, сознательно сдерживали добычу нефти на уровне, не превышающем 50–55 млн т в год. Смысл этой политики заключается в том, чтобы «растянуть» пик добычи на более продолжительное время. Согласно некоторым прогнозам пятилетней давности, пик (71 млн т) должен был прийтись на 2010 г., после чего начнется спад, который к 2020 г. приведет к уровню добычи в 20 млн т (приблизительно столько добывается на территории Татарстана). Политика «смягчения пика», как полагают в Баку, позволит сохранить нынешний уровень добычи до 2020 года. По другим оценкам, снижение начнется после 2015 года. В дальнейшем экономические преобразования уже нельзя будет подкрепить финансовыми ресурсами, сопоставимыми с нынешними. Кроме того, их придется проводить в более жесткой социально-политической ситуации.
Стратегии диверсификации, которые обсуждаются в Азербайджане, не отличаются убедительностью. Речь, во-первых, идет о том, чтобы превратить государственную нефтяную компанию SOCAR в транснационального игрока, обладающего производственной, в том числе ресурсной базой за рубежом, и продающего не столько физическую нефть, сколько компетенции по ее добыче. Однако у SOCAR может не хватить ресурсов для проведения такой стратегии. Приобретение производственной базы за рубежом потребует либо больших инвестиций, которые будут практически уведены из страны, либо слияния с крупным зарубежным игроком нефтяного рынка, что несет в себе угрозу утраты контроля азербайджанской стороны над объединенной компанией. Что же касается компетенций по добыче нефти, то SOCAR, несмотря на вековой опыт азербайджанских нефтяников, едва ли сможет на равных конкурировать с мировыми лидерами.
Во-вторых, в контексте диверсификации экономики обсуждается «джентльменский набор» слаборазвитых стран и регионов – туризм и сельское хозяйство. В мире нет прецедентов, когда странам удавалось преодолеть бедность опираясь на эти отрасли. Яркое тому свидетельство – глубокий экономический и социально-политический кризис в Греции, которая некогда объявила: «Туризм – наша индустрия». Кроме того, по этим направлениям Азербайджану предстоит конкурировать с Турцией, что крайне невыгодно. Наконец, естественным рынком для азербайджанских туристических услуг является Иран, но Азербайджан плохо приспособлен к тому, чтобы развивать дешевый туризм (слишком высокий уровень цен, избыточно дорогие гостиницы, причем в гостиничном бизнесе основной акцент делается на строительство отелей премиального сегмента). Еще одним направлением диверсификации может стать нефтепереработка – за последние годы властям удалось добиться значительного роста в этой отрасли.
Однако проведение более жесткой и целенаправленной экономической политики, направленной на борьбу с коррупцией, развитие собственных производств и импортозамещение, более эффективное обеспечение прав инвесторов чревато риском вызвать «аппаратную» оппозицию со стороны ущемленных групп бюрократии, что подорвет внутриэлитный консенсус.
Теоретически президент может преодолеть положение «первого среди равных» двумя путями. Первый – формирование широкой общественно-политической коалиции, ставящей перед собой цель смещения старых элит, осуществление своего рода «революции роз сверху». Этот путь крайне рискован: либерализация режима способна дестабилизировать страну раньше, чем возникнет такая коалиция; ее возникновению также будет препятствовать слабость политических институтов. Кроме того, такой метод предполагает наращивание популистских элементов в политике президента, а ресурс популизма в Азербайджане, похоже, близок к исчерпанию. Второй путь – значимый внешнеполитический успех, который сделает президента безусловным лидером в азербайджанской элите. Можно предположить, что именно стремлением к такому успеху объясняется жесткая позиция Алиева по Карабаху.
Исламизация Азербайджана в настоящий момент маловероятна: страна в значительной степени остается светской. По данным Puls-R, доля людей, которые считают себя глубоко верующими и выполняют все религиозные предписания, остается относительно небольшой и снижается. Если в 2006 г. к таковым принадлежало 15,8% опрошенных, то в 2010 г. – всего 9,5%. Также малочисленны и имеют тенденцию к снижению сторонники доминирования в стране исламских ценностей – 14,5% в 2007 г. и 10,7% в 2010 году. По всей видимости, властям удалось остановить ощущавшийся в середине 2000-х гг. тренд на исламизацию. В этом их успехе есть три составляющих. Во-первых, на исламских радикалов оказывалось жесткое силовое давление, причем, в отличие от аналогичной ситуации на российском Северном Кавказе, оно практически не балансировалось деятельностью правозащитных организаций. Во-вторых, резкий экономический рост в последние четыре года привел к снижению числа недовольных и, соответственно, падению востребованности радикальной идеологии. В-третьих, власти пошли на определенные уступки «системным» или умереннным исламским лидерам (шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде), которые стремятся играть более активную роль в политической и общественной жизни.
В то же время ряд азербайджанских экспертов признают, что в случае ослабления правящей группы реальным сценарием станет не демократизация страны, а ее исламизация. Несмотря на относительно небольшое число убежденных приверженцев политического ислама, они отличаются высокой мобилизованностью и сплоченностью, чем не могут похвастаться прочие политические силы. Один из бакинских экспертов полагает, что при доле исламистов в составе населения в 10% на свободных выборах они могут получить до 30% поддержки. Пока неиспользованным потенциальным ресурсом исламистов могут стать низовые протестные стихийные социальные движения, возникающие на почве локально зафиксированных попыток ущемить экономические интересы граждан.
В отсутствие естественной монополии
В Армении нет естественной монополии, подобной той, что сложилась в Азербайджане. Ей пока не удалось восстановить прежний промышленный потенциал, поскольку многие виды продукции стали нерентабельными из-за высоких транспортных издержек, связанных с блокадой прежних маршрутов доставки на зарубежные рынки. Выживали лишь те производства, в которых расходы на транспортировку и энергоемкость были умеренными. В разные периоды в зависимости от внешней конъюнктуры сюда относились ювелирная продукция или электроника. В последние докризисные годы бурно росло строительство, которое, впрочем, столь же быстро сдало позиции после 2008 года.
Слабая промышленность, близкое к натуральному сельское хозяйство, значительный объем переводов из-за рубежа создали ситуацию, когда весьма выгодным видом экономической деятельности стал импорт. В докризисном 2007 г. стоимость армянского импорта составила 39% ВВП. По оценкам наблюдателей, для большинства потребительских рынков страны характерен высокий уровень монополизации. Сравнительно высокий курс национальной валюты (драма) в совокупности с монополизацией рынков обеспечивает импортерам высокие прибыли. Однако, несмотря на значительную монополизацию отдельных рынков, в Армении не существует экономических игроков, чье доминирование было бы абсолютным. А крупные промышленные предприятия, которые могли бы стать экономической опорой для государства или «точкой кристаллизации» устойчивых интересов тех или иных сильных бизнес-групп, находятся под иностранным контролем. Так, российским компаниям принадлежит крупнейшее предприятие по производству алюминия, газораспределительные сети Армении, до 80% генерирующих мощностей в электроэнергетике, а также значительная часть банковской сферы и телекоммуникаций.
Ввиду сказанного Ереван не располагает такими универсальными инструментами контроля над экономикой и страной, какие существуют у «потенциального противника». В результате создается определенное пространство для политической конкуренции. Однако пример Армении служит доказательством того, что сама по себе конкуренция не порождает демократию: борьба за доступ к ресурсам, обеспечиваемым политической властью, идет между различными бизнес-группами и кланами, а не между программами и организованными объединениями граждан.
Моноэтничная Армения не сталкивалась с таким явлением, как сепаратизм, хорошо знакомым Грузии и Азербайджану. Для ее правящих групп не была столь критичной проблема силового контроля над собственной (или признаваемой как собственная) территорией. Война в Карабахе, в которую Армения была вовлечена к моменту получения независимости, оставляла широкие возможности в плане выдавливания за пределы страны вооруженных группировок, которые могли претендовать на власть. Их роспуск стал одним из первых распоряжений президента Левона Тер-Петросяна. Благодаря этому – при всех понятных в постсоветских условиях оговорках – власти смогли удержать монополию на насилие в руках государства.
Расклад изменила победа в Карабахе. Победители вернулись домой. Те, с кем ассоциировалась победа, стали наиболее популярными политиками. Они опирались на сложившиеся в военное время сети поддержки среди офицеров и ветеранов. Они могли потребовать – и получили – долю экономического пирога. «Гражданские» политики опирались на свой ресурс популярности и связей в элите, тогда как их силовой ресурс был ограничен. Особенно после того, как Тер-Петросян стал привлекать в руководство силовых структур выходцев из Карабаха, среди которых самыми заметными стали Роберт Кочарян и Серж Саргсян.
Приток кадров из Карабаха создал ситуацию, при которой в Армении не произошло возвращения к власти прежней советской номенклатуры, как это было в Азербайджане (Гейдар Алиев) и Грузии (Эдуард Шеварднадзе). Новый приход в политику в конце 1990-х бывшего первого секретаря республиканской компартии Карена Демирчяна в определенный момент обозначил такую перспективу – пусть и в ограниченной степени – для Армении. Но гибель Демирчяна от рук террористов в октябре 1999 г. закрыла путь к власти той элитной группе, которую он представлял. Вместе с Демирчяном погиб и Вазген Саркисян, министр обороны Армении, пришедший в политику на перестроечной волне. По сути «карабахцы» остались в одиночестве.
Тем не менее монополизации политического пространства не произошло. По-видимому, причины сохранения относительного плюрализма в Армении заключались в следующем. Во-первых, у государства не было ресурсов для того, чтобы обеспечить полный контроль над экономикой и обществом. Как и ее соседи по региону, Армения традиционно сталкивалась с трудностями при сборе налогов. Азербайджан компенсировал этот недостаток доходами от экспорта нефти, Грузия сумела построить эффективный и дисциплинированный государственный аппарат, но в распоряжении правящей группы в Ереване таких инструментов не было. Доля государственных доходов в ВВП Армении до сих пор значительно уступает соответствующему показателю в Грузии и в Азербайджане. Во-вторых, государству так и не удалось полностью сосредоточить в своих руках силовой ресурс. Сохраняются более или менее институционализированные сети ветеранов карабахской войны. Сурен Золян пишет о «хмбапетах» («атаманах») – людях, контролирующих силовые и экономические ресурсы на местах и фактически находящихся вне подчинения государственной власти. В-третьих, экономический рост в Армении в предкризисные годы в критической степени зависел от притока иностранных инвестиций, а также от внешних заимствований. В силу этого власти были вынуждены прислушиваться к рекомендациям европейских организаций касательно внутриполитической проблематики.
Главным вызовом для политической системы Армении в ближайшие годы станет, на наш взгляд, необходимость укрепления государства как легитимного института вообще и повышение качества государственного аппарата в частности. Вероятно, это будет затруднительно, если доля государственных доходов в ВВП не повысится. Основная сложность в том, что принятие соответствующего решения по сути равносильно самообложению налогами политической элиты страны.
Либерализм с кулаками
Естественным преимуществом Грузии после краха ее туристической отрасли и сельского хозяйства стало географическое положение. Транспортное сообщение между Арменией и Азербайджаном, Арменией и Турцией было прекращено из-за карабахского конфликта. Грузия стала для Армении основным окном во внешний мир, а для Азербайджана – звеном, связывающим его с дружественной Турцией. Транзитный статус стал также геополитическим ресурсом для Грузии. Заинтересованность США и западноевропейских стран в формировании транспортных коридоров, обеспечивающих связь каспийского и центральноазиатского регионов с Европой в обход российской территории, вызвало к жизни проект ТРАСЕКА, в котором ключевая роль отводится Грузии. Хотя «Великий шелковый путь» так и не состоялся в качестве альтернативы прочим маршрутам, связывающим Европу с Восточной Азией, за 20 лет Грузия сумела привлечь на свою территорию новые транспортные потоки из стран каспийского бассейна.
В соответствии с логикой транзитного развития также задумывались и реализовывались проекты трубопроводов Баку–Тбилиси–Супса, Баку–Тбилиси–Джейхан и Баку–Тбилиси–Эрзерум, а также железнодорожная магистраль Баку–Тбилиси–Карс. Доходы Грузии непосредственно от транзита нефти и газа сравнительно невелики. Однако она может зарабатывать на транзите или реэкспорте других товаров и, в частности, на фактически монопольном обслуживании сухопутных грузовых потоков между Арменией и остальным миром.
Так, в последние годы Грузия стала главным в Закавказье перевалочным пунктом для подержанных автомобилей. По данным Eurasia.net, за первые пять месяцев 2011 г. за рубеж было поставлено данного товара на сумму 197 млн долларов. Такой бизнес не создает большого числа рабочих мест, но в условиях высокой безработицы (16,3% в конце 2010 г., считая только зарегистрированных безработных), для многих людей он является источником заработка, снимая социальную напряженность. В данной сфере оправдывает себя низкий уровень государственного вмешательства и легкость оформления сделок благодаря либеральной экономической политике грузинских властей. Доля «услуг транспорта и хранения» в структуре ВВП составила в 2009 г. 12%, что свидетельствует о значимости транзита для грузинской экономики.
До прихода к власти в Грузии Михаила Саакашвили хронической болезнью государства была неспособность собирать налоги и таможенные платежи. По данным Бюджетного офиса парламента Грузии, легализация поставок бензина и топлива в страну могла бы троекратно увеличить приток средств в казну по сравнению с их фактическим объемом от поставок всех нефтепродуктов. По данным экономиста Вадима Тепермана, в 1999 г. половина потребностей Грузии в пшенице удовлетворялась за счет контрабанды, а потребление импортных сигарет в четыре раза превосходило их зарегистрированный ввоз. Контрабанда поступала через Абхазию и Южную Осетию, через Аджарию и крупнейший в регионе оптовый рынок в Садахло, на пересечении границ Грузии с Арменией и Азербайджаном.
Первые шаги Михаила Саакашвили после прихода к власти были направлены на то, чтобы вернуть государственные границы или по крайней мере трансграничные товарные потоки под контроль центральных властей. С этой целью была проведена рискованная акция по смене власти в Аджарии и изгнанию Аслана Абашидзе, а затем был закрыт рынок в Эргнети, грузинском селе, граничащем с Цхинвали (эта мера и послужила прологом к вооруженному противостоянию в Южной Осетии летом 2004 г.). Грузинская экономика отреагировала предсказуемым ростом потребительских цен, однако центральные власти впервые с момента обретения независимости стали хозяевами в собственной стране.
Масштабная приватизация наряду с резким сокращением регулирующих функций государства способствовала, с одной стороны, переходу ключевых активов в руки лояльных властям лиц, а с другой – устранению потенциальных «точек кристаллизации» новых бюрократических кланов. Возможности самостоятельного, без санкции сверху, вмешательства в экономическую жизнь со стороны того или иного чиновника минимальны, так как в Грузии отсутствуют характерные для большинства постсоветских стран механизмы такого вмешательства в виде избыточных государственных функций. Тем самым создана основа успешного преодоления низовой коррупции в стране и построения дисциплинированного государственного аппарата.
Радикальные экономические реформы пока не привели к значительному росту производства в Грузии. Так, хотя 40% трудоспособного населения Грузии занято в сельском хозяйстве, вклад этой отрасли в ВВП составляет лишь 8%, причем более 80% продовольствия Грузия завозит из-за рубежа. В 2009 г. отрицательное сальдо торгового баланса составило 3,2 млрд долларов. Контроль над импортом в таких условиях равносилен контролю над всей экономикой. Нодар Джавахишвили, в прошлом – глава Национального банка Грузии, обратил внимание на любопытную закономерность: значительное кризисное снижение цен на основные товары грузинского импорта на мировом рынке сопровождалось небольшим ростом цен на эти же товары на внутреннем рынке. Как минимум это свидетельствует о монополизации импорта по отдельным группам товаров. Кстати, поступления от налога на прибыль в период кризиса сократились, то есть импортеры не доплатили бюджету с полученной высокой маржи.
Грузия отличается от своих соседей по региону высокой долей расходов на госуправление в структуре ВВП – около 25%. Фактически государство является крупнейшим экономическим игроком. В период кризиса, когда власти поддерживали экономику за счет масштабного инфраструктурного строительства, эта роль увеличилась. Государство выступает в качестве крупнейшего и наиболее надежного работодателя. За исключением сравнительно небольшой прослойки, занятой в успешных частных компаниях, в том числе в филиалах зарубежных компаний, работающих в Грузии, грузинский избиратель либо беден, либо его благосостояние зависит непосредственно от бюджета. Это не лучшая почва для рождения демократической конкурентной политики. Тот, под чьим контролем в Грузии находится государственный аппарат, контролирует страну. Поэтому реформы Саакашвили были продиктованы политическим прагматизмом в той же мере, в какой и либеральными убеждениями. Причем достичь этих результатов действующим властям Грузии позволил именно «революционный натиск», они были избавлены от необходимости согласовывать свои действия со старой элитой.
В отличие от большинства либеральных реформаторов на постсоветском пространстве, грузинской правящей группе присуще весьма глубокое понимание значимости инструментов насилия и в политической борьбе, и в государственном строительстве. Сразу после прихода к власти они приложили все усилия к тому, чтобы ликвидировать автономные от государства вооруженные группы на подконтрольной им территории. Элементом этой политики стало и уничтожение преступных авторитетов «как класса». Численность заключенных в Грузии за время правления Саакашвили выросла кратно, однако можно с уверенностью судить о том, что в стране не осталось сфер, свободных от контроля президента и его команды.
Бескомпромиссность, недоговороспособность Саакашвили, дорого стоившая ему во внешнеполитических делах, во внутренней политике оказалась выигрышной. Между конфликтом и переговорами правящая группа неизменно выбирает конфликт, и вследствие этого избавлена от необходимости согласовывать свои действия с кем-либо внутри страны. Круг людей, допущенных к принятию политических решений, очень узок – все они поместятся за одним столом. Даже правящая партия – Единое национальное движение – не является сколько-нибудь самостоятельным политическим институтом, оставаясь лишь инструментом контроля над парламентом.
Основные вызовы сложившемуся политическому режиму лежат в экономической области. Грузия страдает от значительного дефицита торгового баланса. Экономические реформы пока не обеспечили роста национального производства. Надежда на приток иностранных инвестиций в посткризисном мире довольно слаба.
Тем не менее инерция такова, что режим может быть устойчивым в течение длительного времени, тем более что после внесения поправок в конституцию Михаил Саакашвили обеспечил себе возможность оставаться главой государства и по истечении двух президентских сроков. Грузии не угрожает долговой кризис – очень вероятно, что в критической ситуации ее долги будут реструктурированы по политическим мотивам. Возможности вмешательства внешних игроков ограничены. Рекомендации европейских структур по изменению институциональных рамок политической системы могут быть проигнорированы или удовлетворены лишь формально, будучи при этом извращены в правоприменительной практике. Что же до более вещественного вмешательства в виде прямой поддержки тех или иных сил во внутренней политике, то Соединенные Штаты, которые одни только и могут вмешиваться на этом уровне в грузинские дела, будут исходить не из ценностных оснований, а из геополитической прагматики. И при этом взвесят риски наступления в Грузии хаоса в случае падения режима Саакашвили, так как неочевидно, что дисциплинированная полиция сохранится при более плюралистичной политической системе.
Конфликты как стимул
Георгий Дерлугьян в книге «Адепт Бурдьё на Кавказе» посвятил немало драматичных строк тому, что можно было бы назвать провалом в третий мир стран постсоветского пространства. Слабость экономики, коррумпированность и неэффективность властей, отсутствие демократии – это действительно печальная реальность, в которой последние 20 лет пребывает большинство бывших советских республик. В логике миросистемного анализа основной интерес прикован к воспроизводству на каждом новом этапе истории мирового капитализма деления мира на центр и периферию. Это довольно безнадежная логика – «все будет так, исхода нет».
Дерлугьян замечает, что современные государства третьего мира, в общем, даже не стоят перед необходимостью сохранять свой суверенитет (попросту не нуждаются в том, чтобы быть сильными). Сам международный порядок практически исключает их завоевание более сильным соседом, но делает сопротивление совершенно бессмысленным, если против той или иной страны войну ведет единственная сверхдержава или объединенный Запад. Стимулы к развитию, создавшие европейские государства нового времени, в нашей эпохе отсутствуют.
Если принять данную точку зрения, три закавказские государства оказываются в противоречивом положении. Армения и Азербайджан вовлечены в конфликт из-за Карабаха. Грузия не отказывается от планов вернуть свои бывшие автономии Абхазию и Южную Осетию, хотя стоящая за ними Россия – слишком сильный соперник для того, чтобы считать реалистичным силовой сценарий восстановления территории бывшей Грузинской ССР. Но как бы то ни было, у политических элит и политических режимов трех стран имеются определенные стимулы наращивать свою силу.
Дальнейшие сценарии внутриполитической трансформации в Азербайджане, Армении и Грузии – при прочих равных в мировой политике – будут зависеть от того, какие они изберут пути для наращивания силы. Можно сказать, что прежние источники силы либо исчерпаны, либо близки к исчерпанию. Азербайджанский нефтяной рост постепенно замедляется. Армения, кажется, не сможет восстановить докризисные темпы развития, не создав более качественные государственные институты, между тем ее экономический проигрыш Азербайджану критичен для политического режима. Грузия с ее гипертрофированным государственным аппаратом нуждается уже не столько в реформировании, сколько в укреплении национальной экономики, хотя такой переоценке ценностей может помешать либеральный догматизм ее правящей группы. Другими словами, речь идет не об экстенсивном, с опорой на естественные преимущества и международный расклад сил, а об интенсивном развитии. Сравнительное ослабление мировых центров силы сделает эту повестку тем более актуальной, что каждая страна Южного Кавказа в новом мире рискует остаться один на один с соседями.
Интенсивное – в предельно широком смысле слова – развитие предполагает другой уровень связности между государством и обществом. Нынешний закрытый характер всех трех политических режимов не в последнюю очередь объясняется тем, что государству в малой степени приходится обращаться к обществу за ресурсами, необходимыми для сохранения и укрепления государственности. С этой точки зрения больше шансов на перемены у Грузии и Армении, не имеющих больших запасов природных ресурсов, способных принести сверхприбыли. Причем двигаться им предстоит, преодолевая противоположные ситуации: слишком сильный государственный аппарат в Грузии и слишком слабый – в Армении.
Н.Ю. Силаев – к. и. н., старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО (У) МИД России, заведующий отделом политики журнала «Эксперт».

Поиск стабильности в карабахском конфликте
Между конвенциональным «устрашением» и политическим сдерживанием
Резюме: Теория сдерживания эффективно реализуется в карабахском конфликте уже в течение почти двух десятилетий. Его главной и единственной целью, с точки зрения армянских сторон, является сохранение стабильности и хрупкого мира в зоне конфликта.
Политическая наука напоминает постоянное возвращение к изобретению велосипеда. Зачастую для понимания актуальных проблем современности применяются теоретические концепции и подходы из другого исторического периода и другой политической реальности. Не исключение и карабахский конфликт, на который с определенной степенью допущения вполне могут быть спроецированы теории, выработанные еще в эпоху биполярного противостояния двух ядерных сверхдержав для сохранения стратегической стабильности и глобального мира. Данная статья – попытка применить инструментарий военно-стратегических концепций к локальному этнополитическому конфликту с активным вовлечением влиятельных внешних акторов.
Внешние и внутренние параметры не/уникального конфликта
Две последние встречи президентов Армении и Азербайджана, прошедшие 24 июня 2011 г. в Казани и 23 января 2012 г. в Сочи при посредничестве Дмитрия Медведева, не принесли никаких результатов. Несмотря на активную подготовительную работу посредников из Минской группы ОБСЕ, в Казани Баку отверг предложения российского президента по принятию Основных принципов урегулирования, а в Сочи три президента приняли лишь достаточно формальное заявление. Стороны сказали о готовности ускорить принятие этих самых Принципов и рассмотрение механизма снижения напряженности на линии соприкосновения, а также налаживания гуманитарных и общественных контактов. Казанская и сочинская встречи в очередной раз наглядно показала, что достижение компромиссного урегулирования пока крайне затруднительно. Стороны демонстрируют диаметральные подходы. Тот максимум уступок, на которые гипотетически способна любая из конфликтующих сторон, абсолютно не удовлетворяет минимальных ожиданий политических элит и/или общественности противостоящей стороны.
Внешние факторы также не работают. Предлагаемые международными посредниками в составе Минской группы ОБСЕ Мадридские принципы по урегулированию карабахского конфликта не устраивают ни армянскую, ни азербайджанскую стороны. И та и другая считают, что в случае их принятия пойдут на неоправданные уступки, которые общественность не воспримет. Хотя надо признать, что интересам Армении Мадридские принципы соответствуют несколько больше, чем Азербайджана, т.к. подразумевают фактическую международную легитимацию независимого статуса Нагорного Карабаха вместе с сухопутным коридором, соединяющим его с Арменией. Однако из переговорного формата исключена главная конфликтующая сторона – непризнанная Нагорно-Карабахская Республика, с которой Баку отказывается общаться, переводя переговоры в двусторонний формат лишь с участием Армении и Азербайджана, что также не способствует успеху переговорного процесса.
Международное сообщество, конечно, не в восторге от отсутствия прогресса, однако сам факт проведения переговоров – явление положительное, поскольку оправдывает многолетнюю деятельность Минской группы и содействует сохранению хрупкого перемирия. За эти два сложных десятилетия у посредников практически утвердилось мнение, что в условиях неготовности конфликтующих сторон к взаимным компромиссам любое искусственное ускорение под прямым давлением внешних факторов не способно трансформировать или тем более окончательно урегулировать конфликт. Подстегивание решения извне лишь изменит формат противостояния и существующий баланс сил (скорее всего сделав ситуацию еще более неустойчивой и взрывоопасной), а не приведет к окончательному урегулированию.
Более того, на этом фоне согласование любого объема «второстепенных» деталей по ликвидации последствий конфликта (территории, гарантии безопасности, гуманитарные вопросы) не будет иметь практического смысла без договоренностей касательно основной проблемы и причины конфликта – будущего статуса Нагорного Карабаха. Или, иными словами, без четкого ответа на главный вопрос, кому же он принадлежит: Азербайджану, Армении или же самим карабахцам? Ведь в условиях практически нулевого уровня доверия никаких точек соприкосновения по этому вопросу нет, да и не предвидится.
Ситуация напоминает другие этнополитические очаги, тем более что по множеству параметров карабахский конфликт не является чем-то исключительным. Возникает справедливый вопрос, а как же с вовлеченностью мирового сообщества? Ведь удалось же в свое время погасить (удовлетворив хотя бы одну из конфликтующих сторон) балканские конфликты либо стабилизировать ситуацию в Южном Судане или Восточном Тиморе.
Однако особенность карабахского конфликта в том и состоит, что международное сообщество и ведущие страны-посредники в последний раз предпринимали попытку «всерьез» разрешить конфликт 10 лет назад – в 2001 г. в Ки-Уэсте. При этом качественное различие между результатами встречи в американском Ки-Уэсте и многосерийными инициативами российского президента Медведева, последняя из которых была обозначена в Сочи, практически отсутствует. Может быть, потому, что в глазах внешних акторов конфликт не кажется настолько серьезным и опасным, как аналогичные мировые конфликты? Ведь Карабах, в отличие от Балкан, не находится в центре европейского континента, а по сравнению, например, с Южным Суданом, к счастью, не стал очагом столь серьезной гуманитарной катастрофы.
Как бы то ни было, ресурсы и готовность поддерживать перемирие в Карабахе у международного сообщества есть, а желания что-то кардинально менять, и тем более силой принуждать стороны к урегулированию – нет и в скором будущем не ожидается. Во всяком случае, за все последнее десятилетие, кроме периодических громких заявлений лидеров стран-сопредседателей и стандартных резолюций, принимаемых на различных международных площадках, вспомнить нечего. По всей видимости, мировое сообщество не хочет вовлекаться в кажущееся малоперспективным и требующее приложения серьезного политического капитала урегулирование, вынуждено смириться и поддерживать существующий статус-кво. В конце концов, если уж приводить примеры эффективности международного вовлечения в разрешение аналогичных затянувшихся этнополитических конфликтов, то скорее припоминаются различные сюжеты из бесконечного арабо-израильского урегулирования, а не относительно более удачный «косовский прецедент».
Статус-кво и стабильность: два синонима одной неизбежности?
Статус-кво является одним из ключевых и наиболее используемых терминов, применяемых экспертами и политическими деятелями при оценке ситуации вокруг карабахского конфликта. Более чем естественно, что статус-кво оценивается ими исключительно в соответствии с их политическими пристрастиями. Однако главная характеристика статус-кво вне зависимости от его политизированных оценок в том, что в обозримой перспективе он попросту неизбежен и безальтернативен. Поскольку лишь отражает сложный внешний и внутренний военный, политический, экономический и иного рода баланс сил. Ничего лучшего ни международное сообщество, ни сами конфликтующие стороны с их неготовностью к взаимным уступкам (и неспособностью существенно изменить баланс сил) предложить не могут.
Таким образом, складывается впечатление, что вне зависимости от желания внешних акторов нынешняя ситуация вокруг карабахского конфликта их устраивает. О жизнестойкости статус-кво также свидетельствуют два десятилетия его сохранения, что немаловажно. В значительной степени он приемлем и для Еревана и Степанакерта, хотя бы в силу того, что сам Нагорный Карабах (и еще кое-что в придачу) давно находятся под армянским контролем. Лишь Азербайджан, проигравший в войне 1990-х гг. и желающий вернуть Карабах любыми способами, далек от того, чтобы смириться с сохраняющейся уже второе десятилетие политической реальностью, и стремится изменить ее.
Для этого у Баку сейчас есть лишь одна возможность – угрожать возобновлением боевых действий, разгоняя милитаризацию и региональную гонку вооружений, публично демонстрировать постоянное повышение военного бюджета, основываясь на доходах, получаемых от продажи энергоресурсов, инициировать перманентные перестрелки на линии фронта. Хотя многие эксперты утверждают, что военная риторика Азербайджана – лишь масштабный блеф, призванный заставить армянские стороны пойти на односторонние уступки, другие всерьез не исключают возобновления войны в Карабахе. Азербайджанские лидеры при всякой возможности напоминают о миллиардных цифрах военных расходов, о масштабных закупках новых вооружений и военной техники, угрожая чуть ли не на следующий день возобновить боевые действия. Однако Баку не может реализовать угрозы уже почти десятилетие. Это говорит или о сохраняющемся военно-техническом балансе, или о наличии серьезных внешнеполитических ограничений. Скорее всего, и того и другого: сложная комбинация военных и политических факторов не позволяет президенту Ильхаму Алиеву решиться на новую вооруженную акцию.
При невозможности достижения компромисса в среднесрочной перспективе и перманентной опасности новой эскалации важнейшей задачей карабахского урегулирования становится сохранение стабильности вокруг спорной территории. Тем самым понятия статус-кво и сохранение стабильности становятся синонимами и характеристиками перспектив дальнейшего развития событий вокруг карабахского конфликта.
Стратегическая стабильность была ключевой целью лидеров США и СССР все полвека жесткого противостояния двух ядерных сверхдержав, фактически предотвратившей самоубийственную войну между ними. Сверхдержавы практиковали политику взаимного сдерживания в двух ее взаимодополняющих формах – политического сдерживания и военного «устрашения». И тут следует вернуться к тому, с чего начиналась эта статья, коснувшись некоторых теорий периода холодной войны.
Теория сдерживания и опыт холодной войны
Согласно военно-стратегическим теориям того времени, подтвержденным многолетним опытом сохранения международной и региональной безопасности, под «сдерживанием» понимается предотвращение нежелательных военно-политических действий одной стороны в отношении другой (обычно уступающей количественно по своему силовому потенциалу) с помощью угрозы причинения ей неприемлемого ущерба. Сдерживание предусматривает совокупность военных, политических, экономических, дипломатических, психологических и иных мер, направленных на убеждение потенциального агрессора в невозможности достижения им целей военными методами. В мировой политологической литературе это понятие передается с помощью двух слов – containment и deterrence, которые имеют различный политический и военно-стратегический смысл. В СССР при использовании механизмов сдерживания в военно-стратегическом планировании в силу ряда специфических особенностей эта разница не была столь четко выражена в научной сфере, создав некоторую путаницу в русскоязычной терминологии.
Термин deterrence (который правильнее переводить как «устрашение»), получивший распространение с начала 1960-х гг. и вошедший в практику стратегического планирования США при министре обороны Роберте Макнамаре, подразумевает сдерживание противника путем устрашения, неотвратимости возмездия и нанесения непоправимого ущерба. В период холодной войны и биполярного противостояния речь шла о сдерживающем потенциале ядерного оружия. В данном же случае имеется в виду сдерживание обычными (конвенциональными) вооружениями. В военно-теоретических трудах последнего времени такой вид сдерживания принято называть «неядерным» или «конвенциональным». Как отмечают военные эксперты, неядерное сдерживание стало возможным и эффективным лишь недавно. Наряду с повышением точности и поражающей мощи обычных вооружений технологическое развитие многих государств достигло такого уровня, когда разрушение отдельных элементов инфраструктуры, коммуникаций, систем управления может привести к катастрофическим последствиям, способным отбросить государство в его развитии назад на многие годы.
В свою очередь, термин containment (авторство которого приписывается классику американской политической науки и дипломатии Джорджу Кеннану) использовался для обозначения политико-экономических средств противодействия противнику в реализации его внешней политики, как, например, сдерживание Советского Союза и предотвращение распространения коммунистической идеологии. Применительно к тематике нашей работы данное понятие предполагает совокупность мер политического и дипломатического характера, направленных на сохранение стабильности и недопущение возобновления боевых действий в зоне карабахского конфликта с вовлечением третьих стран и великих держав. Именно оценка сдерживающей позиции внешних акторов позволяет причислять их к системе политического сдерживания.
Любые исторические или теоретические аналогии условны, так что не следует искать зеркального совпадения с карабахским конфликтом. Важно лишь концептуальное сходство, способствующее лучшему пониманию современных региональных процессов, используя «большой» опыт сохранения стабильности.
Конвенциональное сдерживание и военно-технические ограничения
Как и при планировании американскими и советскими стратегами ядерного сдерживания, основными целями сдерживания конвенционального являются не столько вооруженные силы и военные объекты противника, сколько инфраструктурные и промышленные предприятия, а также военно-политическое руководство. Ведь сдерживание или «устрашение» – категория в первую очередь политическая, а не военно-техническая. Смыслом «устрашения» путем «сдерживания» является недопущение реализации противником политического акта (в полном соответствии с хрестоматийным определением Клаузевица) – начала военных действий.
По результатам боевых действий 1990-х гг. карабахские войска вышли на удобные географические границы с господствующими высотами, которые намного легче оборонять (особенно после того, как они были оснащены эшелонированной линией фортификационных укреплений), поэтому у армянских сторон нет никаких рациональных причин первыми начинать вооруженные действия. Так как угрозы их возобновления раздаются исключительно со стороны официального Баку, политика устрашения – метод армянских сторон, стремящихся путем повышения «цены войны» сдержать начало новых боевых действий в Карабахе. Очевидно, что в случае с Азербайджаном приоритетными целями армянского сдерживания являются в первую очередь объекты промышленной добычи и переработки энергоресурсов, пути их транспортировки и сопутствующая инфраструктура.
При анализе военного потенциала сторон карабахского конфликта следует соответственно рассматривать в первую очередь те виды вооружений и военной техники (ВВТ), которые могут иметь практическое значение в качестве силовых «инструментов» сдерживания. То есть тех, что способны наносить эффективные удары по чувствительным объектам в глубине территории противника (уничтожение которых или нанесение им серьезного урона может оказаться критическим и удержать от развязывания боевых действий). С учетом слабости военно-воздушных сил конфликтующих сторон и относительной эффективности их ПВО «дистанционным оружием сдерживания» в первую очередь являются тактические и оперативно-тактические ракетные комплексы, а также крупнокалиберные реактивные системы залпового огня (РСЗО).
Несмотря на имеющийся арсенал дальнобойных ракет, Азербайджан более уязвим с военно-технической точки зрения ввиду возможности ответного удара по ключевым энергетическим и промышленным объектам. Армянские силы способны нанести существенный урон промышленным, инфраструктурным и коммуникационным объектам в глубине территории Азербайджана, что в долгосрочной перспективе негативно скажется на его экономическом и политическом развитии. На вооружении армянской армии находятся крупнокалиберные РСЗО WM-80 (восемь пусковых установок 273-мм РСЗО WM-80 китайского производства с максимальной дальностью стрельбы, в зависимости от типа ракеты, от 80 до 120 км были закуплены в конце 1990-х и в начале 2000-х гг.; впоследствии в СМИ появлялась информация о закупках модернизированных ракет с увеличенной дальностью стрельбы), а также оперативно-тактические ракетные комплексы 9К72 «Эльбрус», или Scud-B по натовской классификации. (В том числе восемь пусковых установок 9П117М и как минимум 32 ракеты Р-17, переданных Армении из состава 176-й ракетной бригады 7-й гвардейской армии в рамках раздела советского военного имущества в середине 1990-х гг.; ракеты Р-17 имеют дальность стрельбы до 300 км при круговом вероятном отклонении при стрельбе на большую дальность до 0,6 км.) С военно-политической точки зрения возможности ответного удара Азербайджана по целям в глубине армянской территории ограничены, поскольку вероятно вовлечение России и ОДКБ в обеспечение безопасности Армении (об этом подробнее ниже).
Весной 2011 г. появилась информация о том, что на вооружение армянской армии поступили новые крупнокалиберные 300-мм РСЗО «Смерч». Это существенно повышает потенциал сдерживания Армении, т.к. долгое время основным аргументом Азербайджана в угрозах возобновить военные действия являлось наличие у него именно данного типа РСЗО (в 2004–2005 гг. Баку закупил на Украине 12 ПУ РСЗО 9А52 «Смерч» с дальностью стрельбы, в зависимости от типа ракеты, от 70 до 90 км), а также отчасти тактических ракет «Точка-У» с дальностью стрельбы до 120 км. Наличие данных систем, как надеялись в Баку, позволяло бы вести «дистанционные» боевые действия, не штурмуя эшелонированную линию фортификаций карабахских войск и не неся при этом тяжелых потерь. Однако с появлением на вооружении армянских войск РСЗО «Смерч» и возможностью в перспективе приобретения Ереваном новых ракетных систем дальнего радиуса действия у Азербайджана уже не будет подобного преимущества. (Например, в конце августа 2011 г. появилась информация о закупке Арменией в Молдавии 11 пусковых установок 220-мм РСЗО 9К57 «Ураган», а в ходе военного парада по случаю 20-летия независимости Армении 21 сентября 2011 г. продемонстрировано не менее четырех пусковых установок тактических ракетных комплексов 9К79-1 «Точка-У».)
Поэтому теперь перед азербайджанским военно-политическим руководством встает серьезный выбор. Баку может начать полномасштабные боевые действия, что приведет к активному использованию всеми конфликтующими сторонами тяжелой артиллерии, РСЗО, тактических и оперативно-тактических ракет. Но это однозначно повлечет за собой огромные людские и материальные потери, уничтожит всю энергетическую и коммуникационную инфраструктуру Азербайджана без каких-либо гарантий на быструю победу или блицкриг. Особенно с учетом того, что боевые действия будут исчисляться днями и даже не неделями: мировое сообщество большего просто не допустит.
Другой опцией для Азербайджана может стать отказ от использования крупнокалиберных РСЗО и тактических ракет в надежде, что и армянские стороны поступят аналогичным образом в случае возобновления боевых действий, что представляется более чем маловероятным. Но даже если допустить подобную возможность, Азербайджану придется ограничиться лишь лобовыми прорывами фортификационных линий, укрепляемых уже второе десятилетие с использованием господствующих высот, которые находятся преимущественно под контролем карабахских войск. Но в таком случае сами фортификационные линии, лобовой прорыв которых в стиле Сталинградской битвы возможен лишь ценой тяжелых потерь для азербайджанской армии (исчисляемых даже не тысячами, а десятками тысяч солдатских жизней), уже выступают не менее действенными и эффективными факторами сдерживания. Тут надо учитывать и то немаловажное обстоятельство, что конвенциональное сдерживание включает в себя не только нанесение неприемлемого ущерба вероятному противнику. Военно-стратегической науке известно «сдерживание путем лишения», т.е. эффект сдерживания, срабатывающий вследствие осознания вероятным инициатором начала войны невозможности достижения скорой и убедительной победы.
Очевидно, что Азербайджану с военной точки зрения очень трудно сделать выбор между этими двумя альтернативами. Цена войны будет слишком высокой, а ее перспективы неопределенными. Поэтому, как представляется, у военно-политического руководства остается лишь одна возможность, которую оно и пытается благоразумно использовать – нагнетать региональную гонку вооружений, надеясь экономически и политически истощить Армению и Нагорный Карабах.
Однако в отличие от Азербайджана Армения имеет возможность поддерживать паритетную асимметричную гонку вооружений за счет безвозмездных и льготных поставок оружия своим военно-политическим союзником – Россией, а также в силу преференций своего членства в ОДКБ. То, что Азербайджан покупает, Армения зачастую получает почти бесплатно, увеличивая свой военно-технический потенциал сдерживания.
Таким образом, асимметричная гонка вооружений в зоне карабахского конфликта повышает порог и снижает вероятность начала боевых действий. Это, конечно, не дает полной гарантии невозобновления войны, но создает серьезные ограничители. Пока одна из сторон военного конфликта не удовлетворена его итогами, перманентная опасность возобновления войны и попыток реванша будут сохраняться. Но стабильность в зоне карабахского конфликта обеспечивает уже новый создающийся баланс – его можно назвать «балансом угроз» (по терминологии Стивена Уолта), – который вынуждает как можно дольше сохранять хрупкий и нестабильный мир.
Политическое сдерживание и внешние ограничения возобновления войны
Уже отмечалось, что вовлеченности или же давления мирового сообщества недостаточно для достижения серьезного соглашения. Вместе с тем, невысокая вероятность «внешнего урегулирования» сохраняется лишь в нынешней ситуации относительного перемирия. В случае возобновления боевых действий в зоне конфликта вполне возможно, что, сочтя ситуацию опасной для региональной безопасности или способной вызвать тяжелые гуманитарные последствия, международное сообщество отреагирует в форме «классического» принуждения к миру, несмотря на все технические и институциональные ограничения. Напрашивается аналогия с действиями международных коалиционных сил под эгидой США в 1991 г. в Кувейте или стран НАТО в 1999 г. в Косово, а также с односторонним вовлечением России в боевые действия в Южной Осетии в августе 2008 г. и т.д.
Как бы то ни было, внешняя вовлеченность продолжает эффективно содействовать сохранению перемирия и недопущению возобновления боевых действий. Причем в самых различных комбинациях: от внешнего консенсуса о неприемлемости новой войны до ограничений, которые накладывает возможное политическое или военное вовлечение третьих стран. Естественно, что важнейшим элементом политического сдерживания является бескомпромиссная позиция международного сообщества, отвергающего саму возможность возобновления боевых действий. Нынешний переговорный формат Минской группы является более чем нетипичным примером тесного сотрудничества между державами, которые при этом одновременно находятся в состоянии фактического соперничества во многих регионах мира, и в особенности на постсоветском пространстве. Но при этом страны-сопредседатели (США, Франция, Россия) придерживаются как минимум единой позиции в вопросе недопущения новой войны в Карабахе. Следовательно, страна, которая ее инициирует, столкнется с резкой консолидированной реакцией ведущих мировых держав и весьма серьезными последствиями.
Другим элементом сохранения стабильности и политического сдерживания является возможность прямого вовлечения внешних акторов в случае возобновления конфликта. В настоящее время Армения – единственная страна на Южном Кавказе, которая имеет гарантии безопасности и предоставления прямой военной помощи от третьей страны (России) и военно-политического блока (ОДКБ). Хотя между Турцией и Азербайджаном также имеется договор о военной помощи, заключенный в августе 2010 г., его положения более чем расплывчаты и не содержат обязательств прямого вовлечения Анкары в боевые действия в случае начала Баку военных действий в Карабахе.
В августе 2010 г. в ходе государственного визита президента Дмитрия Медведева в Армению наряду с другими документами был подписан дополнительный Протокол № 5 к Договору 1995 г. о порядке функционирования российской военной базы в Армении. Согласно этому документу, расширилась географическая сфера ответственности 102-й РВБ, включающая уже всю территорию Армении (а не только периметр бывших границ СССР с Турцией и Ираном, как в прежней редакции), а также увеличилась длительность ее нахождения (вместо прежних 25 лет – на 49 лет). (Отчет ведется с 1997 г., т.е. после ратификации и вступления в силу Договора 1995 года. Тем самым срок нахождения российских войск на территории Армении продлевается до 2046 года.) Кроме того, в соответствии с протоколом, Россия взяла на себя обязательство обеспечивать вооруженные силы Армении современным и совместимым вооружением и военной техникой.
В Ереване подписание этого документа интерпретируют как гарантию безопасности и военной помощи со стороны России в случае войны с Азербайджаном. Формально двусторонние и многосторонние (в рамках ОДКБ) обязательства Москвы в сфере безопасности и взаимной обороны распространяются только на международно признанные границы Республики Армения, но не на территорию Нагорного Карабаха. Вместе с тем вполне вероятно, что в силу чрезвычайной милитаризации региона и радикальности позиций конфликтующих сторон боевые действия не ограничатся территорией Нагорного Карабаха и могут перекинуться по периметру протяженной границы между Арменией и Азербайджаном.
Очевидно, что Россия не хочет вовлечения в боевые действия вокруг Нагорного Карабаха, ведь в случае «разморозки» конфликта Москва окажется в трудном положении. Прямая военная помощь Армении со стороны России немедленно приведет к разрыву отношений с Азербайджаном, в том числе и в энергетической сфере. С другой стороны, невыполнение двусторонних и многосторонних обязательств по оказанию военной помощи Армении лишит Россию репутации надежного партнера, может дискредитировать ОДКБ как военно-политическую организацию, повлечь за собой вывод российской военной базы из Армении и потерю единственного военно-политического союзника на Южном Кавказе. Если Москва не окажет военного содействия, это поставит под угрозу дальнейшее армяно-российское стратегическое сотрудничество, лишив Ереван каких-либо стимулов к сохранению базы. Потеряв Армению, Москва утратит политическое влияние и рычаги воздействия на Азербайджан и на весь Южный Кавказ.
Поэтому неудивительно, что в ходе встречи с журналистами в мае 2011 г. тогдашний начальник главного оперативного управления российского Генштаба генерал-лейтенант Андрей Третьяк заявил, что в случае начала военных действий в Нагорном Карабахе Россия в полной мере выполнит свои обязательства перед Арменией в сфере взаимной обороны. В любом случае Россия более чем какой-то иной внешний актор заинтересована в поддержании военного баланса и невозобновлении боевых действий, тем самым сохраняя свое военно-политическое влияние в регионе, одновременно оказывая содействие Армении, замораживая карабахский конфликт и привязывая к себе Азербайджан.
При этом не надо забывать, что, несмотря на достаточно тесные армяно-российские отношения, Азербайджан (в отличие от той же Грузии, например) никогда не рассматривался как прозападное государство, которое заслуживает однозначной политической и иной поддержки США и европейских стран. Наоборот, Баку постоянно находится под огнем критики со стороны западных организаций и правительств в связи с ситуацией в сфере защиты прав человека и проблемами с демократическим развитием. В совокупности с фактором влиятельных лоббистских организаций армянской диаспоры в Америке и Европе это помогает официальному Еревану эффективно балансировать между военной опорой на Россию и ОДКБ, с одной стороны, и углублением сотрудничества в сфере безопасности и обороны с США и странами НАТО – с другой. Тем самым повышается уровень политического сдерживания в вопросе недопущения новой войны в Карабахе.
***
Фактически теория сдерживания эффективно реализуется в карабахском конфликте уже в течение почти двух десятилетий. Несмотря на угрозы возобновления войны, на сохраняющейся с мая 1994 г. линии соприкосновения сторон происходят лишь эпизодические обстрелы снайперов и рейды разведывательно-диверсионных групп с применением максимум крупнокалиберного стрелкового оружия и гранатометов. К счастью, пока обходится без обмена артиллерийскими ударами или действий крупных подразделений карабахских или азербайджанских войск. Вместе с тем, как и любая военно-стратегическая концепция, сдерживание не является механизмом окончательного урегулирования этнополитических конфликтов. Полноценное урегулирование возможно лишь на основе компромиссного подхода, пользующегося поддержкой всех конфликтующих сторон, а не под взаимными угрозами войны или под страхом ответного удара.
Главной и единственной целью конвенционального сдерживания, применяемого армянскими сторонами, и политического сдерживания, осуществляемого благодаря позициям международного сообщества и влиятельных внешних акторов, является сохранение стабильности и хрупкого мира в зоне карабахского конфликта. По всей видимости, нынешняя ситуация продлится еще достаточно долго. Однако то, что кажется невозможным сейчас, способно стать реальностью в среднесрочной перспективе, при соблюдении двух важнейших условий: 1) невозобновления боевых действий и 2) сохранения нынешнего переговорного формата, активной поддержке и давлении мирового сообщества. Это единственный путь для достижения долговременного компромисса, который будет возможен после деактуализации конфликта в общественных настроениях и при более благоприятных внешних условиях.
Сергей Минасян - д.н., директор Отдела политических исследований Института Кавказа, Ереван.

Между двумя совершеннолетиями
20 лет независимости Украины: чему научились
Резюме: Об Украине всегда говорят, что она находится на распутье. Но ее партнеры требуют ответов, а количество возможностей сокращается. Украине угрожает превращение в плохо функционирующую полуавтократию и абсолютную периферию.
День независимости Украина отмечает 24 августа, хотя более точной датой было бы 1 декабря. В августе 1991 г., во время попытки государственного переворота в Москве, Киев в основном наблюдал за событиями со стороны. Председатель Верховной рады Украины Леонид Кравчук уклонялся от прямых заявлений в первые два дня путча. Беседуя с генералом Валентином Варенниковым, он пытался выиграть время и просил представителя ГКЧП предъявить официальные документы о полномочиях. Кравчук представляет подобное поведение как проявление смелости, но скорее оно напоминало классическую тактику затягивания, присущую советской бюрократии. Кроме того, он не ощущал серьезного давления снизу: в первые – ключевые – дни переворота в Киеве не было массовых демонстраций. Хотя надо отдать должное «Руху», именно по его инициативе Верховная рада перехватила инициативу, и в субботу 24 августа провозгласила независимость еще до того, как в понедельник 26-го советские институты возобновили работу в нормальном режиме.
Нюансы имеют значение. В «Рухе» не доверяли склонным к оппортунизму «национал-коммунистам» – таким как Кравчук. Еще меньше доверия заслуживала по-прежнему мощная Компартия Украины, чья отнюдь не принципиальная поддержка идеи независимости была обусловлена стремлением защититься от угроз со стороны ельцинской России. Как красноречиво выразился лидер компартии Станислав Гуренко, «мы должны голосовать за независимость, потому что, если мы этого не сделаем, то окажемся по уши в дерьме».
Но в августе 1991 г. возможность действовать появилась у Украины лишь благодаря коллапсу центральной власти. В декабре 1991 г. украинцы, напротив, сами проявили активность. Решающее голосование о независимости на референдуме 1 декабря предопределило конец СССР, позволив Борису Ельцину лишь на словах поддержать план Михаила Горбачёва по созданию нового союзного государства. В сумятице, царившей в последние дни жизни Советского Союза, возобладала именно позиция Украины. Содружество Независимых Государств, по сути, означало, что новые независимые государства имеют общие интересы, но не было заменой верховной советской власти. Украине в гораздо большей степени, чем это принято делать, следует отдать должное за роль, которую она сыграла в прекращении существования Советского Союза.
В любом случае, от какой даты мы ни вели бы отсчет, Украине исполнилось 20 лет, и она находится между двумя определениями совершеннолетия – 18 и 21. Чему же мы научились за эти 20 лет? Во-первых, быть очень осторожными в прогнозах. Даже основные параметры «правил» украинской политики и общества не так стабильны, как кажется. Немногие предсказывали «оранжевую революцию» в 2004 г., и мало кто прогнозировал, что она закончится так плохо. Во-вторых, Украина по-прежнему наполовину пассивна, наполовину активна, как это было в 1991 г., иногда она действует на удачу, но чаще всего к активности ее побуждают события в других местах.
Общепризнанная ценность независимости
Первый важный аспект заключается в том, что украинские элиты дорожат независимостью. Не потому, что ценят национальное государство само по себе, а потому, что оно обеспечивает защищенное пространство для самообогащения. С избранием Виктора Януковича на пост президента в феврале 2010 г. Украина прошла «тест Лукашенко». Так же как Лукашенко в 1994 г., Янукович, чтобы добиться избрания, использовал все способы воздействия на русскоязычный и русофильски настроенный электорат. И так же как Лукашенко, Янукович после начального периода приспосабливания стал править как «государственник». Раз уж ни тот ни другой не выразили желания скомпрометировать идею независимости, то, если не предвидеть каких-либо катастроф, трудно представить политика, который бы этого желал.
Элита ценит государство как средство защиты своих интересов, но это не означает, что украинское государство – одна гигантская «крыша». Несмотря на опасения, существовавшие в 1991 г., никаких серьезных угроз для самой идеи государственности не возникло. Бело-голубая «контрреволюция» 2004 г. вызвала сильные негативные настроения и пробудила стереотипы, но не породила никакой мировоззренческой или идеологической альтернативы. Некоторые утверждают, что бывший руководитель аппарата Кучмы Евгений Кушнарев, который погиб при подозрительных обстоятельствах на охоте в 2007 г., мог бы представлять подобную альтернативу. В этом случае, помоги Бог юго-востоку – Кушнарев отнюдь не был похож на Вацлава Гавела. Министр образования с неоднозначной репутацией Дмитрий Табачник смог возродить негативные стереотипы, но не более того. Юго-восточная версия украинской идентичности по-прежнему в основном представляет собой проявления диссидентства или диссонанса, такие как восстановление памятника Екатерине II в Одессе в 2007 г. или пассивное сопротивление в повседневной жизни. Как писал Владимир Кулик, «другая Украина» оказалась более успешной в подрыве украиноязычного националистического проекта в ходе дискуссий в СМИ, где двуязычие воспринимается как консенсус, а те, кто говорит только по-украински или только по-русски, – идеологически маргинализированы.
Опросы общественного мнения показывают широкую умеренную поддержку государственности. Интересно, что основные факторы, повлиявшие на настроения после 1991 г., были либо экономическими, либо внешними. Регулярные исследования Киевского международного института социологии показывают, что поддержка независимости падала в периоды экономического кризиса (в особенности начало 1990-х и 1998–1999 гг.), но возрастала, когда Россия (а не Украина) находилась в конфликте со своими соседями. Особенно это заметно в 1994 г. (начало первой чеченской войны) и в 2008 г. (война в Грузии). В целом, за исключением спада начала 1990-х гг., поддержка оставалась достаточно стабильной – приблизительно три четверти населения, даже если часть ее в некоторой степени была вторичной.
Однако идея государства остается неясной. Как писал Макиавелли в «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия», основы религий, республик и царств должны включать определенную добродетель, чтобы приобрести первичную репутацию и стать средством для экспансии. Но даже патриотизм, претендующий на то, чтобы считаться государственным, страдает на Украине от общей идеологической слабости. Как и в России, конституционный запрет государственной идеологии является чрезмерным. Доминирует фобия в отношении идей. Существует понимание, что Украине требуется не этническая, а «гражданская» идентичность, но что за этим стоит – неизвестно. Это понятие должно быть наполнено сутью. Во Франции есть Марианна, плюс свобода, равенство, братство и светский характер государства, в США – теория ассимиляции, в Скандинавии – социальное государство и толерантность, в послевоенной Германии – конституционный патриотизм как идея успешного построения демократии с третьей попытки.
Но на Украине эквивалентной национальной идеи нет. «Оранжевая революция» могла бы ее породить. События 2004 г. – это, возможно, три революции в одной, мобилизация на западе и в центре, которой бросил вызов, хотя и не равнозначный, достигший зрелости восток и юг, но их позиции можно было сблизить, превратив это в общую идею гражданского действия. Ведь украинские элиты всегда придерживались политико-культурологического мифа, что «Украина – не Россия». Известная книга Леонида Кучмы под таким названием на самом деле касалась не этнических, религиозных или даже исторических различий – это могло вызвать раскол в обществе. Клише «Украина – не Россия» основано на представлении, что украинцы более миролюбивы, имеют меньше имперских амбиций и менее индивидуалисты, чем русские. Во время «оранжевой революции» эти различия подчеркивались высказыванием, что украинцы предпочитают палаточные лагеря танкам. Нет культа власти как ценности самой по себе, «владение не означает власть» (это имеет оборотную сторону: украинцы привыкли, что власть используется в других местах, и научились уклоняться от диктата).
К сожалению, украинская элита больше заинтересована в гражданском национализме, чем в гражданском обществе, и не желает наполнять сутью любые идеи, которые могут укрепить гражданственность. Тем не менее, со стороны режима Януковича абсолютно недальновидно требовать исключения «оранжевой революции» из школьных учебников истории только по партийным мотивам.
Украина – не (путинская) Россия
Общее историческое клише часто переносится на современную политику. Ближайшие несколько лет при Януковиче позволят проверить тезис «Украина – не Россия». А именно то, что Украина плюралистична по определению, поэтому осуществить или навязать централизацию очень сложно. Но основные причины, по которым при Януковиче вряд ли будет создано некое мягкое подобие путинской «управляемой демократии», обусловлены, скорее, случайными и структурными факторами, а не политической культурой.
Первое очевидное различие между Украиной-2010 и Россией-2000 – это то, что на Украине не было операции «Преемник». Хотя в кулуарах Ющенко отдавал предпочтение Януковичу перед Тимошенко, Януковичу пришлось строить собственную властную базу. Украина Януковича не ведет войну для оправдания централизации, как Путин в 2000 г., и не заявляет о восстановлении статуса великой державы. На самом деле, неспособность украинцев прийти к согласию по поводу общего внешнего врага означает, что внешняя политика вряд ли станет фактором, обеспечивающим создание единства из внутреннего разнообразия. Украинская экономика не готова вступить на путь семилетнего роста и вряд ли обеспечит население хлебом и зрелищами, как это сделал Путин в 2000–2008 гг. (об экономике см. ниже).
Украинская олигархия глубже встроена в политическую систему, чем российская. Олигархи имеют больше власти над государством, а не наоборот, и в последние годы эта власть только увеличилась. Незаменимость Путина в России обусловлена его ролью «властелина колец», уравновешивающего различные кланы. В период расцвета система Леонида Кучмы была такой же, как и во многих или почти во всех постсоветских государствах – в Азербайджане при Гейдаре Алиеве или в Армении при Серже Саргсяне. Но Янукович – менее влиятельная фигура, он лишь первый среди равных. Его короткое президентство к настоящему моменту уже пострадало от «газового лобби», которое слишком доминировало вначале, и от борьбы за «лакомые куски», когда группа Ахметова стремилась получить всю сталелитейную индустрию страны, включая «Ильич-Сталь» в Мариуполе и 50% «Запорожстали». Трудно представить себе украинского Ходорковского, т.е. крупного олигарха, отправленного в тюрьму в назидание другим. Судебный процесс над Тимошенко связан преимущественно с политическими мотивами.
Украинские службы безопасности не могут стать альтернативной властной базой для Януковича, как ФСБ для Путина. Украинские силовики раздроблены. Если бы глава СБУ Валерий Хорошковский (ныне министр финансов. – Ред.) добился успеха в строительстве своей империи, эту точку зрения можно было бы пересмотреть, но его власть была основана на связях с частным бизнесом и телевидением («Интер»), а не на занимаемой должности. Кроме того, Хорошковский преследовал собственные интересы, а не интересы Януковича. В целом правоохранительные ведомства – СБУ, прокуратура, таможня, МВД, тюрьмы – противостоят друг другу вследствие конкурентной борьбы за государственные органы между различными олигархическими группами. Многие разделены и внутри.
Поэтому центральная власть на Украине слабее, чем в России. Это обусловлено и тем, что стартовая позиция Киева в 1991 г. радикально отличалась от позиции Москвы, многие институты пришлось строить с нуля. Кроме того, Киев – относительно небольшая столица, находящаяся в постоянном соперничестве с Донецком, Харьковом, Одессой, Львовом и Днепропетровском. Киев к тому же не имеет такого доминирующего положения в демографии, финансах и политике, как Москва.
Уровень политической оппозиции на Украине в 2010–2011 гг. выше, чем в России в 2000 году. Он снижается, особенно после последних «оранжевых» лет, но по-прежнему чувствуются отголоски подъема 2001–2004 годов. Тимошенко пока не уничтожена (или не поглощена) как оппозиционная сила. Активность гражданского общества снизилась в «оранжевые» годы, но протесты «налогового майдана» в конце 2010 г. продемонстрировали появление нового лобби малого и среднего бизнеса, наряду с традиционной силой наблюдателей на выборах, молодежных групп, живого и плюралистичного религиозного сектора.
Однако гражданское общество лишь относительно сильнее, чем в России, и далеко не так значимо, как в Центральной Европе. Пол Д’Аньен полагает, что на Украине слабое общество и слабое государство. Одним из наиболее огорчительных трендов последних лет стал рост мнимой активности. Долгое время платили пенсионерам, чтобы те стояли на снегу, теперь к ним присоединились студенты-активисты, которые приводят целые общежития в качестве наемной толпы.
Политический процесс на Украине и в России был в равной степени искажен посредством использования «политических технологий», но после 2004 г. пути двух стран разошлись. Россия сейчас столкнулась с проблемами чрезмерного контроля, в то время как на Украине в 2005–2010 гг. стало сложнее использовать некоторые виды политических технологий, в особенности вопиющие фальсификации результатов голосования и проектные партии, которые часто теряли силу, оказавшись в центре внимания более свободных СМИ. Но некоторые виды политических технологий никуда не исчезли. «Мягкие» административные ресурсы (т.е. не фактический вброс бюллетеней, а государственный патронат и управляемое голосование контролируемых групп населения, например, армии или заключенных) и «войны компроматов» всегда были глубоко укоренены в системе. А после февраля 2010 г. начали возвращаться и такие прямолинейные виды манипулирования, как фальшивые партии и лояльная оппозиция, существующая на государственные деньги.
Украинские СМИ служат сдерживающим фактором, но и они теряют силу. В 2004 г. в определенных журналистских кругах произошла культурная революция, но продажность и проблема самоцензуры остаются слабым местом. Кроме того, даже в 2005–2010 гг. СМИ были в большей степени плюралистичными, а не свободными. Пресса и телевидение в основном избежали государственного контроля, однако попали под воздействие диктата владельцев-олигархов. Как в России в 2000 г., прямая цензура на начальном этапе оказалась не нужна. Государство может восстановить контроль, продавливая смену владельца или путем угроз интересам владельцев в другом бизнесе. Однако интернет на Украине в 2011 г. развит гораздо больше, чем в России в 2000 году.
Еще одно отличие заключается в основной идее режима. Вся идеология Путина основана на избавлении от наследия 1990-х годов. Янукович может совершать похожие нападки на «оранжевые» годы и действительно делает это, многие на Украине и за границей, по крайней мере вначале, прощали такой подход во имя восстановления «порядка после хаоса». Но «порядок» сам по себе не может в долгосрочной перспективе быть национальной идеей, а Украине при Януковиче пока не удалось придумать что-либо другое. Нет особого «украинского пути». Лучшее, что смогли предложить советники Януковича, включая Андрея Ермолаева, – это пространные разговоры о неясном, менее капиталистическом и уникальном украинском пути «между Карлом Марксом и Адамом Смитом». Китай и другие страны продемонстрировали движение к «авторитарной модернизации», но географические и геополитические факторы позволяют предположить, что авторитарная Украина будет более изолированной и менее процветающей, чем Китай или Сингапур, и менее влиятельной, чем такие растущие демократии БРИКС, как ЮАР или Бразилия.
10 на 10 и остальные
Региональное деление Украины – наиболее важный фактор, подтверждающий тезис «Украина – не Россия», – заслуживает особого внимания, поскольку по-прежнему затрагивает все аспекты жизни страны.
На Украине более 10 крупных регионов, на полюса – Галичину и Донбасс – приходится приблизительно по 10% населения. Поэтому в краткосрочной перспективе можно уверенно прогнозировать, что Галичина со своими 10% не сумеет прийти к власти в одиночку. Накопившееся раздражение из-за отрицания их европейского происхождения может вызвать периодические вспышки местного патриотизма, и не всегда в мультиэтническом варианте. «Бандеровская политика», символом которой служит период ОУН-УПА, вообще стала более заметной в 2010-е гг., чем была в эпоху перестройки. Отчасти это связано с третьим мифом, а именно с идеей Михаила Грушевского о Галичине как «украинском Пьемонте», которая попала под град критики после 1991 года. Галичина оказалась не способна продвигать свою версию украинской идентичности. Львов в действительности никогда не был финансовым центром, как Милан, и идея господства над остальной страной по образцу Пьемонта ни при каких обстоятельствах не прошла бы. Однако часть мифа о Галичине, которая по-прежнему сильна, – это идея сохранения пламени истинной украинской идентичности для остальной нации. Она служит сдерживающим фактором для развития альтернативного мифа, часто пропагандируемого интеллектуалами, близкими к журналу «Ї», что остальная Украина на самом деле русская. Хотя периодическое заигрывание с идеей меньшей по размеру и более управляемой Украины остается актуальным – при Януковиче львовские демонстранты выходили с плакатами «Независимость для Донбасса!», написанными по-русски.
С другой стороны, Донецк со своими 10% смог прийти к власти, и даже четырежды: первый раз в 1993–1994 гг. при Ефиме Звягильском, затем в 2002–2004, 2006–2007 и 2010 гг. при Януковиче. Так в чем же разница? Несмотря на достаточную зрелость юго-восточной Украины в 2004 г., все население от Сум до Одессы по-прежнему сложно мобилизовать вокруг размытой идеи идентичности. Этим объясняется, почему вопрос о русском языке становится актуальным и политизируется в период выборов, но теряет остроту, когда требуется устойчивая поддержка гражданского общества. Идентичность более «национальной» части страны тоже аморфна, но «большая дуга» южной и восточной Украины лучше подходит для строительства коалиций, основанных на местных предпринимательских группах. Более «национальная» часть не может этого сделать, поскольку к западу от Донецка нет реальных бизнес-кланов.
Но существует и оборотная сторона: когда кланы Донбасса приносят в Киев бандитскую политическую культуру, это нельзя считать приемлемым. Единство элиты – непременное условие сохранения олигархической власти на Украине. В середине 1990-х гг. отношения между Донбассом и Днепропетровском стали конфликтными. В 2002–2004 гг., когда Янукович был премьером, донецкая элита проявила неумеренную жадность, что способствовало «оранжевой революции». Похожие признаки появились вновь после февраля 2010 года.
Региональные факторы по-прежнему имеют большое значение во время выборов. Три четверти населения поддерживают независимость, но хорошо известное электоральное разделение страны ближе к соотношению 50 на 50 на всех выборах после 2004 года. Четкий баланс не установлен – тот факт, что нынешняя электоральная граница частично совпадает с границами старого польско-литовского содружества (Речь Посполитая), интересен с исторической точки зрения, но является случайностью. Выборы начала 1990-х гг. больше походили на противостояние Галичины (и Киева) с остальной Украиной. На выборах 1994 г. черта проходила по Днепру. На карте переизбрания Кучмы в 1999 г. появились нетипичные линии, поскольку голосование исказилось из-за использования политических технологий.
Более «национальная» часть последовательно проигрывала выборы в 1990-е гг., поэтому история относительно равных голосований в 2004, 2006, 2007 и 2010 гг. одновременно показывает, как «националистам» удалось расширить электоральную базу с 2002 по 2004 г. и как, зайдя столь далеко, они не смогли пойти еще дальше. Выдвигаются две гипотезы: успех в центральной части может быть обусловлен укреплением национальной идентичности среди украиноязычного населения в сельской местности и небольших городах, а также упадком квазифеодальной власти советских колхозов и сельхозобъединений в деревне. Этот процесс ускорили реформы сельского хозяйства в 2000 г., и, по иронии, он может пойти еще быстрее, если Партия регионов проведет через парламент предложение о прекращении моратория на продажу земли. Еще один ключевой фактор – прагматичная и основанная на ценностях кампания Ющенко в 2004 г. – однако он совершенно забыл об этом разумном подходе после своего избрания.
Хотя выборы 2010 г. продемонстрировали незначительное вторжение каждой из сторон на территорию соперника, ни той ни другой не удалось преодолеть региональное разделение-2004. Ющенко, став президентом, пренебрег востоком. Тимошенко не смогла стать «матерью нации», в основном из-за недостатка компетентности в период серьезного экономического кризиса. Регионализм также остается главным препятствием для строительства Партией регионов однопартийного государства. Выборы 2010 г. обеспечили доминирование Партии регионов в Крыму: 80 (первоначально 48) мест в Верховном совете Крыма по сравнению с шестью у русских партий, и 74,5% депутатов всех уровней. И теперь, после того как «Сильная Украина» Сергея Тигипко согласилась на объединение с Партией регионов, на востоке возможна лишь номинальная оппозиция со стороны коммунистов. Но «регионалы» всегда могут встретить сопротивление на западе и в центре, если не сумеют использовать патронат и административные ресурсы, чтобы оттеснить оппонентов с позиций, достигнутых в 2002–2004 годах.
Ахиллесова пята
Экономика – ахиллесова пята Украины. Ее показатели всегда ниже ожиданий. Политические ошибки 1992–1994 гг. сделали постсоветский спад гораздо глубже, чем это могло быть, а в конце 1990-х помешали начаться восстановлению, как в России (1997 г.) или Белоруссии (1996 г.). Рост экономики впервые был зафиксирован на Украине только в 2000 году. Но даже в хорошие времена с 2000 по 2007 гг. он никогда не достигал уровня стран БРИК. Лишь дважды рост ВВП превышал 7,5% – в 2001 и 2003 гг., если не считать подогревания экономики в 2004 г., который был годом выборов, после чего в 2005 г. экономика просела. Последние периоды восстановления, в 2006–2007 и 2010–2011 гг., были относительно слабыми, особенно если сравнивать с показателями стран Балтии после провала в 2008–2009 гг.
Годовое изменение ВВП Украины, 1990–2010 гг.
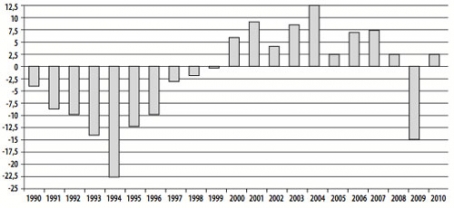
Источник: Wikipedia
Невысокие экономические показатели в значительной степени являются следствием политики. Во-первых, из-за укоренившейся в постсоветский период коррупции и превращения Украины в нездоровое полуреформированное олигархическое государство в конце 1990-х годов. Во-вторых, одним из главных недостатков украинского плюрализма по определению является отсутствие единого реформаторского правительства с четкой программой и мандатом.
Незавершенные макроэкономические преобразования 1994–1995 гг. помогли отвести Украину от экономической пропасти – но ненамного. Правительство Виктора Ющенко блокировало некоторые виды откатов в 2000 г., но и эти реформы не были закончены. Одним из главных разочарований «оранжевой революции» стала череда правительств, неспособных, несмотря на отдельные успехи, реализовать серьезную, масштабную программу. Первое правительство Тимошенко (2005 г.) было популистским, «дружественное бизнесу» правительство Еханурова (2005–2006 гг.) скорее напоминало режим ожидания. Янукович (2006–2007 гг.) восстановил «азаровщину» – использование «административных ресурсов», чтобы отблагодарить друзей и наказать оппонентов (названо по фамилии тогдашнего министра финансов и нынешнего премьер-министра при Януковиче). Тимошенко во второй раз заняла пост премьера (конец 2007-го – начало 2010-го), когда случился мировой финансовый кризис.
Украина погрязла в олигархических откатах. Страна вступила в ВТО, но, по словам Андерса Аслунда, ей еще предстоит долгий путь, чтобы стать рыночной экономикой. Несмотря на периодические призывы использовать успешный опыт Тбилиси в реформировании госсектора, Украина скорее представляет собой антипод Грузии. Люди Азарова с подозрением относятся к любой экономической деятельности, которую не могут контролировать. Лишь 15% ВВП приходится на малый и средний бизнес, страна занимает только 145-е место из 183 в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса (даже Белоруссия находится на 68-м месте).
Еще одна проблема заключается в том, что Украина не является сырьевой экономикой, но осуществляет энергетический транзит, и это не лучший вариант. В таких странах, как, например, Молдавия, нет объектов, которые могут рассматриваться в качестве крупного стратегического выигрыша и которые коррумпировали бы политику. Украина, с одной стороны, имеет достаточно, чтобы обеспечивать коррупцию элит. Как отмечает Маргарита Балмаседа, самого объема денег, вовлеченных в газовую коррупцию, достаточно, чтобы помешать любым благим намерениям (которые тоже присутствовали далеко не всегда), что и стало основной причиной краха «оранжевой революции». Но, с другой стороны, этих откатов недостаточно для обеспечения Украине путинского социального контракта или даже белорусского варианта, за который Лукашенко расплачивается российскими деньгами.
Кстати, роль транспортировки энергоносителей в поддержании баланса внешней политики также вызывает вопросы. Традиционно существовало многостороннее противостояние. Киев нуждается в российском газе, а Москва в украинском транзите. Европейский союз хочет потреблять российский газ и настаивает на более надежных поставках либо через трехсторонние схемы, которые обсуждались в конце президентства Кучмы и, возможно, вновь окажутся на повестке дня после 2012 г., либо через модернизацию пакета соглашений, подписанных Тимошенко и так и не вступивших в силу в 2009 году. Но Евросоюз никогда не давил слишком сильно.
Однако правила этих игр меняются быстро. Открытие «Северного потока» для первой прокачки технологического газа в сентябре 2011 г. означает, что вскоре Украина может оказаться обойденной. К завершению третьей фазы в 2015 г. «Северный поток» будет обеспечивать поставку 75% газа, который сейчас проходит через Украину. Угроза обходного пути может, наконец, побудить к действиям. Комбинация рационального использования энергоресурсов, инвестиций в традиционное внутреннее производство, сланцевый газ и СПГ может достаточно быстро избавить Киев от зависимости от российских поставок, но учитывая прошлый опыт, угроза должна быть очень серьезной, чтобы заставить Украину действовать.
Не полюс и не ключевая держава
Еще одно клише, в котором есть доля истины – украинская внешняя политика является многовекторной, и, по мнению некоторых, так и должно оставаться. Но то же самое можно сказать о многих странах СНГ. Белорусская внешняя политика имела несколько направлений с 2006 г., даже у Армении, отдающей приоритет России, есть «дополнения», да и российский внешнеполитический курс официально является многовекторным.
Очевидно, что это клише может иметь различный смысл. Для России оно означает позиционирование в качестве великой державы, которая делит мир и имеет равноценные отношения с другими державами. Россия видит себя полюсом многополярного или «много-однополярного» мира, поэтому векторы – это длинные связи с другими полюсами и короткие связи с сателлитами или дружественными государствами.
Украина – не великая держава и, разумеется, не полюс. У нее нет сателлитов, она не ладит даже с маленькой Молдавией и не понимает ее. При Януковиче стало модно сравнивать Украину с Турцией. Украина тоже хотела бы видеть себя крупной державой на окраине Европы, взаимодействующей с ЕС с позиции силы. Но глава турецкого МИДа Ахмет Давутоглу определяет национальную внешнюю политику не через многовекторность, а через «стратегическую глубину», при этом Турция является «ключевой страной» в центре сосредоточения кругов власти, что обусловлено пересечением исторических интересов, включая языковые, неоосманские и деловые связи. Еще раз подчеркнем, что всего этого у Киева нет.
Кроме того, Украина не может похвастаться такими показателями, как Турция, которая несколько десятилетий демонстрирует двузначный экономический рост. Украина не входит в БРИК. Она очень уязвима перед второй волной рецессии, и ей вновь потребуются средства МВФ, а ведь она получает поддержку от фонда дольше, чем большинство других постсоветских государств (1994–2001, 2008–2009, 2010, с 2011 и далее). У Украины нет страховочных карт, которые гарантируют большую свободу маневра, как в России (ядерное оружие, энергетика) или Турции (роль на Ближнем Востоке, пример для новых арабских демократий). Администрация Януковича пыталась договориться с Соединенными Штатами об уничтожении всех своих запасов обогащенного урана к марту 2012 г. в обмен на помощь в размере 60 млн долл., но не преуспела.
Киев лишь короткое время обладал продаваемым «брендом» – эксплуатировал роль маяка демократии с 2005 по 2009 г. (к 2010 г. маяк угас из-за «усталости от Украины»). Киев, вместо того чтобы преследовать собственные национальные интересы, также периодически играл в непрямые внешнеполитические стратегии, посылая войска в Ирак, заискивая перед США и пытаясь реабилитировать Кучму после дел Гонгадзе и «Кольчуги». Украина стремилась добиться увеличения своей роли в северном коридоре в Афганистан посредством железных дорог и стратегических воздушных путей. Но Украина – не Узбекистан, сотрудничество с которым Вашингтон считает важным как минимум до назначенного на 2014 г. вывода войск.
Украина не похожа и на Белоруссию или Азербайджан. Богатый энергоресурсами Азербайджан может привлекать иностранных инвесторов, чтобы получить пространство во внешней политике – у Украины такой возможности нет. Белоруссия при Лукашенко проводит противоположную политику, используя тактику откатов во внешней политике и применяя различные формы шантажа и угрозы изменения своей позиции. После 2004 г. Лукашенко успешно «продал» себя Москве, чтобы защититься от «цветной» революции. В результате Минск получил откаты, которые в период пика в конце 2000-х гг. приближались к 40% ВВП. У Украины есть общие черты с подобной моделью откатов, но они в большей степени обусловлены статусом страны как транзитера энергоресурсов, что, как сказано выше, не очень прочно.
Новая роль Китая в Восточной Европе дает Киеву больше пространства для маневра, так же как и слабый, поглощенный своими проблемами Евросоюз, занятые другими темами США и более меркантильная Россия. Украина проводит многовекторную внешнюю политику небольшого государства. Как часто поступают небольшие государства, она чередует стремление изолировать себя от давления со стороны более крупных соседей и попытки объединиться с одним из них в противовес другому. Но спустя 20 лет пространство для маневра сужается. Основные факторы географии, истории, сложной внутренней региональной политики и идентичности означают, что Украина всегда будет поддерживать связи и с Европой, и с Россией. Некоторые виды баланса могут обеспечить одновременное сосуществование гораздо легче, чем другие, например, большая свобода передвижения и контактов между людьми с востока и запада. Но в долгосрочной перспективе Украина должна решить, где мера баланса в ее внешней политике.
Партнеры требуют более честных и открытых отношений. После 2004 г. расширившиеся Евросоюз и НАТО подошли к границам Украины. Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, которая предусматривает постепенное введение большей части правовых норм ЕС, несовместима с Таможенным союзом, предлагаемым Москвой, даже если Россия захочет перенять большинство европейских норм. С другой стороны, Москва проводит более жесткую, прагматичную политику в отношении соседей и, вполне вероятно, будет продвигать Таможенный союз в качестве одной из главных тем внешней политики во время третьего президентского срока Путина.
* * *
Украине всегда на распутье. Перед ней множество экзистенциальных дилемм в вопросе о том, что касается ее национальной идентичности и направлений внешней политики. Но ее партнеры требуют ответов, а количество возможностей сокращается. Украине угрожает превращение в плохо функционирующую полуавтократию и абсолютную периферию, и это вместо того, чтобы стать добрым и важным соседом крупных держав и объединений. Современная Украина обрела независимость 20 лет назад в 1991 г. – т.е. ей больше 18, но меньше 21. Украина – уже не подросток, и ей пора прокладывать собственный путь в мире.
Эндрю Уилсон – ведущий научный сотрудник Европейского совета по международным делам.

Возвращение в место, которого нет
Можно ли восстановить Советский Союз или создать на его месте жизнеспособную структуру
Резюме: Если в 1920-е гг. молодая Советская Россия предложила народам бывшей империи великий модернизационный и интернационалистский проект, то сегодня его нет. Поколение «рожденных в СССР» всей душой за объединение, но возникает закономерный вопрос: во имя чего?
В одном из недавних выступлений сэр Пол Маккартни так предварил исполнение знаменитого шлягера Back in USSR: «А сейчас прозвучит песня о месте, которого больше нет». Это неприятно резануло слух, как будто нет уже и нас самих, жителей той самой страны.
Двадцатилетие распада Советского Союза вновь напомнило о «месте, которого нет». Вроде бы и рана затянулась, и боль утихла, и шок давно прошел. Но кто в течение этих двух десятилетий не задавался вопросом: как такое могло произойти? Так или иначе, подспудная мысль о «возвращении в СССР» в какой-либо форме занимала умы политиков, политологов и простых граждан. Владимир Путин некогда произнес фразу: «У тех, кто не жалеет о распаде СССР, нет сердца, а у тех, кто мечтает его восстановить, нет головы». Это высказывание должно было примирить всех: пролить бальзам на душу сторонникам советской идеи, и в то же время ясно дать понять, что назад пути нет.
Но, готовясь к возвращению в Кремль, будущий четвертый президент России, похоже, слушает сердце. Его идея о создании Евразийского союза, обнародованная в начале октября 2011 г., вызвала бурю эмоций, догадок и дискуссий, в первую очередь среди ближайших союзников и претендентов на роль партнеров по будущему Союзу. Что это, начали гадать в Астане и Минске, окончательная реализация «доктрины Путина» (сначала экономическое объединение, затем – политическое)? Просто предвыборный трюк? Или долгосрочная стратегия по восстановлению (здесь кое у кого замирает сердце) родного Советского Союза?
Спасительное евразийство
Идея о создании Евразийского союза на месте бывшего СССР далеко не нова. Впервые сам термин прозвучал в начале апреля 1994 г. из уст президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который, выступая с лекцией в МГУ, предложил создать такую структуру вместо СНГ. То есть на месте аморфного, ни к чему не обязывающего Содружества сформировать нечто вроде конфедерации с четко прописанными политическими и экономическими рамками. Предложения носили радикальный характер. Это стало ясно, когда после визита казахстанский МИД разослал всем правительствам стран СНГ конкретные предложения, оформленные в виде официального документа.
Казахстанский лидер фактически предлагал восстановить Советский Союз под новым названием: по крайней мере, это следовало из текста после внимательного прочтения. Предлагалось создать единые парламент, правительство, вооруженные силы, валюту и т.д. Возникало ощущение дежавю: проект Евразийского союза до боли напоминал новоогаревский план Михаила Горбачёва, сорванный августовским путчем. Напомним, что, согласно тогдашним договоренностям, Назарбаев должен был занять кресло премьера в обновленном Союзе.
Трудно сказать, что двигало тогда казахстанским лидером. Ностальгия либо, скорее, трезвый расчет, поскольку он как никто из лидеров СНГ понимал необходимость постсоветской кооперации. Но Москва оставила предложения Назарбаева без комментариев. А из Киева и Ташкента последовали гневные отповеди. Там сразу раскусили суть проекта и без обиняков назвали его «возвращением в СССР».
Возможно, побудительные мотивы крылись во внутренней политике Казахстана, где в 1990-е гг. евразийская идея была чрезвычайно популярна. После падения железного занавеса и контактов с дальним зарубежьем казахстанцы убедились, что не похожи на соседей из исламского мира, несмотря на некий мусульманский ренессанс в республике. В Советском Союзе жители Средней Азии считались «азиатами», но после более тесного знакомства с китайцами и другими дальневосточными народами стало очевидно, что и на настоящих азиатов они не очень похожи. Гораздо больше общего у них с другими гражданами стран СНГ, здесь и пригодилось понятие «евразийцы».
Речь Назарбаева в МГУ дала старт кампании в советских традициях: бесконечные симпозиумы, конференции и круглые столы по пропаганде евразийской концепции. Сама по себе перспективная и популярная в народе идея вскоре всем набила оскомину. Новому университету в новой столице Акмоле (бывший Целиноград, теперь Астана) было присвоено имя популярного в среде казахских интеллектуалов советского ученого Льва Гумилева, а сам университет стал называться Евразийским. Частым гостем в Казахстане был Александр Дугин, страстный проповедник евразийского геополитического единства.
Но риторикой дело не ограничилось. Астана регулярно предпринимала попытки добиться более тесной интеграции на общесоюзном и региональном уровне. В середине 1990-х гг. появилась идея Центральноазиатского союза, которую (вплоть до 2008 г.) в той или иной форме (в виде «экономического сообщества», «пространства» и т.д.) реанимировала Астана и торпедировал Ташкент. Но к концу десятилетия усилия начали приносить плоды, во многом благодаря поддержке Москвы: в 1998 г. появилось Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), к которому помимо России и Казахстана присоединились Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.
Параллельно Москва и Астана нащупали компромиссный механизм для урегулирования каспийской проблемы (делимитация водного пространства и шельфа); позднее их позицию разделил Азербайджан. Возникло нечто вроде «каспийского пула», правда, неофициального – Иран и Туркменистан блокировали любой прогресс в общекаспийском масштабе. Впрочем, Нурсултан Назарбаев сразу понял, что политическое объединение невозможно. Нужно создать союз на экономических принципах и вводить послабления в повседневной жизни рядовых граждан: прозрачные границы, отсутствие таможни, свободный обмен информацией. Так родились «Десять простых шагов навстречу простым людям».
Попытка продвинуть идею Таможенного союза (на базе ЕврАзЭС) в конце 1990-х гг. наглядно проиллюстрировала поговорку «первый блин комом». В ходе многолетних переговоров стороны так и не договорились о единой системе тарифов, удержания НДС, таможенном контроле и так далее. Новые времена наступили с приходом Владимира Путина и особенно с началом проведения вторым российским президентом активной политики интеграции в 2002–2005 годах. Путин вдохнул новую жизнь во многие интеграционные проекты ельцинских времен: Договор коллективной безопасности (переформатирован в ОДКБ), ЕврАзЭС (включил в себя ЦАЭС), динамику придали Союзному государству Россия–Белоруссия. На базе «Шанхайской пятерки» создана ШОС, и, наконец, заложены основы для второго издания Таможенного союза. Одновременно Москва при поддержке Астаны проводила политику отсекания от СНГ нежизнеспособных элементов.
Сложилось интеграционное ядро в составе 5–6 государств (в основном участников ОДКБ и ЕврАзЭС), но в нем, несмотря на обилие подписанных коллективных документов, преобладали двусторонние отношения каждого отдельного государства с Россией. Во второй половине 2000-х гг. Россия, Белоруссия и Казахстан пришли к определенному взаимопониманию относительно темпов сближения. Первой колонной к полноценной интеграции идут они сами, создавая Таможенный союз. Вторая колонна – остальные республики, не готовые, по мнению Москвы, Минска и Астаны, к полномасштабному объединению, а также имеющие проблемы с экономической и внутриполитической стабильностью, внешнеторговой безопасностью и т.п. Подобное деление на категории задело самолюбие Ташкента, и Узбекистан – своего рода enfant terrible Центральной Азии – покинул ОДКБ и ЕврАзЭС. Киргизия и Таджикистан остались ждать своей очереди, хотя старшие партнеры дали им понять, что перспективы вступления в Таможенный союз туманны. Впрочем, существовала негласная договоренность, что в (отдаленной) перспективе Бишкек и Душанбе могут рассчитывать на членство.
Вперед – назад к Евразийскому союзу?
И вот 3 октября 2011 г. Владимир Путин, уже объявивший о своих президентских амбициях, публикует в «Известиях» предложение о создании Евразийского союза. Так была реанимирована идея Нурсултана Назарбаева, причем в самый неожиданный момент. Путин затронул принципиальные вопросы – создание в будущем единой валюты и наднациональных органов. Лукашенко и Назарбаев почти сразу сочли необходимым изложить свои взгляды на страницах той же газеты, что само по себе любопытно – будь президенты полностью согласны с Путиным, они не стали бы сами публиковаться в «Известиях». Но каждому захотелось расставить собственные акценты.
Так, Александр Лукашенко «забыл» об инициативе казахстанского коллеги от 1994 г. и полностью приписал авторство Евразийского союза Путину. Зато президент Белоруссии настойчиво говорит об обязательном равноправии всех участников союза.
Со своей стороны, президент Назарбаев в статье в «Известиях» от 25 октября 2011 г. обозначил характер проблем, связанных с созданием Евразийского союза. Суть выдвинутых (на базе проекта 1994 г.) предложений сводится к следующему.
Во-первых, интеграция должна строиться прежде всего на основе экономического прагматизма. Фундамент будущего Евразийского союза – Единое экономическое пространство как масштабный ареал совместного развития народов СНГ. Во-вторых, добровольность интеграции. Каждое государство и общество должны самостоятельно прийти к пониманию ее необходимости. В-третьих, Евразийский союз – объединение государств на основе принципов равенства, невмешательства во внутренние дела друг друга, уважения суверенитета и неприкосновенности государственных границ. В-четвертых, создание наднациональных органов, которые действовали бы на основе консенсуса, с учетом интересов каждой страны-участницы, обладали четкими и реальными полномочиями. Но это не предполагает передачу политического суверенитета. В-пятых (и это добавлено в 2011 г.), ответственность каждой страны за устойчивость внутреннего развития, результативность национальной экономической, кредитно-финансовой и социальной политики.
Назарбаев указывает, что в первом полугодии 2011 г. общий товарооборот трех стран вырос на треть, а по итогам года он достиг уровня 100 млрд долларов, что на 13% превысило прошлогодний показатель. Быстрее всего растут объемы приграничной торговли между Казахстаном и Россией – более чем на 40%. Но период адаптации экономических субъектов трех стран к унифицированным таможенным тарифам и импортным пошлинам неизбежно вызывает трудности. Есть нестыковки между национальными таможенными администрациями. Таможенный союз расширил до Бреста и Владивостока границы рынка сбыта для казахстанских производителей. В 2011 г. казахстанский экспорт в Россию вырос на 60%, а в Белоруссию – более чем в 2,3 раза. Отменены ограничения на перемещение иностранной валюты внутри единой таможенной территории.
Казахстан рассматривает Евразийский союз как открытый проект. Его нельзя представить без широкого взаимодействия, например, с Евросоюзом. Астана не считает, что объединение призвано стать защитой от так называемой китайской экономической экспансии.
С 1 января 2012 г. начался практический этап создания Единого экономического пространства (ЕЭП) как предтечи Евразийского экономического союза. Последовательно станут реальностью механизмы согласования экономической политики и обеспечения трансграничного свободного движения услуг, капиталов и трудовых ресурсов, унифицированное законодательство. Национальные субъекты бизнеса получат равный доступ к инфраструктуре в каждом государстве, участвующем в ЕЭП. В перспективе – единые транспортные, энергетические и информационные системы.
Совокупный ВВП трех стран составляет почти 2 трлн долларов, промышленный потенциал оценивается в 600 млрд, объем выпуска продукции сельского хозяйства – порядка 112 млрд долларов, а общий потребительский рынок – более 165 млн человек. ЕЭС имеет шанс стать мощным объединением, органичной частью новой мировой архитектуры. Для этого нужна ясная стратегия действий, базирующаяся на следующих принципах.
Первое. Евразийский союз должен изначально создаваться как конкурентоспособное глобальное экономическое объединение.
Второе. Евразийский союз должен формироваться как прочное звено, соединяющее евро-атлантический и азиатский ареалы развития. Предполагается расширение сотрудничества между Единым экономическим пространством и Европейским союзом, Китайской Народной Республикой, Японией, Индией, АСЕАН.
Третье. Евразийский союз должен формироваться как самодостаточное региональное финансовое объединение, часть новой глобальной валютно-финансовой системы. Создание валютного союза в рамках ЕЭП – рубеж, преодолев который, мы вплотную подойдем к новому уровню интеграции, близкому к нынешнему состоянию Европейского союза.
Четвертое. Геоэкономическое, а в перспективе и геополитическое возмужание евразийской интеграции должно идти исключительно эволюционным и добровольным путем.
Пятое. Создание Евразийского союза возможно только на основе широкой общественной поддержки. С этой целью необходимо расширять число евразийских общественных объединений. Например, Евразийский конгресс промышленников и предпринимателей на базе Делового совета ЕврАзЭСа. В формате трех стран Таможенного союза целесообразно создать Евразийскую торгово-промышленную палату. Их штаб-квартиры могли бы разместиться в Астане. Также необходимо начать работу по созданию круглосуточного новостного канала «Евразия-24».
Платформа евразийской интеграции достаточно широка. Она включает разные по форме, целям и задачам межгосударственные объединения – СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, Таможенный союз – ЕЭП Казахстана, Белоруссии и России и прочие. Но Казахстан не исключает возникновения и других структур, в частности Центральноазиатского союза. Это способствовало бы улучшению благосостояния всех граждан стран Центральной Азии и помогло бы решению сложных проблем региона.
Одновременно Казахстан предложил сделать столицей нового Евразийского союза Астану, по аналогии с Брюсселем – столицей Евросоюза. Нахождение центрального офиса вне России избавило бы новое интеграционное объединение от подозрений, имеющихся как внутри стран, так и за пределами объединения.
Фактически предложение об Астане как столице вынуждает Россию определиться, каким она видит процесс интеграции на постсоветском пространстве. Является ли этот проект союзом равноправных партнеров или политикой собирания земель вокруг российского ядра? Если говорить о равноправном партнерстве, тогда размещение центра Евразийского союза в Астане или, например, в Минске не является проблемой. Правда, для Москвы это, очевидно, неприемлемо, по крайней мере на данный момент.
«За» и «против»: дискуссии в Казахстане
В Казахстане существуют и противники (в основном националистического толка) Таможенного союза, Единого экономического пространства и Евразийского союза. Их аргументация примерно такова.
Москва ведет планомерную работу по восстановлению Советского Союза. Суверенитет Казахстана может оказаться под угрозой. Астане приходится согласовывать многие законы с Москвой в рамках ТС, если же будет создан более тесный союз, он приведет к потере независимости. Глубокая интеграция с Россией ведет к неизбежному слиянию с ней, причем не равноправному, а в духе неоколониализма.
Националисты небезосновательно говорят, что экономическая и политическая независимость неразрывно связаны. Вхождение в Евразийский союз должно происходить естественным образом, и оно будет по-настоящему привлекательным для остальных стран, только если Россия откажется от ностальгии и будет готова к равноправному сотрудничеству. Самые важные компоненты казахстанского бизнеса будут скуплены россиянами, а проекты, предлагаемые Москвой, в деталях напоминают возвращение СССР и плановой экономики. Кстати, отмечается, что вследствие присоединения Казахстана к Таможенному союзу цены для рядового потребителя поползли вверх.
Кроме того, создание Евразийского союза осложнит международное положение Казахстана и отношения с Западом, а также с Китаем. Астана потеряет контроль над внешними границами, которые станут границами Таможенного союза и Евразийского союза. В результате учреждения ТС страдают казахстанские производители, перевозчики и многие другие сферы экономики. Создание Евразийского союза может означать фактическое снятие с повестки дня вопроса о будущем членстве Казахстана в ВТО. Вообще, достаточно распространена точка зрения, что новый евразийский проект выгоден исключительно России, поскольку главенствующая роль в региональной интеграции – единственный путь для укрепления международных позиций Москвы.
Эксперты, не впадая, в отличие от националистов и популистов, в откровенный алармизм, тоже указывают на проблемы функционирования ТС и создания Евразийского союза. Например, гарантированное доминирование России в наднациональных органах Таможенного союза исключает возможность равноправного согласования экономических интересов. Агрессивная политика протекционизма ТС в долгосрочной перспективе является тупиковой для стран объединения, поскольку консервирует их огромное технологическое отставание от развитых государств мира и закрывает доступ к привлечению иностранных инвестиций, которые позволили бы провести модернизацию экономики.
Далее, в валютно-финансовой системе у каждого государства сохраняются серьезные национальные особенности, которые объективно затрудняют интеграцию. Скажем, Белоруссия проводит существенно иную денежную политику, чем Россия и Казахстан (Минск сделал ставку на внутренние источники финансирования и собственное производство). Оборотной стороной модели, которая дала высокие темпы экономического роста, стали неразвитый финансовый рынок и определенная закрытость финансовой системы. Будет сохраняться конкуренция в фискальной сфере национальных юрисдикций; соответственно, объединение денежных систем как заключительная фаза интеграции на сегодняшний день находится за горизонтом планирования.
Европейский опыт подсказывает, что если члены ТС хотят иметь единую валюту, необходимо такое ограничение на эмиссию долговых ценных бумаг, чтобы государственные долги финансировались какой-то единой бумагой, а она выпускалась на основе общего баланса и единых границ. Пока никто к этому не готов. Если Таможенный союз и ЕЭП будут расширяться, и в них появятся не только Киргизия и Таджикистан, но и более крупное государство (к примеру, Украина), это приведет к снижению доли рубля во взаимной торговле. Тогда могут сформироваться предпосылки для единой валюты.
Риски также заключаются в «растягивании» СНГ между внешними центрами силы. Молдавия и Украина начинают активно поглощаться, а точнее колонизироваться Европейским союзом. В Центральной Азии главная проблема присоединения Киргизии к Таможенному союзу заключается в колоссальном объеме китайского импорта, который идет через эту страну, а сама она во многом используется как логистический центр для переброски товаров из Китая на территорию СНГ.
Потоки спекулятивного капитала, которые генерируются для финансирования дефицита бюджета и платежного баланса США, перетекают через американские банки по всему миру. Дешевые кредиты, которые они получают благодаря вливанию Федеральной резервной системы, лихорадочно пытаются обменять на какие-то реальные активы. Поэтому риски спекулятивных атак и захвата контроля над национальной собственностью путем дестабилизации национальных финансовых рынков очевидны. Они требуют ужесточения политики валютного регулирования и создания механизмов, которые отсекали бы спекулятивный капитал от прямых инвестиций в рамках ТС и будущего Евразийского союза.
Таким образом, заключают казахстанские эксперты, концепция, предложенная Путиным в качестве одного из первых элементов его президентской программы, выглядит слишком узкой и не соответствующей масштабу задачи. Даже в случае крайне маловероятного участия Украины она охватывает лишь бедные страны, со скромными финансовыми и трудовыми ресурсами и без подходящих рынков.
Таможенный союз: мифы и реальность
Несмотря на оптимистическую оценку Таможенного союза, высказанную Нурсултаном Назарбаевым в цитировавшейся выше статье, дискуссии по ТС, ЕЭП и Евразийскому союзу в Казахстане идут не только среди экспертного сообщества, но и в СМИ – на уровне широкого общественного мнения. Показательны представленные недавно социологические данные, согласно которым общество в Казахстане разделилось фактически пополам: 52% опрошенных поддерживают ТС, 48% – «против» или не определились. Дальнейшее углубление интеграции с Россией способно расколоть казахстанское общество со всеми вытекающими последствиями.
В экспертной оценке перспектив ТС и других интеграционных проектов на постсоветском пространстве налицо два макроэкономических подхода: краткосрочный и долгосрочный. Одни говорят о текущих плюсах и минусах объединения, приходя к выводу, что минусов для Казахстана явно больше, причем не только в экономическом, но и в политическом отношении. Другие анализируют глобальные тенденции, доказывая, что в долгосрочном плане экономическая интеграция с соседями Казахстану жизненно необходима. Обе стороны не отрицают того, что реалии постоянно меняются, поэтому именно текущие интересы отражаются на жизнеспособности большинства экономических объединений в мире.
При интеграции с Россией основной вопрос для Казахстана всегда будет состоять в том, кому это более выгодно, учитывая десятикратную разницу в масштабе экономик. Идея глубокой экономической интеграции была хороша в 1994 г., когда Россия, Казахстан, Белоруссия были еще почти идентичны по экономической структуре, все они только вышли из советского прошлого. Сейчас же в России стратегические активы, например, сосредоточены преимущественно в руках государства, в Казахстане – у частных инвесторов, в основном зарубежных.
Ряд казахстанских экспертов выделяет четыре отрицательных следствия Таможенного союза. Первое – «импорт» российской инфляции. Второе – отрицательный торговый баланс в торговле с Россией и Белоруссией (мы продаем меньше, чем покупаем). Разрыв в сотни миллионов долларов покрывается профицитом, который Казахстан имеет за счет экспорта нефти и другого сырья в дальнее зарубежье. Чтобы рассчитываться за российские и белорусские товары, мы должны как можно больше добывать. Но с какой стати Казахстан должен терять свою валютную выручку, стимулируя экономику других государств? Третий негативный аспект – растущее присутствие на местном рынке российских и белорусских производителей, имеющих более высокие конкурентные позиции. Есть и четвертый момент – за экспансией бизнеса России на внутренний рынок республики могут стоять интересы транснациональных компаний. В качестве примера приводится бренд «Веселый молочник», принадлежащий российской группе «Вимм-Билль-Данн», которая недавно была куплена американской «ПепсиКо».
Любопытно, что при этом мнение об объективной необходимости интеграции в Казахстане разделяют даже некоторые традиционно оппозиционные политики. Они уверены, что и Казахстан, и Россия, и многие другие страны региона экономически суверенны «ровно настолько, насколько ограничены долларовым пространством и долларовой глобализацией». Долларовой зоне, по их мнению, будет только выгодно, что в Казахстане кредиты втрое дороже, а инфляция – в три-четыре раза выше, чем в Европе, что тенге – это «просто местный доллар». И если предполагать, что происходящий на Западе экономический кризис является предвестником конца эпохи глобализации и краха глобального «долларового государства», то формирование евразийской общности – это встречный тренд, идущий в противовес кризису западной финансово-экономической системы.
В парламентских кругах указывают на наличие политической составляющей в формировании наднациональных органов, таких как Комиссия Таможенного союза, где механизм принятия решений пропорционально выстроен в пользу России (57% голосов у РФ против 21,5 соответственно у Казахстана и Белоруссии). Однако, как ни странно, эксперты и даже видные политики иногда оперируют не вполне точными данными. Специалисты опровергают утверждения о том, что между Россией, Белоруссией и Казахстаном существует неравновесие при принятии решений. Так, например, представители казахстанского Министерства индустрии и новых технологий напоминают, что распределение голосов в Комиссии ТС рассчитывалось исходя из количества голосов, которое мы имеем в ЕврАзЭС. Однако это не влияет на принятие общих решений. За полтора года комиссия ТС не проигнорировала ни одно казахстанское предложение. Голоса, о которых идет речь (по 21,5% у Белоруссии и Казахстана), влияют на совместное финансирование общего бюджета ЕврАзЭС и ТС. Согласно этому проценту каждая страна вносит свои взносы. А решения принимаются только консенсусом.
С января 2012 г. Комиссия Таможенного союза трансформируется в Евразийскую экономическую комиссию, которая состоит из двух уровней. Первый – комиссия из девяти человек, по три от каждой страны, где решения принимаются двумя третями. Фактически речи о 57% для России больше вовсе не идет. Следующий вышестоящий орган – Совет комиссии, в который входят всего три представителя заместителей премьер-министров. Здесь решения принимаются консенсусом. Если стороны не договорились на таком уровне, то вопрос, соответственно, уходит на рассмотрение Совета глав государств. Таким образом, дисбаланса уже нет. Любая страна, если ее не устраивает то или иное решение, может его заблокировать. Подразумевается, что такие же принципы будут использоваться при формировании Евразийского союза.
* * *
Итак, идея о создании Евразийского союза, выдвинутая когда-то Назарбаевым и реанимированная Путиным, уже живет своей полноценной политической жизнью. Это заметно в том числе и по реакции (зачастую – нервозной) зарубежных партнеров, особенно на Западе. Но взглянем на ситуацию в историческом контексте: кто, как и на каких основаниях будет объединяться. Прав был Путин – воссоздать Советский Союз невозможно, так как отсутствуют фундаментальные составляющие этого проекта: социалистическая (государственная) экономика, единая идеология и политический класс, объединенный общими интересами.
Если в 1920-е гг. молодая Советская Россия предложила народам бывшей империи великий модернизационный и интернационалистский проект, то сегодня его нет. Поколение «рожденных в СССР» всей душой за объединение, но после здравого размышления возникает закономерный вопрос: а с кем? С державой, взявшей все худшее от западного капитализма, усвоившей буржуазную культуру самого дурного вкуса, демонстрирующей проявления ксенофобии и бытового расизма, находящейся в демографическом и технологическом упадке? Со страной, чья экономика контролируется мафиозными олигархическими группами? Нам могут вполне резонно указать, что у нас в Казахстане то же самое, и будут во многом правы.
Тем самым напрашивается и ответ: объединяться должны не политические и экономические элиты, а сами народы. Но, как учит история, народы доверчивы, и порой сами не знают, чего хотят. И все же обидно думать, что мы останемся в истории только как «место, которого больше нет».
М.Т. Лаумулин – доктор политических наук, главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований, Алма-Ата.

Вечно живой призрак
Почему бывшие республики так и не решили проблем, вызвавших распад СССР
Резюме: Распад СССР не обеспечил субъектности вновь возникших стран. Национальные элиты не сформировали основания своей долгосрочной легитимности. Осталась неразрешенной проблема вертикальной мобильности, напрямую задающая параметры социальной стабильности или, наоборот, нестабильности.
Двадцать лет после исчезновения СССР – срок, вполне достаточный для подведения итогов, если не окончательных, то как минимум промежуточных. Относительно того, возникло ли за это время новое качество и в чем оно состоит, можно размышлять. Но в том, что касается преодоления (либо непреодоления) проблем, запустивших некогда цикл перемен, которые привели к появлению нового множественного субъекта под названием «постсоветское пространство», уже должен быть дан ясный и недвусмысленный ответ. Ведь для обеспечения собственной жизнеспособности каждая из вновь возникших стран должна была найти пути решения проблем, которые в итоге и развалили Советский Союз. В противном случае говорить о возможности их исторически продолжительного существования в новом качестве просто не приходится. Фундаментальных же вопросов, на которые так и не смог найти ответ Советский Союз, несколько.
Во-первых, это вертикальная мобильность. Брежневский застой характеризовался тем, что сделать карьеру, не принадлежа к высшей номенклатуре как минимум во втором поколении, было практически невозможно. Личные таланты, способности и знания оказывались вторичными и мало влияли на шанс добиться успеха.
Во-вторых, это коллапс советского странового проекта. Делегитимация советской идеологии, исподволь развивавшаяся начиная со второй половины 1970-х гг. и принявшая обвальные формы в период горбачёвской перестройки, попросту лишила партийные элиты смысла политического существования и права на политическое бытие. Ведь только и исключительно идеологией и можно было оправдать доминировавший способ селекции правящего класса. Отсутствие же оснований легитимности предопределило крушение системы. В силу этого создание собственных оснований легитимности для вновь возникших национальных элит было вопросом их выживания даже в большей степени, нежели проблема вертикальной мобильности.
Третьим вызовом, на который не смог ответить Советский Союз, была проблема эффективности экономической модели. Как известно, советское плановое хозяйство не смогло пережить падения цен на нефть: с уменьшением притока валюты разрыв в качестве жизни советского и западного человека оказался слишком очевиден, что не могло не сказаться на лояльности населения. Это стало еще одной бесспорной причиной краха СССР. Перед постсоветскими элитами, таким образом, встала задача запуска остановившихся механизмов экономики и поиск собственных форматов ее включения в мировую систему.
И наконец, четвертой проблемой, напрямую обусловившей провал решения в рамках СССР первых трех, было качество элит. Картина мира, из которой исходило позднесоветское руководство, оказалась слишком ригидной для адекватного осмысления природы и глубины вызовов, с которыми столкнулась страна. Для постсоветских государств, таким образом, вопрос появления правящего класса, способного производить и транслировать адекватную реалиям и приемлемую для общества картину мира, безусловно, стал вопросом исторического выживания.
Вертикальная мобильность
Проблему вертикальной мобильности на постсоветском пространстве решить не удалось. Практически везде поколение, пришедшее к власти в 1991 г., в точности воспроизвело все системные изъяны, от которых само страдало и против которых боролось. Картина, когда конкуренция в рамках статусного распределения подменена наследованием, ключевые для системы иерархии загнивают, а творческие силы общества оказываются невостребованными и маргинализованными, типична практически для всех постсоветских государств.
Иной вопрос, что засорение каналов мобильности приняло внешне весьма разные формы, скажем, в странах Центральной Азии, в России и в странах Прибалтики. При этом общим свидетельством нерешенности этой проблемы является череда «цветных» революций, которые затронули добрую половину постсоветских стран в виде непосредственной реальности, а вторую половину – в виде фантомных ожиданий властей.
«Оранжевая революция» в Киеве, «революция роз» в Грузии, две «тюльпановые» в Киргизии, волнения, в итоге не переросшие в смену режимов, в Узбекистане и Молдавии, мирное, но оттого не менее напряженное противостояние общества и власти в Белоруссии, демонстрации протеста в России... Везде причиной потрясений в первую очередь являлся застой, не позволяющий новым поколениям претендовать на сколько-нибудь достойные места во власти и бизнесе. В результате альтернатива в виде слома системы начинает выглядеть более привлекательной и перспективной, нежели игра по правилам, когда выигрыш фактически невозможен.
При этом дефицит вертикальной мобильности практически во всех постсоветских государствах является наследием советской системы. Та испытывала нехватку институциональных средств обеспечения мобильности начиная со второй половины 50-х годов ХХ века. В результате каждый поколенческий цикл, т.е. в среднем каждые 12 лет, советский режим переживал системный сбой, который, случаясь в каком-то одном месте, тут же порождал кампанию по наведению порядка, то есть снятия поколенческого напряжения, в рамках системы в целом. События в Венгрии 1956 г., «пражская весна» 1968 г., «Солидарность» в Польше в 1980 г. – звенья одной логической цепи, когда каждое очередное поколение, не видя пространства для самореализации, начинало штурмовать систему. Завершилось все это, как известно, событиями конца 1991 г. уже в самом СССР, приведшими к его распаду.
Примечательно, что украинская «оранжевая революция» произошла практически точно по «советскому расписанию» – в 2004 г., через 12 лет после распада Союза. Это лишний раз подтверждает непрерывность и непрерванность советского цикла на постсоветском пространстве.
В контексте этих проблем стоящими несколько особняком, на первый взгляд, могут выглядеть государства Прибалтики: там «оранжевые» оттенки вроде бы не просматриваются. Однако стоит принять во внимание, что проблема поколенческого бунта там попросту оказалась трансформирована в проблему миграции: молодые люди, пользуясь членством стран Балтии в ЕС, предпочли революции заработки в государствах «старой Европы». Говорить же о создании вертикальных «социальных лифтов» непосредственно в рамках национальных систем, что было бы реальным решением проблемы, не приходится. Напротив, можно констатировать, что деньги, присылаемые на родину выехавшими за границу детьми, стали важной частью национального дохода всех прибалтийских государств, за что, впрочем, было заплачено заметным снижением способности этих стран к демографическому воспроизводству.
Легитимация власти, или страновые проекты
Пристальный взгляд не обнаруживает ни в одной из постсоветских стран состоявшихся проектов, которые объединяли бы нацию ради достижения какой-либо долгосрочной цели.
Так, в России предлагались сегментарные и, по сути, внесистемные проекты. Каждый из них представлял собой некую сверхидею, по степени своей проработки не способную обеспечить системное осознание, но при этом претендующую на довольно радикальное изменение реальности. В качестве само собой разумеющегося предполагалось, что воплощение очередной идеи автоматически перенесет страну в качественно новое, модернизированное состояние. При этом каждая сверхидея, как правило, не обладала внятной формулой своей институционализации, что, мягко говоря, чрезмерно расширяло спектр действий, которые власть при желании могла презентовать, и презентовала, как свои усилия по воплощению этой идеи. Провал же каждого очередного воплощения, при таком положении дел фактически неизбежный, имел следствием не переосмысление ситуации, а механическую замену одной несостоявшейся идеи следующей.
Таким образом, Россия последовательно прошла через: 1) проект демократизации, начатый еще Горбачёвым в составе СССР, 2) проект рынка, запущенный ранним Ельциным в начале 1990-х гг. в ответ на провал горбачёвского проекта, 3) проект порядка, запущенный ранним Путиным в начале 2000-х гг. в ответ на провал ельцинского проекта рынка. Как легко заметить, каждое последующее начинание требовало все менее открытых форм общественной мобилизации, и при позднем Путине она достигла максимально статичной конфигурации подразумевающейся «молчаливой поддержки». Очевидно, этим и объясняется неудачный запуск инновационного проекта президента Медведева: тот явно предусматривал существенно большую степень поддержки, нежели общество готово было ему на тот момент оказать.
Сегодня массовые демонстрации протеста и возврат публичной политики указывают на завершение смыслового цикла, занявшего 20 постсоветских лет, и выход ситуации то ли на новый круг, то ли на новый уровень. Вовсе не требуется сложных логических построений, чтобы доказать, что протесты по поводу легитимности выборов есть не что иное, как новый запрос на демократию, генерируемый, впрочем, в этот раз уже не «сверху», как в горбачёвском варианте, а «снизу», непосредственно самим обществом.
Немаловажно при этом, что все вышеперечисленные проекты не учитывали внутреннюю специфику страны, а являлись заимствованиями, имеющими целью привести положение дел в определенной области в соответствие с некими внешними стандартами. Этим, очевидно, в некоторой степени и объясняется сегментарность и несистемность российских модернизационных идей. По сути, каждый раз брался произвольный аспект реальности, воспринимаемый к тому же скорее через внешние формы, т.е. вне контекста, нежели через довольно сложную и неочевидную систему связей с остальными пластами реальности.
Не продемонстрировали самобытности и остальные постсоветские государства. Конечно, можно рассматривать как таковую традиционные для Восточной Европы и Центральной Азии лимитрофные проекты, которые в разных форматах предполагают все то же балансирование между крупными соседями, Западом и Востоком в случае Восточной Европы и Западом, Россией и Большой Азией в центральноазиатском случае. Однако уже сам факт лимитрофности предусматривает вторичность, ведь соответствующая политика возможна лишь как реакция на действия значимого внешнего игрока. И насколько такое балансирование может быть выигрышным в период роста, когда появляется возможность сочетать сильные стороны каждого из соседей, настолько же проигрышным оно может оказываться в период спадов: удвоение преимуществ враз превращается в удвоение слабостей.
В период же отсутствия внятного российского проекта и кризиса проекта европейского именно таким удвоением слабостей обернулись страновые проекты большинства постсоветских государств.
Так, белорусская система, нащупывая точки опоры для своей легитимации, прошла полный круг: демократический проект 1994 г. сменился белорусско-российским, продолжавшимся до начала 2000-х гг., затем его вытеснил пробелорусский (или «забелорусский», по названию официальной пиар-кампании) проект, длившийся до 2006 г., когда система пыталась обрести основания легитимности в собственной несамодостаточной по сути экономике, а после 2006 г. и вплоть до разгона протестной демонстрации 19 декабря 2010 г. длился проевропейский проект. Круг замкнулся, и факт последовательного использования в актуальном обороте всего возможного спектра ценностей делает ценностную легитимацию режима в дальнейшем вряд ли возможной: ценности просто обесценились.
Не более успешными оказались и поиски легитимности на Украине. Киев привычно пытался балансировать между Западом и Востоком, однако существенно большие, нежели в белорусском случае, масштабы страны обусловили куда более скромные результаты. Ни Россия, ни Европа не готовы в полной мере оплачивать украинские счета. Глобальный экономический кризис законсервировал ситуацию. И в высшей степени сомнительно, что в обозримом будущем Россия или ЕС будут изыскивать средства на украинский проект. В результате текущий, вынужденно проукраинский, проект на сегодня состоит в элементарной централизации ресурса правящими элитами на фоне общего снижения доходов населения, что в принципе не может способствовать укреплению легитимности.
Не принесло ощутимых результатов и балансирование стран Центральной Азии, осуществлявшееся уже не по одному, а как минимум по трем векторам – Запад vs Россия, Запад и Россия vs Азия, исламский мир vs мир христианский. По большому счету практически все страны региона не смогли выйти за пределы парадигмы выживания и не создали запас самостоятельного развития. Определенная же устойчивость режимов была достигнута не за счет развития, а как раз наоборот, за счет их архаизации, что на фоне более развитых соседей чревато взрывом.
Несколько особняком стоят Грузия и Азербайджан: оба государства могут представляться вполне состоявшимися страновыми проектами. Однако в одном случае речь идет о реализации не аутентичного, а американского проекта: Саакашвили удалось повторить достижения раннего Лукашенко, получив уже от Запада ресурсы, в масштабах страны вполне сопоставимые с тем, что Лукашенко получал с начала 1990-х гг. от России, и заметно трансформировать грузинскую политическую реальность. Однако степень устойчивости трансформации будет понятна лишь со временем, сейчас судить о ее жизнеспособности преждевременно. В случае же Азербайджана речь идет о собственном ресурсе нефти, сам факт наличия которого избавил руководство от необходимости генерировать собственный страновой проект.
В странах Балтии в основу легитимации власти был положен европейский проект, довольно быстро институционально закрепленный вступлением в Евросоюз. По сути, это переложило миссию легитимации с национальных элит на европейские структуры. Но текущий европейский кризис ставит под вопрос, как минимум, часть конструкции под названием Европейский союз, если не саму ее в целом; совершенно очевидно, что поиск формулы собственной легитимности не является для ЕС завершенным процессом. В этом плане ситуация в странах Балтии на данный момент не может представляться окончательной.
Экономические стратегии у всех постсоветских государств оказались схожи. Практически во всех случаях речь идет о ресурсном включении в мировую экономику, когда страна поставляет на внешний рынок сырье и получает высокотехнологическую продукцию. Повсеместно такие процессы сопровождались деградацией, когда собственные высокотехнологические производства в лучшем случае заменялись сборочными, и общим упрощением степени сложности экономических отношений. Так, ни одна из постсоветских стран сегодня не обладает ресурсом, позволяющим осуществлять долгосрочную экономическую стратегию, как на уровне государства, так и на уровне крупных субъектов хозяйствования.
На этом фоне исключением представляется амбициозный Евразийский проект, претендующий на объединение России, Казахстана и Белоруссии в едином пространстве. Однако тут пока речь идет не столько о попытке создания собственных экономических смыслов, собственной модели, а значит, и экономической стратегии, сколько о попытке встроиться в интенсивный товарообмен между ЕС и Азией, предложив более быстрый путь для транзита грузов. Иными словами, на этом этапе и евразийский проект является не более чем модификацией той же ресурсной парадигмы, хотя и резервирует возможности выхода за ее пределы, и осознанного строительства собственного внутреннего рынка.
Элиты: их качество и картина мира
Качество элит не претерпело кардинальных изменений. Постсоветские элиты малосубъектны, как правило, не обладают когнитивным инструментарием, который соответствовал бы вызовам, и в силу этого довольно часто склонны подозревать внешнее влияние даже в ситуациях и процессах, имеющих бесспорно внутреннее происхождение.
Довольно яркой иллюстрацией этого феномена является ситуация общей недосубъектности постсоветских элит относительно концепта БРИК, ныне трансформировавшегося в БРИКС. Как известно, изначально созданный аналитиками Goldman Sachs концепт БРИК был лишь ограниченно благоприятен для входящих в виртуальный блок государств: предполагалось, что к 2050 г. эти страны станут наиболее выгодными рынками (но никак не субъектами). Идентичность в виде рынка, напротив, как раз и предполагает известную степень десубъективации: чем ограниченнее возможность государственного субъекта на рынок влиять, тем больше свобода маневра у играющего на рынке инвестора.
В высшей степени примечательно, что появление в обороте такого неоднозначного концепта было воспринято индийскими и китайскими элитами как когнитивный вызов, который тут же породил процессы интенсивной переработки. В результате публичных дискуссий и Индия, и Китай смогли создать на базе изначального концепта Goldman Sachs свои собственные концепты БРИК, в полной мере отражавшие их национальные интересы и предполагающие достаточный уровень субъектности. Эти переосмысленные концепты в итоге и легли в основу их политики. При этом в России публичные дискуссии о БРИКС почти что не вышли за пределы обсуждения «за» и «против» оригинальной концепции Goldman Sachs, в итоге так и не приблизившись к возможности творческой переработки концепта сообразно российским интересам.
Ничуть не лучше ситуация и в остальных постсоветских странах, где картина мира традиционно является производной от картины мира российских и европейских элит. В свете же развития глобального экономического кризиса, требующего от любого жизнеспособного руководства умения эффективно существовать в условиях нестабильности, подобная когнитивная недостаточность может оказаться критичной.
* * *
Как мы видим, распад СССР не обеспечил субъектности вновь возникших стран. Напротив, заметно уменьшилась существовавшая степень субъектности не только России, но и остальных государств постсоветского пространства. Так, упал общий технологический уровень, в ряде случаев обернувшийся ликвидацией целых отраслей экономики и архаизацией социально-экономической и социально-политической структуры. Национальные элиты не сформировали основания своей долгосрочной легитимности, при этом их средний когнитивный уровень понизился. Осталась неразрешенной проблема вертикальной мобильности, напрямую задающая параметры социальной стабильности или, наоборот, нестабильности.
Все это позволяет заключить, что процессы постсоветской трансформации на данный момент еще далеки от завершения, и дальнейшие перемены неизбежны.
К.Е. Коктыш – кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России.

Азербайджано-иранские отношения на современном этапе
Очередное обострение азербайджано-иранских отношений, ставшее следствием обмена нотами между внешнеполитическими ведомствами обоих государств, вновь продемонстрировало наличие между странами существенных противоречий. Однако, справедливости ради надо сказать, что несмотря на все эти противоречия, полномасштабного кризиса в отношениях между странами никогда не происходило. Чтобы объяснить все эти хитросплетения имеет смысл проанализировать суть последнего инцидента.
В середине февраля посол Азербайджана в Тегеране был вызван в МИД Ирана, где ему передали ноту протеста против оказания со стороны Баку помощи Моссаду. Речь идет о недавнем убийстве иранского физика-ядерщика Мостафы Ахмадирошана, в котором Иран обвинил израильские спецслужбы. Иран считает, что убийцы ученого бежали через территорию Азербайджана с согласия властей.
В ответ МИД Азербайджана распространил заявление, в котором опровергаются все обвинения иранской стороны. Более того, Азербайджан расценил ноту МИД Ирана как ответ на аналогичный документ, представленный ранее иранской стороне официальным Баку.
Дело в том, что в середине января министерство национальной безопасности Азербайджана предотвратило террористический акт, осуществление которого планировалось в Баку.
В результате оперативно-розыскных мероприятий была разоблачена и задержана группа лиц, связанных со спецслужбами Ирана, которые обвиняются в подготовке покушения на общественных деятелей с целью прекращения их деятельности, то есть в организации террористического акта, а также в приобретении большого количества огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и оборудования и в других преступлениях.
В Азербайджане складывается устойчивое предположение, что Иран продолжает финансировать деятельность по созданию в Азербайджане сети организаций, занимающихся агитацией по осуществлению в республике исламской революции, надеясь на то, что это когда-то даст свои результаты. В то же время азербайджанское общество в массе своей является приверженным светским нормам, и деятельность такого рода организаций локализируется в пределах определенных социальных групп и территорий, где сильны религиозные настроения.
В то же время латентная борьба за расширение сфер идеологического влияния со стороны подобных организаций ведется. И существующие факты указывают, что поддержка идет именно со стороны Ирана.
Показательным в этой связи является нашумевший процесс по делу руководителей и активистов Исламской партии Азербайджана (ИПА).
В прошлом году председатель Исламской партии Азербайджана Мовсум Самедов и шесть других членов ИПА предстали перед судом по обвинению в подготовке вооруженного теракта и попытке свержения существующего строя. Эти обвинения были предъявлены Самедову после того, как он подверг осуждению неофициальный запрет властей на ношение мусульманками хиджаба в средних и высших учебных заведениях. Кроме того, на различных митингах во время религиозных мероприятий из уст активистов партии нередко звучали призывы, которые однозначно расценивались как призывы к гражданскому неповиновению. Во время обысков у задержанных была обнаружена запрещенная литература, в большинстве своем изданная в Иране, что позволяет делать выводы о прочных связях ИПА с Исламской Республикой. Поэтому, несмотря на то, что руководители партии отрицают факт получения финансовой помощи от Ирана, они тем не менее не скрывают, что с соседней страной их связывают тесные братские узы.
Кстати говоря, процесс над членами ИПА, также является негативным фоном азербайджано-иранских отношений и представляет собой своеобразную «лакмусовую бумажку» текущего состояния двусторонней политики. Несколько раз официальные представители двух стран вступали в заочную перепалку друг с другом по различным аспектам обострения ситуации вокруг процесса над членами партии. Однако, ни к каким серьезным последствиям в сфере практической политики эта перепалка не приводила.
Вот и на этот раз в ходе очередного пленарного парламентского заседания спикер парламента Азербайджана Огтай Асадов заявил, что некоторые силы хотят испортить отношения между Азербайджаном и Ираном. Подчеркнув, что у иранской дипломатии были определенные ошибки, были заявления в парламенте Ирана, даже были высказывания по поводу ликвидации Туркманчайского договора, а иранский телеканал «Сехер» («Утро») постоянно выступает с антиазербайджанскими заявлениями этот вопрос не следует углублять, две страны являются соседями и должны придерживаться политики добрососедства.
Примечательно, что в момент обострения отношений с Азербайджаном аналогичным образом поступали и высшие должностные лица Исламской Республики, всякий раз вынужденные оправдываться за резкие высказывания представителей иранской политической элиты в отношении Азербайджана и его руководства.
Для тех кто посвящен в перипетии отношений между Баку и Тегераном и долгие годы следит за их развитием это обстоятельство не вызывает удивлений. Дело в том, что интересы двух стран переплелись в целом ряде направлений, представляющих обоюдный интерес. Так, Азербайджан не является сторонником войны в Иране и крайне сдержанно относится к международным санкциям в отношении этой страны. Кроме того, Баку и Тегеран заинтересованы в сохранении стабильности в двусторонних отношениях и выступают за развитие совместных транспортно-коммуникационных проектов, обе стороны не являются также сторонниками участия третьих стран в укреплении безопасности на Каспии и поддерживают приграничное сотрудничество. Для Азербайджана важен также аспект взаимодействия с Ираном по Нахичевани.
Два года назад Иран упростил правила торговли с Азербайджаном и приступил к односторонней отмене визового режима для граждан Азербайджана. Таким образом, азербайджанские граждане смогут находиться на территории Ирана в течение 15 дней. Это особенно важно, когда дело касается жителей Нахичеванской Автономной Республики, для которых Иран является единственным возможным сухопутным путем сообщения с остальной территорией Азербайджана. Достаточно сказать, что большая часть поставок (в том числе газа), торговля и другие связи Нахичевани с остальными регионами Азербайджана осуществляются именно по иранскому маршруту. Сейчас в целях обеспечения Нахичевани газом Иран поставляет туда 1-1,2 миллиона кубических метров голубого топлива по своп-схеме.
С целью развития транспортного сообщения между Исламской Республикой и азербайджанской автономией реализуются транспортные проекты, которым обе стороны придают важное значение. В то же время важность приграничной торговли ощущается и на других участках азербайджано-иранской границы. Об интенсивности контактов свидетельствует тот факт, что согласно статистическим сведениям, только в первом квартале 2011 года 77% экспорта Ирана в Азербайджан через погранично-пропускной пункт Астара пришлось на челночную торговлю и составило $35,7 млн.
Представитель управления таможенного контроля провинции Гилан Мухаммед Бехбуд Ахани сообщил, что в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем экспорта возрос на 75%, причиной чего может быть упразднение визового режима с иранской стороны. В первом квартале 2011 года через погранично-пропускной пункт «Гилан» в Иран прибыло 450 тыс. 697 человек, а отбыло 444 тыс. 927 человек, что также больше показателя первого квартала предыдущего года на 70%.
Сказанное позволяет делать вывод о том, что сотни семей по обеим сторонам границы буквально кормятся за счет мелкой торговли. Для них всякое серьезное обострение отношений между странами грозит самыми тяжелыми экономическими последствиями.
Однако, несмотря на столь интенсивные контакты объемы двустороннего товарооборота весьма скромны. По разным оценкам они составляют от нескольких сот миллионов до полумиллиарда долларов. Если учесть что ирано-азербайджанский участок границы является одним из самых протяженных участков государственной границы Азербайджана, а также тот факт что в ИРИ проживает, опять же по разным оценкам от 25 до 30 миллионов азербайджанцев, многие из которых имеют родственников в Азербайджанской Республике, это довольно таки скромный показатель.
Кстати, многомиллионная азербайджанская диаспора Ирана, которую и диаспорой то можно назвать лишь условно, ведь северо-западные провинции Ирана являются исторической родиной азербайджанского населения Исламской Республики, представляет собой некую «подушку безопасности» двусторонних отношений. Политически активная часть иранских азербайджанцев, требующая расширения своих прав периодически доставляет хлопоты как Баку, так и Тегерану. Баку отнюдь не стремиться выполнять роль разжигателя сепаратистских настроений в Иране, тогда как Тегеран не горит особым желанием идти навстречу даже самым элементарным требованиям одной из самых значительных этнических групп своего населения, опасаясь активизации других национальных меньшинств.
Так что, принимая во внимание в том числе и фактор иранских азербайджанцев, как Баку, так и Тегеран стараются не педалировать тему конфронтации. Худой мир лучше доброй ссоры, считают соседи, продолжая при этом проводить каждый свою политику.
Ильгар ВЕЛИЗАДЕ (Баку, Азербайджан),
политолог
специально для Iran.ru
Как передает 1news.az со ссылкой на Госкомстат, это на 98,2 млн. кубометров больше, чем за аналогичный период 2011 года
Отметим, что в 2011 году по Южнокавказскому трубопроводу экспортировано 4,5 млрд. кубометров природного газа, что на. 400 млн. кубометров меньше показателей за 2010 год.
По трубопроводу ЮКТ экспортируется природный газ, добытый с морского газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз». Газ поступает в Грузию и Турцию.
Участники соглашения о долевом разделе добычи «Шах-Дениз»: BP (оператор - 25,5%), Statoil (25,5%), SOCAR (10%), LUKOIL (10%), NICO (10%), Total (10%) и TPAO (9%).
В случае возможного американо-иранского вооруженного конфликта военные специалисты рассматривают несколько вариантов действий Ирана по перекрытию судоходства через Ормузский пролив. Причем все сходятся в одном – Тегеран непременно прибегнет к этой мере.
Считается, и для этого есть основания, что Иран «создал широкое разнообразие не конвенциональных средств» ведения вооруженной борьбы, «которые могут угрожать его соседям». И если речь идет о зоне Ормузского пролива, то в первую очередь упоминается морской компонент иранского военного потенциала.
Возможности иранской армии
В составе вооруженных сил насчитывается 835 тыс. человек, из них: 403 тыс. относятся непосредственно к армии. В сухопутных войсках -300 тыс. человек., в ВВС ПВО – 85 тыс. человек., в ВМФ – 18 тыс. человек. В составе Корпуса стражей революции (КСР) – 450 тыс. человек.
На вооружении армии и КСР находятся: 17- 30 пусковых установок и предположительно до 175 тактических ракет с дальностью стрельбы 150 -180 км.. 15 пусковых установок и около 250 оперативно – тактических ракет «Шихаб -1»( Скад –В), досягаемостью – 300км; от 100 до 200 ракет «Шихаб -2» (Скад С) с дальностью до 700км; предположительно от 20 до 40 ракет «Шихаб – 3», дальность полета которых достигает 1500 -2000 км.
На вооружении армии и КСР имеются 1655 танков , 1490 единиц бронетехники , 2085 буксируемых и 310 самоходных артиллерийских систем , около 900 реактивных систем залпового огня, 270 - 306 боевых самолетов, 580 вертолетов, в том числе 50 боевых вертолетов, 3 подводных лодки и 6 кораблей класса фрегат, 20 ракетных катеров, 90 патрульных катеров, 13 десантных кораблей.
Несмотря на то, что иранское вооружение в массе своей представлена образцами восьмидесятых и девяностых годов, в гористой стране, а Иран именно такая страна, оно может неплохо себя проявить. Да и моральный дух персов всегда был высок. При всей разности отношения к нынешнему режиму, большая часть населения с опасением относится к высказываниям западных стран, что позволит в случае агрессии сформировать многомиллионное ополчение.
ПВО Ирана
Военное и государственное руководство ИРИ в свое время приняло решение о построении ПВО страны по зонально-объектовому принципу. Для есть объективные причины: даже самое богатое государство не всегда способно обеспечить в финансовом и экономическом отношении противовоздушную оборону всей территории страны. Силы и средства ПВО Ирана объединены в три района ПВО с выделением каждому из них определенных зон и объектов, а также участков (зоны, районы) сопредельных государств, воздушное пространство которых в обязательном порядке должно контролироваться радиолокационными средствами этих групп.
По оценочным данным, на сегодняшний день группировка ПВО в данном регионе характеризуется следующими показателями: стационарные радиолокационные посты – 4; мобильные радиолокационные посты – до 10; звукометрические посты и пункты – до 20; посты визуального наблюдения и оповещения – до 20; зенитно-ракетные дивизионы – 6 (в том числе один дивизион ЗУР С-300, один – С-200, один С-75 или «Саед»-1, два – «Хунцы»-2 (мобильный китайский аналог комплекса С-75) и один – «Хок»); зенитные ракетно-артиллерийские дивизионы – 8 (с батареями ЗУР «Рапира», «Куб», «Тайгер Кэт» и «Я-Зохра»); зенитно-артиллерийские дивизионы – до 10 (калибров 85 и 100 мм).
Кроме того, в расчет необходимо взять и зенитно-ракетные средства иранских эсминцев и фрегатов УРО (всего около десяти пусковых установок зенитных управляемых ракет с системами быстрого перезаряжания), которые могут составить передовой рубеж противовоздушной и противоракетной обороны Бушерской АЭС. Вести воздушную разведку будут также самолеты базовой патрульной авиации ВМС Ирана Р-3Н «Орион». Нельзя сбрасывать со счетов и зенитные средства двух бригад охраны побережья, дислоцированных в районе Бушира и имеющих на вооружении 14,5-мм спаренные и счетверенные зенитные пулеметные установки, а также зенитные пушки калибра 23, 35, 37, 57, 85 и 100 мм. Несмотря на свою архаичность, именно на эти зенитные средства иракских ПВО пришлось до 15 % всех сбитых крылатых ракет, самолетов и вертолетов коалиционных сил в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году и почти все сбитые летательные аппараты коалиционных сил в ходе последней агрессии США и их союзников против Ирака.
Обнаружение летящих объектов противника иранские радиолокационные средства поиска целей могут вести, начиная с рубежа 350-400 км и на высотах до 30 км, и осуществлять наведение ракет до дальности 200-250 км (по некоторым данным ЗРК С-200Д способен поражать цели на расстоянии 300 км) и на высотах от 20м. до 25 км. Кроме того, специалисты центра предполагают, что командование ВС Ирана поднимет в воздух три самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией А-50, закупленные в России и перелетевшие на территорию Ирана из Ирака в первую и вторую войны в Заливе. К подобным задачам будут привлекаться и истребители-бомбардировщики F-14A-GR (американского производства) с дальностью ведения радиолокационной разведки на глубину до 300 км.
Таким образом, при условии возможного огневого подавления средств ПВО ВС Ирана (до 60 % пусковых установок ЗУР и зенитной артиллерии) американскими или израильскими ракетно-бомбовыми ударами, система противовоздушной обороны противника будет насчитывать: пусковых установок ЗУР дальнего действия – 5-6; пусковых установок ЗУР средней дальности – 24-32; пусковых установок ЗУР малой дальности – 8-10; пусковых установок ЗУР ближнего действия – 6-9; переносных зенитно-ракетных комплексов типа «Игла», «Стингер», «Стрела»-2М и «Мисак» (аналог китайского ПЗРК «Цяньвэй»-2) – до 50; зенитно-артиллерийских установок различного калибра – до 200.
Следовательно, на разных подступах к Бушерской АЭС по воздушному противнику может быть выпущено 93-107 ракет различной дальности стрельбы (причем более эффективных, чем американские «Пэтриоты» и израильские «Хец»). При усредненном коэффициенте поражения воздушного противника с вероятностью 0,5 число уничтоженных воздушных целей может составить 46-53 единицы. Вклад зенитной артиллерии в результаты данной оборонительной операции будет составлять около 12 уничтоженных целей противника, а морской группировки – до 6. Кроме того, несомненно, иранцами будет учтен и опыт ирано-иракской войны 1980-1988 гг., в ходе которой иракские ВВС неоднократно пытались нанести ракетно-бомбовые удары по строящейся Бушерской станции.
Зона досягаемости иранских средств по американским и израильским объектам
В данном аспекте можно рассматривать только ответные удары ракетными силами командования военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции. На боевом дежурстве в составе этих сил находятся оперативно-тактические ракеты типа «Шехаб»-1 и «Шехаб»-2, а также баллистические ракеты средней дальности «Шехаб»-3. Дальности стрельбы этих ракет составляют , соответственно, 350, 750 и 1350 км.
Боевые части этих ракет могут быть в различном снаряжении: осколочно-фугасные, фугасные, кассетные с противопехотными минами и готовыми убойными элементами. Специалистами центра не исключается возможность применения ракет с боеголовками, так называемого, «грязного» типа или, другими словами, в радиологическом снаряжении. Попросту говоря, такая боеголовка будет снаряжена 500-700 кг измельченного до состояния пыли уранового концентрата с частичным его обогащением. Таким образом, даже одна такая ракета «несет» в себе последствия для Израиля или группировок американских войск в зоне ответственности Объединенного центрального командования США как от десяти Чернобылей. Останется дело за малым – чтобы израильские или американские средства ПВО сами же (если у них получится) сбить эти ракеты.
Кроме того, в случае вовлечения в конфликт американских вооруженных сил, военно-морская группировка США может оказаться намертво (в прямом и переносном смысле) «связана» в Персидском заливе. Это может случиться, если военное и государственное руководство Ирана примет решение «запереть» Ормузский пролив, который и без того простреливается даже иранскими береговыми артиллерийскими установками, не говоря уже о стационарных и мобильных комплексах противокорабельных ракет. Это, прежде всего, китайские ракеты берегового и корабельного базирования типа С-801, С-802, американского производства «Гарпун», иранские ПКР «Квадр», «Тондар», «Корус». Максимальная дальность стрельбы этими комплексами составляет 200-250 км. Так что, если американцы после своего возможного удара по Бушеру захотят выйти из Персидского залива, то им придется проводить почти однотипную с войной 2003 года в Ираке операцию по взятию островов в Ормузском проливе.
О вероятных действиях Ирана в Ормузском проливе
Наиболее вероятным и опасным сценарием считается использование Ираном минного оружия. Причем иранцы, скорее всего, станут использовать для минирования Ормузского пролива донные мины, для массированной постановки которых могут быть использованы различные средства: кораблей (в т. ч. гражданские суда), катера, самолеты и вертолеты. Причем, учитывая навигационные особенности пролива, прежде всего, узость фарватеров для прохождения крупнотоннажных судов, сделать это можно будет достаточно оперативно и скрытно. В то же время осуществление надежного траления плотных минных заграждений, состоящих из различных по типу и времени изготовления мин, даже без огневого и авиационного воздействия противника представляет собой очень сложную задачу, требующую к тому же значительного времени. Несомненно, следует учитывать и сильное психологическое воздействие на противника и судоходные компании массированного и скрытного применения минного оружия.
Вместе с тем, использование иранцами против морских целей береговых ракетно-артиллерийских средств, надводных кораблей и катеров, а также подводных лодок и авиации будет весьма затруднительно по причине безусловного превосходства США в средствах радиоэлектронной борьбы, военной авиации и морских силах. Здесь же отметим, что регулярно демонстрируемые иранскими военными на различных учениях образцы морского и иного оружия, по всей вероятности, являются опытными изделиями, боевые характеристики которых в пропагандистских целях сильно завышены. При этом, учитывая реальные возможности иранского ВПК, общее состояние экономического и научно-технического потенциала страны крайне маловероятно, что Иран способен развернуть крупносерийное производство современных средств вооруженной борьбы. А применение единичных, даже может быть и эффективных видов оружия не принесет решающего успеха. Одним из вариантов противодействия судоходству в Ормузском проливе могут стать действия иранских морских диверсантов. Здесь многое будет зависеть от качества их подготовки, вооружения и оснащения.
Западные военные специалисты рассматривают и вариант возможного нанесения Ираном ударов по объектам на территории аравийских монархий. Здесь, в первую очередь, речь идет об инфраструктуре нефтяной и газовой отрасли, морских портах, аэродромах, узлах связи и др. Все эти объекты считаются «очень уязвимыми».
В целом, по оценке известного американского эксперта Э. Кордесмана, Иран, используя все имеющиеся в его распоряжении средства, не сможет «закрыть Залив» более, чем на две недели, а, скорее всего, сможет сделать это «всего на несколько дней». При этом сами иранцы (и здесь с Кордесманом можно согласиться) понесут очень серьезный экономический ущерб, который может очень негативно отразиться на положении дел в стране. В тоже время, в случае умелого и массированного применения иранскими военными морского минного оружия, Ормузский пролив с учетом времени на его траление, может быть закрыт для судоходства на срок до двух-трех месяцев. Вероятнее всего при таком развитии событий все члены СБ ООН выступят за немедленное прекращение боевых действий, жестко осудят США и будут искать возможности диалога с Ираном с целью разрешения кризиса. В этих условиях американское руководство будет вынуждено прекратить антииранскую военную кампанию.
Если иранское руководство согласится на прекращение боевых действий сторон и пойдет на переговоры с ООН, то оно , несомненно, выдвинет ряд принципиальных требований, среди которых прежде всего будет требование о немедленном выводе всех американских войск из региона и предоставление компенсации за нанесенный действиями США ущерб.
Согласие США на эти требования будет означать полный крах их стратегии в важнейшем для них регионе с самыми негативными экономическими и политическими последствиями не только для них, но и для всего мира. Уход ВС США из региона будет воспринят исламским миром как грандиозная победа над Западом, которая позволит диктовать ему свои условия. Такого развития событий США допустить не могут и будут вынуждены продолжить воздушно-космическую операцию, т.е. перейти ко второму сценарию войны с Ираном.
Второй сценарий
Стратегические цели операции останутся прежними, но первоочередной задачей продолжения антииранской компании станет разблокирование Ормузского пролива и восстановление через него транзита нефти.
Основными задачами операции по второму сценарию будет следующее: организация перманентного наблюдения за территорией страны, важными военными, промышленными и транспортными объектами с целью проведения необходимых действий в соответствии со складывающейся ситуацией в режиме реального времени, разведка и уничтожение ракетных и артиллерийских позиций, боевых кораблей и других боевых средств, которые могут быть использованы для нанесения ударов по группировке войск США в заливе, его союзникам и для блокирования Ормузского пролива; нейтрализация действий иранских сухопутных войск, недопущение их проникновения в Ирак и Афганистан; уничтожение оставшихся после первой операции объектов военной инфраструктуры; разрушение транспортной системы страны; уничтожение наиболее важных промышленных объектов; разрушение системы связи, радио и телевизионного вещания и центров государственного управления; поддержка, в том числе военная, сепаратистских движений в курдских и азербайджанских анклавах страны.
Очевидно, что при реализации второго сценария американцы попытаются использовать югославский опыт и российский опыт «операции по принуждению к миру». Одновременно с перманентной информационной операцией они будут планомерно, наносить удары по гражданской, промышленной и транспортной инфраструктуре, что повлечет за собой и большие человеческие жертвы, поскольку в отличие от операции на Балканах и в Ливии здесь вряд ли будут приниматься во внимание какие-либо гуманитарные соображения. Сама идея «операции по принуждению к миру» исходит из того, что существует предельный уровень экономического ущерба и потерь населения , при котором дальнейшее сопротивление грозит национальной катастрофой, и политическая ситуация станет такой, что власти вынуждены будут принять решение о капитуляции.
Чтобы снять блокаду Ормузского пролива, американцы будут всеми силами и средствами подавлять боевые позиции ракет и артиллерии и попытаются захватить все северное побережье пролива с помощью морского и воздушного десантов. Несмотря на возможные большие потери, они будут вынуждены это сделать, поскольку проблему разблокирования пролива другим путем не решить. Налеты на гражданскую, промышленную и транспортную инфраструктуру будут проводиться постоянно в течение суток небольшими группами истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков.
Учитывая размеры и особенности территории Ирана , можно утверждать, что в результате поражения транспортной инфраструктуры будет в значительной степени парализована экономическая жизнь страны, и многие районы изолированы друг от друга. Возникнут проблемы обеспечения населения городов и армии продовольствием, горючим и другими товарами первой необходимости. Если после поражения транспортной инфраструктуры режим не капитулирует, то настанет очередь ударов по промышленным объектам.
Можно предположить, что начнется выборочное уничтожение промышленных объектов и, прежде всего, предприятий по производству вооружений и военной техники, химических и нефтеперерабатывающих заводов. Далее наступит очередь машиностроительной и сталелитейной промышленности. Если власти Ирана будут по-прежнему упорствовать, то в течение нескольких недель промышленный потенциал страны может быть уничтожен полностью.
Очевидно, что в ходе операции американцы будут провоцировать курдское и азербайджанское население Ирана на выступление против центрального правительства. Однако велика вероятность, что даже в этих экстремальных условиях США не удастся сломить волю иранцев к сопротивлению. Единственным путем решения проблемы станет наземная операция ВС США с целью оккупации отдельных, ключевых районов страны. Но в настоящее время Америка не имеет для этого достаточно сил.
Иран ощущает реальную угрозу со стороны США. Некоторые американские и европейские эксперты считают, что угроза нападения провоцирует иранское руководство на создание своего ядерного оружия.
Последние расширенные военные учения «Корпуса стражей Исламской революции» в Персидском и Оманском заливах говорят об этом. Иранские военные успешно провели испытания ракеты дальнего радиуса действия «берег-море» Qader, «которая уничтожила цель в Персидском заливе». Позднее, в рамках продолжающихся крупномасштабных военно-морских учений, Иран провел второе успешное испытание баллистической ракеты большой дальности, способной поражать цели, расположенные на территории Израиля, а также базы США на Ближнем Востоке.
Заявления иранского руководства, сопровождающие эти учения, ясно говорят о подготовке Тегерана к отражению возможной агрессии.
Анатолий Цыганок, военный эксперт, руководитель научно-аналитического центра по проблемам национальной безопасности
Информационного агентства "Оружие России"
специально для Iran.ru
Украина и Турция подписали протокол о сотрудничестве в рамках трех проектов в сфере энергосбережения, сообщает в четверг пресс-служба государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины по итогам прошедшей накануне встречи в киевском Минэнерго.
Данный протокол регулирует механизм двустороннего сотрудничества по энергетическим проектам. Однако что это за проекты, пресс-служба не уточняет.
"Сегодня мы осуществляем практическую работу по совместной реализации трех проектов в сфере энергоснабжения, предусматривающих увеличение энергетической независимости Украины. Эти инициативы являются частью национальных проектов Украины", - отметил глава госагентства по инвестициям Владислав Каськив
Он также сообщил, что уже работает двусторонняя техническая группа, которую с украинской стороны представляют Госинвестпроект, Минэнергоугля, НАК "Нафтогаз Украины" и "Укртрансгаз". "Динамика сотрудничества позволяет нам рассчитывать на быстрые и конкретные результаты", - отметил Каськив.
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ранее сообщило, что на этой встрече в Киеве Украина и Турция обсудили вопросы экспорта электроэнергии, газового сотрудничества и реализации СПГ-терминала.
В январе текущего года в Давосе украинский президент Виктор Янукович сообщил, что Украина, Турция и Азербайджан ведут трехсторонние переговоры о сотрудничестве в энергетических проектах, однако не уточнил, о каких проектах идет речь. В Давосе планировалось подписание межправительственного соглашения Украины и Азербайджана о поставках сжиженного газа на будущий СПГ-терминал в Украине, однако этого так и не произошло. Ранее также украинская сторона заявляла, что ведет переговоры с Турцией о поставках газа.
Украина, чтобы уменьшить зависимость от российского газа, планирует до конца 2015 года построить на Черноморском побережье терминал по приему сжиженного природного газа. Предварительная стоимость проекта оценивается в 2,5 миллиарда долларов.
В конце минувшего года стало известно, что руководители Украины и Турции обсуждали вопрос транспортировки сжиженного газа на судах через турецкие проливы, отделяющие Средиземное море от Черного. Алена Мейта.
Сотрудники Министерства национальной безопасности (МНБ) Азербайджана, в результате проведенной операции, изъяли партию опия из Ирана весом в 10 килограмм, говорится в сообщении Центра общественных связей МНБ, поступившем в РИА Новости в четверг.
Наркотики были завезены в страну в машине, управляемой гражданином Ирана. Позже партия была передана двум гражданам Азербайджана для продажи.
Все три участника незаконной операции задержаны, по факту открыто уголовное дело.
В ходе другой операции сотрудники МНБ обнаружили и изъяли 1,217 килограмма героина, также завезенного контрабандным путем из Ирана.
При проведении операции задержан гражданин Азербайджана, который получил указанную партию наркотиков у иранца во время пребывания в городе Ардебиль (Иран) и завез их в страну для продажи. По данному факту также открыто уголовное дело. Герай Дадашев.
Луна снова в центре внимания мировой космонавтики. На спутнике нашей планеты совсем недавно сенсационно нашли то, чего уже и не чаяли отыскать, а современная технология в перспективе позволит начать строительство лунных баз. Правда, по мнению экспертов, денег на это предприятие придется затратить немало.
Возвращение на Луну
Земная космонавтика всерьез рассматривает Луну как цель для исследований на горизонте 10-15 лет. После угара лунной гонки 60-х - начала 70-х годов в экспедициях на "ночное светило" наступил длительный промежуток. И вот теперь, похоже, планета созрела для того, чтобы вернуться на Луну.
Целый ряд стран подразумевает в своих планах развития пилотируемые полеты к Луне, а также, в перспективе, создание лунных баз. Такие проекты есть в США и в Китае. Недавно их анонсировала и Россия: глава Роскосмоса Владимир Поповкин заявил, что высадка российских космонавтов на спутник Земли возможна в 2020 году.
Лунный проект дешевым не будет. "Необходимо будет вкладывать ежегодно около 50 миллиардов рублей только для того, чтобы создать технические средства и подготовить полет человека на Луну через 10 лет", - отметил в четверг в онлайн-интервью РИА Новости академик Российской академии космонавтики Александр Железняков, напомнив, что годовой бюджет Роскосмоса составляет около 120 млрд рублей, следовательно, реализация лунного проекта потребует дополнительных государственных инвестиций.
Ранее эксперты оценивали планку роста расходов Роскосмоса в случае принятия программы широкомасштабных исследований Луны относительно планируемого бюджета 2014 года (200 млрд рублей) "в шесть и более раз".
Маленький шаг остался в одиночестве
На рубеже 50-х и 60-х годов Советский Союз отвесил Америке несколько увесистых затрещин. Первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета (1957 год), первый искусственный спутник Земли (1957 год), первый человек в космосе (1961 год). Лихая конница Сергея Королева с гиканьем ворвалась во вражеские тылы, чтобы потом парадным строем прогарцевать по передовицам мировых газет. На этих людей работала вся страна, они ничего не боялись, и в первую очередь не боялись мечтать.
Но по ту сторону океана сидели люди, тоже не вчера родившиеся. Встряхнувшись, американцы ринулись наверстывать упущенное, укрепляя национальный престиж, подпорченный передовыми социалистическими достижениями. Джон Кеннеди не побоялся публично поставить нации цель: к исходу десятилетия высадить человека на Луну.
Так стартовала программа "Аполлон", ход и исход которой поныне заставляют конспирологов и любителей космонавтики ломать копья: было или не было? Втыкал Армстронг американский флаг в мягкий, похожий на мокрый песок лунный грунт, или же "маленький шаг одного человека" был сделан в голливудском павильоне?
Объяснение этой компенсаторной, чисто психологической реакции очень простое: команда Сергея Королева добилась феноменальных успехов, отправив в космос Юрия Гагарина, но команда Вернера фон Брауна, подкрепленная мощью аэрокосмических корпораций США, и вовсе прыгнула выше головы.
Чересчур уж это фантастично: первый полет человека в 1961 году, в декабре 1968 года экипаж Фрэнка Бормана на "Аполлоне-8" впервые облетает Луну, а уже в июле 1969 года Нил Армстронг и Базз Олдрин неуклюже спрыгивают с лесенки посадочного модуля "Орел" на поверхность земного спутника.
Запас везения был просто ненормален: даже авария "Аполлона-13" (та самая, вошедшая в фольклор: "Хьюстон, у нас проблема!") произошла, как это ни странно прозвучит, в самый подходящий момент. Взорвись кислородный бак раньше или позже - и экспедиция была бы обречена.
В декабре 1972 года лунная программа США завершилась шестой высадкой "Аполлона-17", еще за два года до этого НАСА отменило три пилотируемые миссии, который должны были стартовать вслед за "семнадцатым".
"Проблема ставилась так - американец должен высадиться на Луне, и задача на этом завершалась. И после того, как она была решена, никаких дополнительных реальных разработок не было", - считает заведующий отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института МГУ Владислав Шевченко.
Лунные экспедиции уже дали НАСА все, что могли дать, превратившись в дорогостоящие и довольно опасные (как показала эпопея с аварией "Аполлона-13") предприятия, переставшие окупать себя с политической точки зрения. Страна вступала в фазу реакции после волнений конца 60-х, на руках вашингтонского руководства лежало тяжелое поражение США во вьетнамской войне, отозвавшееся во всем обществе.
Советский Союз до Луны так и не добрался: катастрофическая эпопея монструозного носителя Н-1, наполненная неоптимальным проектированием и политическими дрязгами, закономерно окончилась провалом. Прыгнув выше головы, человечество успокоилось и занялось более привычными вещами: борьбой с вольнодумством, терроризмом и энергетическим кризисом. Интерес ученых и инженеров к пыльному пустому спутнику изрядно угас.
Вода в пустоте
Взрыв в селенологии произошел во второй половине нулевых годов. Миссии американских исследовательских аппаратов LRO ("орбитальный зонд разведки Луны") и LCROSS ("зонд наблюдения и исследования лунных кратеров") закончились сенсационным результатом: на Луне в больших количествах была обнаружена вода!
Это было тем более внове, что в пробах лунного грунта, доставленных на Землю советскими станциями "Луна-16", "Луна-20" и "Луна-24", а также американскими пилотируемыми экспедициями, вода прослеживалась временами и только в следовых количествах.
В 1994 году зонд НАСА Clementine в ходе локации южного полюса обнаружил следы крупных залежей льда. Но только в 2009 году парная миссия LRO и LCROSS дала подтверждение: да, действительно, в лунных полярных областях залегает лед.
Конечно, там нет сплошных полярных шапок, как на земной Антарктиде, однако ледяных кристаллов в грунте оказалось неожиданно много: средняя оценка 5,6% с погрешностью плюс-минус 2,9%.
В то же самое время индийский зонд "Чандраян-1" установил, что в северных полярных кратерах Луны на глубине залегают огромные глыбы льда. Только по результатам его миссии количество воды, захороненной в грунте северного полюса Луны, было оценено минимум в 600 млн тонн.
Российская космонавтика работает над программами "Луна-Глоб" и "Луна-Ресурс", которые должны быть реализованы в середине 10-х годов. Одним из результатов этих миссий должно стать возвращение на Землю капсулы с "влажным" лунным грунтом из полярных областей.
Совсем другое дело
Обнаружение лунной воды радикально меняет восприятие земными учеными проблемы освоения "ночного светила".
Все предыдущие проекты лунных баз (а даже надежное и планомерное изучение, не говоря уже об освоении, без них невозможно) упирались в одно и то же: слишком большой объем материалов требовалось завозить с Земли, и среди них изрядное место занимала вода.
В нынешних условиях, если ставить базу в толще грунта (защитившись тем самым от космической радиации) на богатых выходах лунного льда, можно существенно упростить задачу жизнеобеспечения базы. Замкнув цикл очистки, можно закрыть потребности лунной станции по воде. Кроме того, еще с 70-х годов ученые просчитывали схемы извлечения кислорода из лунного грунта (кислорода там в связанной форме содержится до 40%).
Многое сделал для повышения реалистичности планов лунной колонизации и прогресс в области автоматики и систем управления. То, что 40-50 лет назад неизбежно приходилось бы делать вручную или малоэффективными автоматизированными средствами, сегодня сравнительно легко может выполняться телеуправляемыми системами или роботизированными установками, имеющими минимальные потребности в обслуживании персоналом.
"Лунные базы инопланетян - это миф. Лунные базы землян - это реальность в обозримом будущем", - лапидарно прокомментировал вопрос Александр Железняков.
Топливо для будущих печей
Предыдущий всплеск интереса к Луне в середине нулевых годов был связан с еще более фантастическим элементом. В лунном грунте в изрядных количествах (по сравнению с земными условиями) содержится изотоп гелий-3.
Гелий-дейтериевая реакция ядерного синтеза рассматривается как перспективная замена хорошо известной землянам дейтерий-тритиевой реакции, которая с успехом используется в термоядерных боеприпасах. Но перспективы гелия-3 лежат вовсе не в военной области, а в мирной - в термоядерной энергетике будущего.
Не первый десяток лет ученые пытаются создать действующий образец эффективного термоядерного реактора, для чего им необходимо добиться устойчивого и управляемого ядерного синтеза. Управляемое деление получается отлично: на нем работают атомные электростанции. С термоядерным синтезом пока получается не очень.
В том случае, если энергетики осуществят-таки прорыв в "термояде", Луна может оказаться весьма лакомым куском и тогда нас может ждать увлекательнейшая гонка, близкие аналоги которой можно легко найти в прозе Джека Лондона, описывающей "золотую лихорадку" на Юконе. Константин Богданов, военный обозреватель РИА Новости.
Бес партийный
В большую политику возвращаются женщины, экологи, автомобилисты, рабочие, крестьяне и любители пива
Александра Белуза
Новый этап политического строительства наступит в России с принятием поправок об упрощении регистрации партий. Из сегодняшних женских, аграрных, экологических и других общественных организаций могут вырасти партии. О готовности их создавать «МН», в частности, уже заявили глава Движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
Законопроект об упрощенном порядке регистрации партий должен быть принят «в любом случае не позднее мая», заявил Дмитрий Медведев 6 февраля на встрече со своими сторонниками. К моменту, когда для штампа о регистрации партии в Минюсте потребуется не 45 тыс., а всего 500 человек, многие готовятся уже сейчас. «Я об этом активно думаю», — говорит «МН» Евгения Чирикова. «Россия потребляет много ресурсов, поэтому создание экологических сил — настоящих, а не фейковых, прокремлевских — это вообще вопрос выживаемости нашей страны», — считает она. Создавать партию Чирикова будет на базе возглавляемого ею Движения в защиту Химкинского леса, но обещает позвать всех, кто «реально борется за свою землю».
Вновь преобразоваться в партию хотят и «зеленые», на съезде 11 февраля объявившие о выходе из состава «Справедливой России», куда они благополучно влились в 2008 году. На съезде они приняли первое самостоятельное политической движение, единогласно поддержав кандидатуру Владимира Путина на выборах президента. На базе своего движения «Зеленая альтернатива» собирается строить новую партию и бывший первый заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь. «Мы с коллегами решили, что будем делать что-то экологической и социальной направленности, ориентируясь на охрану природы и защиту прав граждан», — сказал он «МН».
Большое оживление царит и среди аграриев. «Вопрос о воссоздании Аграрной партии России очень многими сейчас обсуждается, я знаю группы, кто хочет ее возродить», — говорит «МН» бывший председатель АПР, а ныне сенатор и член бюро высшего совета «Единой России» Владимир Плотников. Из крестьянских организаций, по сведениям «МН», политические планы строят Российское аграрное движение, председателем которого является первый вице-премьер Виктор Зубков, а также «Аграрная Россия», «Сельская Россия» и «Аграрии России», объявившие всероссийский сельский сход 25–26 февраля.
«Если в стране появится сразу несколько аграрных партий, то это будет достаточно смешно, — говорит «МН» лидер «Сельской России» Сергей Шугаев. — Поэтому мы сейчас готовим заседание оргкомитета и в ходе его работы предпримем попытки объединить всех, кто хочет создать свою аграрную партию, в одно общее целое. Мы обратимся к коллегам с идеей об объединении, при этом претендовать на лидирующие позиции сами не будем». С аппаратной и финансовой точек зрения основной силой крестьянского движения может стать зубковский РАД, предварительно заручившись согласием администрации президента. Своя сила, очевидно, будет и у рабочих (2 февраля представители уральских заводов создали оргкомитет нового движения «В защиту человека труда»).
К активной политической деятельности может вернуться председатель Движения автомобилистов России, экс-депутат Госдумы Виктор Похмелкин, сообщивший «МН», что уже ведет консультации «со всеми, кто мог бы принять участие в коалиции». «В том, что в России нужны новые партии, у меня сомнений нет. Действующие и представленные в Госдуме партии меня и моих коллег по движению совершенно не устраивают», — заявил он «МН». Похмелкин хотел бы, чтобы «в стране была серьезная либеральная партия, которая отстаивала бы интересы автомобилистов, а также в целом защищала ценности свободы, достоинство и права человека».
На базе движения «Отличницы» может появиться женская партия. «Это обсуждается», — сказала «МН» создатель движения, руководитель Центра изучения элиты Института социологии РАН, член «Единой России» Ольга Крыштановская. По ее словам, женщины могут инициировать и возглавить процесс, после чего не исключено, что партия станет открытой для всех. «Мы специально изучали, будут ли поддерживать женскую партию, оказалось, что ее поддержало бы около 47% женщин и порядка 25% мужчин», — отмечает Крыштановская. Окончательного решения «Отличницы» еще не приняли, но идеология уже написана. Будут добиваться создания правительства мягкой силы, замены ВВП национальным индексом счастья, а также выдвинут женщину на выборах президента в 2018 году.
Если же говорить о сугубо идеологическом поле, то здесь наиболее плотным, судя по всему, будет правый фланг. На этой неделе объявлено о возрождении Демократической партии и партии «Гражданская сила» (она в свое время выдвигала Дмитрия Медведева кандидатом в президенты). Вне зависимости от итогов президентской кампании свою партию пообещал создать миллиардер Михаил Прохоров, а экс-министр финансов Алексей Кудрин ранее заявлял, что ведет переговоры с оппозицией об объединении демократических сил. Еще одна идея объединения всех либералов, включая «Яблоко», «Солидарность», сторонников блогера Алексея Навального, принадлежит сопредседателям Партии народной свободы. Но, по словам Бориса Немцова, эта идея пока в зачаточном состоянии.
Вернуться к жизни планируют и треш-движения. Как рассказал «МН» бывший генсек Партии любителей пива, политтехнолог Константин Калачев, старые партийцы готовятся, недавно создали группу в фейсбуке. «Все это происходит без меня», — уточнил он, но добавил, что недавние опросы, куда из любопытства включили и ПЛП, показали, что она получает 2,5–3% на одном только названии. Еще один политтехнолог, Антон Баков, объявил о планах создания Монархической партии.
«В 1995 году в бюллетене было 43 партии, мы делаем два шага назад, запускаем политических мышей», — говорит «МН» депутат всех шести созывов Госдумы коммунист Николай Харитонов. Президент не обесценивает партии, а расширяет пространство политической конкуренции, спорит с ним общественный деятель Ирина Хакамада. Госдума, в свою очередь, подготовит поправки, обеспечивающие заслон от партий-однодневок, сообщил руководитель думской фракции «Единой России» Андрей Воробьев.
Высшая комиссия по борьбе с коррупцией (HOOA) заявила, что государственная авиакомпания «Ariana Afghan Airlines» может обанкротиться, если правительство не выделит ей ссуду.
На воскресном заседании Волуси Джирги директор HOOA заявил, что некоторые правительственные учреждения только в прошлом году задолжали авиакомпании 9 миллионов долларов. Однако Азизулла Лудин не стал вдаваться в подробности. Он лишь добавил, что в авиакомпании наблюдаются административные проблемы, которые уже обсуждались с президентом страны Хамидом Карзаем, сообщает телеканал «1TV».
Глава авиакомпании Насир Ахмад Хакими также обвинил правительственные организации в том, что они не погасили вовремя имеющиеся перед авиакомпанией задолженности за оказанные услуги. «Наша компания в долг оказывает транспортные услуги десяткам государственных структур», - отметил глава компании «Ариана» в беседе с журналистами.
В настоящее время авиакомпания осуществляет регулярные авиаперевозки в Россию, Иран, Пакистан, Индию, ОАЭ, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Китай, Турцию и ряд других стран. Год назад из-за недостаточного качества услуг компания была лишена возможности осуществления авиаперевозок в европейские страны.
На данный момент, помимо государственной авиакомпании, в стране действуют не менее четырех частных авиакомпаний. Также регулярные рейсы в Кабул совершают иностранные авиакомпании.
Делегация Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан, возглавляемая первым заместителем министра Харисом Мусиным, посетила Азербайджанскую Республику.
В ходе встречи с коллегами в департаменте развития лесов Министерства экологии и природных ресурсов обсуждались вопросы лесовосстановления, лесоразведения и озеленения Азербайджанской Республики. Достигнута договоренность о поставке посадочного материала, произведенного в лесных питомниках и Лесном селекционно-семеноводческом центре Республики Татарстан.
В настоящее время лесистость Азербайджана составляет 12%. Количество реализуемого посадочного материала и объемы площадей, необходимых для облесения и озеленения этой кавказской республики, будут определены после представления соответствующей информации со стороны азербайджанских коллег. Для обсуждения этих вопросов и ознакомления с посадочным материалом, произрастающим в Татарстане, в ближайшее время в Казань прибудет делегация из Баку.
Завод по переработке сельхозпродукции планируют ввести в эксплуатацию в Белореченском районе Краснодарского края в марте 2012 года.
Инвестор проекта – азербайджанская компания Azersun – изначально планировал запустить производство в декабре прошлого года. Однако плохие погодные условия помешали завершить отделочные работы на предприятии вовремя, сообщает "Интерфакс".
Строительство завода начали в 2010 году, объем инвестиций составил 360 млн. рублей. Производить здесь станут томатную пасту, ассорти из овощей, консервированный зеленый горошек и кукурузу, маринады, джемы, соусы.
На первоначальном этапе предприятие будет выпускать 50 млн. условных банок в год, в дальнейшем планируется увеличить производство до 110-120 млн. банок в год. Использовать для производства планируют сырье с собственных площадей в Белореченском районе.
После ввода в эксплуатацию консервного завода появится 250 постоянных рабочих мест, во время сезонных работ – порядка 300-400 временных мест, сообщает "Интерфакс".
Сирийский "котел" сегодня - один из значимых показателей переформатирования мирового пространства, направленного своим острием, прежде всего, на Иран.
О геополитической "связке" Дамаска с Тегераном сказано немало и в различном обрамлении, поэтому повторяться не имеет смысла. Вопрос, однако, в том, что параллельно политической канве происходящего, в сирийском разломе, как и в ливийском сценарии, однозначно высвечивается ракурс (в т.ч.) природных богатств и их маршрутирования.
Тонкость здесь еще и в соответствии ситуации в регионе выражению: "Новое - хорошо забытое старое". Хотя, все же, не "забытое" и даже не "упущенное", а "восстанавливаемое". Что подтверждается экскурсом в историю региональных событий почти вековой давности.
Вторая половина 1920-х
С открытием в 1927 г. в иракском Киркуке крупного нефтяного месторождения зона стала еще более притягательной для внешних сил. В том же году русский и советский исследователь Николай Корсун фиксировал активизацию Великобритании, в одночасье поставившей задачи по сооружению ж/д путей и грандиозных нефтепроводов из Ирака к побережью Средиземного моря; проработке проекта трансперсидской желдороги к границам Индии; прокладке автотранспортного пути из Ирака до этнически азербайджанских территорий Ирана; созданию аэролинии Лондон - Каир - Багдад - Карачи - Австралия и т. д. В свете чего историк подчеркивал становление Ирака "одним из примечательнейших факторов на Ближнем Востоке", с чем невозможно не согласиться.
Вскоре в регион устремились и США. В 1928 г. родилось т.н. соглашение "Красной Линии". Royal Dutch Shell, Near East Development Corporation при лидерстве Jersey Standard (в будущем Exxon) и Socony (впоследствии - Mobil); Англо-Персидская кампания и французская Compagnie Francaise des Petroles (нынешняя Total) договорились «не мешать» друг другу в ареале разведместорождений.
В том же значимейшем для мировой геополитической палитры 1928 г., в г. Исмаилия (Египет), находившимся в тот период под оккупацией Лондона, рождается структура «Аль-Ихван аль-Муслимун» - "Братья мусульмане" (БМ). Основавший партию Xасан аль-Банна мусульманскую умму видел единым целым, а исламский мир – единой родиной. Тем самым, «мусульманское братство» фактически противопоставлялось просоветской идеологии «некапиталистического пути отсталых колоний», благо тиражирование идей о "единой мировой умме" шло на фоне закрытия в СССР мусульманских религиозных школ и др. антииисламских шагов Кремля. В этой связи, как уже отмечал автор, намерения Х. Аль-Банны заинтересованные силы могли прекрасно обыгрывать в нужном направлении. Говоря другими словами, активизация «арабского движения», политизация и радикализация «братьев-мусульман», были выгодны Лондону с точки зрения инициирования в регионе антисоветских настроений.
Ирак, помимо запасов нефти,приобретал значимость и в качестве начального пункта для доставки своих природных богатств к Средиземному морю. Самый удобный путь к которому лежал через Сирию. Именно поэтому данное государство тоже всегда представляло интерес для мирового глобал-бомонда, что проявилось в 1930-х годах, когда Англия, получившая, благодаря договору 1930 г. с Багдадом, фактическую курацию над Ираком, пролоббировала строительство нефтепровода из страны к палестинской Хайфе, с его прохождением через Сирию.
Эпизод из середины прошлого века
Теперь ненадолго перенесемся 1950-е годы. Новейшей истории известно такое словосочетание, как "Сирийский кризис 1957 г.". Не будем затрагивать всю подоплеку тех осенних дней, а лишь сошлемся на заявление ТАСС, зафиксировавшего сосредоточение Турцией на границе со страной крупных вооруженных сил, как следствия разработанного турецким генштабом совместно с американскими военными советниками плана "проведения военных операций против" Сирии. Согласно официальному документу, на один полк возлагалась задача захвата Латакии, в то время как основные силы готовились "нанести удар на город Хомс", с последующим наступлением на Дамаск. Цель - расправа "с патриотическими силами Сирии" и насаждение угодной "для американцев власти". Заявление конкретизировало, что, в случае осуществления нападенияя, Советский Союз, "руководствуясь целями и принципами Устава ООН и интересами своей безопасности, примет все необходимые меры" к оказанию помощи "жертве агрессии". Тогда нападения на Сирию не последовало.
Возвращениe в дни сегодняшние. Почему Хомс?
Не забыли наименования городов, планировавшихся к захвату внешними силами в 1957 г.? Это Хомс и Латакия. Важнейший нюанс тут в том, что именно Хомс, ставший сегодня оплотом сирийской оппозиции, выделяется подчеркнутым нежеланием видеть во главе страны представителей алавитского клана. Можно ли данный момент назвать проявлением некой случайности, когда на поверхности высвечиваются злополучные нефте-газово-маршрутные страсти?
Расположение Хомса (древнее название Эмеса) на выгодном месте - на полпути из Дамаска и из Пальмиры к Средиземному морю - с ранних пор превратили его в значительный геополитический пункт. От Хомса рукой подать до Банияса, недалеко от которого крупнейший сирийский порт в Средиземном мору - Латакия, да и второй по величине порт Тартус - в зоне видимости.
Так что совсем не вдруг в период правления Саддама Хусейна функционировал нефтепровод Киркук-Хомс-Банияс-Триполи (подразумевается второй по величине город Ливана), выведенный из строя войсками НАТО во время агрессии против Ирака в 2003 г.
Кроме того, значительная роль отводится Хомсу в ракурсе Панарабского газопровода, посредством которого египетский газ поступает на север, в Израиль, и на юг, к Акабскому заливу, а оттуда через Иорданию в Сирию. В 2009 г. была введена в строй первая очередь сирийской части этого газопровода от границы с Иорданией до Хомса, естественно, а через Банияс газ должен доставляться в Ливан.
Так вот, сегодня идет разговор о восстановлении маршрута Киркук-Триполи, параллельно активизации темы "трубо-связки" иракских северных нефтяных месторождений с Мосулом, в качестве важнейшего шага к восстановлению простаивающего несколько десятилетий трубопровода, ведущего в Хайфу (через, как было отмечено выше, тот же Хомс). В условиях планируемого бойкота иранской нефти, Запад скорейшими темпами должен примериваться к иным маршрутам, но для него вполне очевидно несогласие нынешнего сирийского режима пропуска нефти до Израиля. Да и вряд ли Б.Асад предпримет шаги вразрез позиции Тегерана. Отсюда - актуальность для западных стран "освобождения" его "от занимаемой должности" и принятие шагов по смене политических ориентиров Сирии. Потому Хомс и нужно заблаговременно "передать" т.н. "повстанцам".
Данная ситуация один к одному напоминает недавно наблюдаемое в Ливии, где смертоносные бои правительственные войска вели с оппозицией в районе Рас-Лануфа, после Бреги оказавшимся в руках аналогичных сирийским "повстанческих народных дружин". По той простой причине, что оба города - главные нефтеэкспортные ливийские порты, а Рас-Лануф, к тому же, является центром нефтехимической промышленности, а котором находятся крупнейший в мире плавучий резервуар пресной воды и функционируют два аэродрома.
Нужны ли тут дополнительные комментарии, тем более на фоне прошедшей в сентябре 2011 г. информации о прекращении Иракским Курдистаном в сентябре нефтеэкспорта, вследствие недовольства разработанного в Багдаде нового механизма распределения прибыли от "черно-голубого золота" между автономным регионом и центром? Тогда ряд экспертов не исключили вероятности экспорта Курдистаном нефти в обход федеральных властей. В частности, со ссылкой на неофициальные данные сообщалось о наличии в регионе огромного количества "неучтенной, но добытой нефти", закачиваемой в трубопровод из Мосула в Банияс. Но при этом сразу возник вопрос: «кто будет ее покупать, если ЕС и США в том же сентябре ввели эмбарго на поставки сирийской нефти, за которую могло бы выдаваться то, что потечет по трубопроводу Масул-Банияс»?.
"Федерализация" Сирии. В кавычках или без?
В свете вышеизложенного, вряд ли случайным можно назвать появившиеся осенью 2011 г. декларации о необходимости провозглашения независимости северными провинциями Ирака. Очевидно, что «парад суверенитетов» - это шаг на пути к федерализации (остановимся пока на этом термине) Ирака.
Аналогичный стиль развития постепенно становится возможным и для Сирии. А первым шагом к этому станет взятие оппозицией важнейшего со всех сторон Хомса.
Другое дело, что в плане разделения Сирии на независимые автономии высвечивается довольно интересный расклад, где между строк просматриваются интересы Турции. Тонкость здесь - в укрепление позиций Анкары в качестве регионального лидера при федерализации Сирии. В случае такого развития событий не исключено столкновение интересов новых автономий друг с другом, на фоне чего Турция может доставлять до заинтересованных сторон иракскую нефть не только благодаря "трубе" Киркук - Джейхан, но и стать "маршрутизатором" другой нефти, могущей не найти себе выхода до периода стабилизации обстановки в Сирии (а ведь есть еще иракский газ...).
Конечно, внешние силы вряд ли будет устраивать факт усиления позиций Турции, но как промежуточный этап – почему бы и нет? На а в случае успеха повстанцев в Сирии можно будет вплотную приступить и к вопросу доставки иракских природных богатств через нее в Израиль и далее в ЕС.
И осуществлять эту комбинацию значительно сподручнее не прямым вмешательством, а посредством внутримусульманских "разборок". Отсюда - подготовка суннитской ЛАГ антисирийской резолюции или отзыв всеми членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) своих послов из Сирии, что происходит в унисон аналогичным шагам правительств крупнейших западных стран.
Так реально ли в этих условиях утверждать о столкновении цивилизаций и отсутствии мультикультурализма? Или последнее понятие может вновь стать популярным в зависимости от поддержки всеми и вся круглогодичного "арабского межсезонья"? Впрочем, это так, к слову...
Теймур Атаев (Азербайджан), политолог
Посол Украины в Иране Александр Самарский в ходе встречи с губернатором провинции Западный Азербайджан Вахидом Джалал-заде отметил большой торгово-экономический потенциал провинции Западный Азербайджан и высказался за расширение отношений этой провинции с Украиной, сообщает агентство «ИРИБ ньюз».
По словам украинского дипломата, названная провинция располагает самыми широкими возможностями в разных областях, и это позволяет расширять торгово-экономические отношения между двумя сторонами и обмениваться инженерно-техническими услугами.
Провинция Западный Азербайджан могла бы расширить экспорт своей продукции в Украину, и этому будут способствовать тесные связи предпринимателей провинции с украинскими коллегами.
Вахид Джалал-заде в свою очередь отметил, что провинция Западный Азербайджан готова сотрудничать с Украиной в таких областях, как сельское хозяйство и промышленность, и обладает большим потенциалом в области инженерно-технических услуг и туризма.
Вахид Джалал-заде подчеркнул, что провинция Западный Азербайджан граничит с четырьмя странами и это представляет собой большое преимущество с точки зрения развития торговли. Одним из важных торгово-экономических партнеров провинции в кавказском регионе является Азербайджан, и это позволяет укреплять связи с другими странами региона.
По словам губернатора, в провинции Западный Азербайджан построены цементный завод и металлургические предприятия, создано нефтехимическое и металлообрабатывающее производство, и Украина может с успехом использовать уникальный опыт провинции в разных областях. Это требует широкого присутствия украинских предпринимателей в провинции Западный Азербайджан и иранских в Украине.
Посол Украины в Иране вчера, 14 февраля, прибыл в Урмие для ознакомления с потенциалом провинции Западный Азербайджан в области экономики, торговли, промышленности и сельского хозяйства.
Государственная нефтяная компания Азербайджанской республики (ГНКАР) осуществляет необходимые работы в направлении реализации проекта строительства нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса под Баку, говорится в сообщении компании, распространенном в среду.
Согласно сообщению, стоимость проекта оценивается в 15 миллиардов долларов, сдача комплекса в эксплуатацию ожидается в 2020 году.
"По предварительным оценкам, проект считается экономически выгодным, предполагается, что инвестиции в него окупятся через пять-семь лет", - сказано в сообщении.
На комплексе предполагается перерабатывать 10 миллионов тонн нефти и 10 миллиардов кубометров газа, производить два миллиона тонн полимеров ежегодно.
В системе ГНКАР действуют два НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод (БНЗ) имени Гейдара Алиева и "Азернефтяг" ("Азернефтьмасло") суммарной мощностью переработки нефти в 22 миллиона тонн в год.
В 2010 году (данные за 2011 год пока не обнародованы) они переработали около 6,221 миллиона тонн сырой нефти.
Ранее местные СМИ заявляли о планах сноса этих НПЗ, находящихся в черте города, - передает www.newsazerbaijan.ru.
Послу Азербайджана в Иране в понедельник была вручена нота протеста с требованием "прекратить антииранскую деятельность израильских спецслужб на азербайджанской территории".
МИД Ирана заявляет о том, что террористы, причастные к убийству иранских ученых, свободно перемещались по территории Азербайджана при содействии израильской разведки "Моссад". Помимо этого, Иран упрекнул Баку в "систематической антииранской пропаганде в СМИ", блокировании трассы Астара-Баку для иранских большегрузных автомобилей и призвал "прекратить недружественное поведение".
Разумеется, официальный Баку тут же выступил с опровержением, а пресс-секретарь азербайджанского МИДа позволил себе подпустить эмоций, заявив о том, что «информация, которая содержится в ноте иранской стороны, не соответствует действительности – это своего рода клевета. Азербайджан – страна, которая сама страдает от террора». Но насколько иранская сторона в своем заявлении погрешила против истины?
У современных журналистов и экспертов-международников сложился весьма «политкорректный» подход к оценкам тех или иных политических процессов, в которых завязан Израиль или политическая элита постсоветских государств. Суть его в том, чтобы топить очевидное в потоке пустых или псевдонаучных фраз. Но давайте называть вещи своими именами, не прячась за словесные кружева. Две тенденции сегодня параллельно развиваются по нарастающей в политическом поле Азербайджана – враждебность к Тегерану, современному режиму Исламской республики, и рост зависимости силовых структур Азербайджана от спецслужб Израиля. Если анализировать происходящее в ирано-азербайджанских отношениях с учетом двух этих тенденций – то получается весьма интересная картина.
С упорством, достойным лучшего применения, в Азербайджане тиражируются мнения вроде полуофициального заявления сотрудника Центра стратегических исследований при президенте Азербайджана Гейдара Мирзы: «И если основатель нынешнего режима в Исламской Республике Иран возвратился из изгнания на самолете «Эйр Франс», то следующий вполне может сойти с трапа самолета «Азербайджан хава йоллари». «Мало ли что может сказать эксперт», -возразите вы, – «они в России и не такие словесные кунштюки выделывают». Но вот попавшие в медиа подробности беседы президента Ильхама Алиева с главой МИД Израиля Ципи Ливни: «в беседе Ильхам Алиев жаловался, что находится под постоянным давлением Тегерана, сравнивал Иран с «загнанным в угол диким зверем» и требовал «усилить давление на Иран»…
«Где Израиль, а где Азербайджан? Какая здесь может быть связь?», - возразят мне. Но так может сказать только человек, не осведомленный о том, что реальный объем военно-технического сотрудничества между этими двумя странами уже превысил миллиард долларов и почти в 80 раз превышает объем военно-технического сотрудничества Азербайджана и США. Место Израиля во внешней торговле Азербайджана с 2002 по 2010 год не опускается ниже 2-3 строчки.
Так может сказать человек, который не знает о том, что спецслужбы современного Азербайджана создавались при помощи спецслужб Израиля. И естественно, что при создании израильские советники столбили возможность оперативных действий против Исламской республики Иран с территории Азербайджана.
«Секретом Полишинеля» является наличие двух станций радиоразведки США, одна из которых работает против РФ, другая – против Ирана. Но гораздо меньшему количеству людей известно о деятельности в резидентуры МОССАД. В последнее время поступает все больше сообщений об активизации работы израильтян на азербайджано-иранской границе, особенно в Ленкоранском, Лерикском и Астаринском районах. Сегодня в Азербайджане, на азербайджано-иранской границе, при полном одобрении азербайджанского руководства, разворачивается одна из самых крупных резидентур МОССАДа на постсоветском пространстве. И этот курс на стратегическое партнерство с Израилем с полным одобрением воспринимается частью современной азербайджанской политической элиты.
Ради такого выигрыша Израиль открыл Азербайджану практически неограниченный доступ к новому уровню вооружений. «Благодаря тесным связям с Израилем, Азербайджан получает доступ к новому уровню вооружений для развития собственной армии. Подобной техники он не может получить ни из США или Европы из-за различных юридических ограничений, ни от экс-советских поставщиков из Белоруссии и Украины. Там где остальные страны Запада опасаются продавать наземные боевые системы Азербайджану из страха вызвать новую вспышку войны за обладание оккупированными землями Нагорного Карабаха, Израиль свободен совершать сделки по существенным поставкам оружия и получать выгоду от богатого клиента» - отмечают западные эксперты.
Для закрепления «сердечного согласия» с Азербайджаном, Израиль активно использует свои возможности в США: «В 1992 году под давлением армянского лобби в Вашингтоне, была принята 907-я поправка, согласно которой правительство США отказывалось предоставлять Азербайджану какую-либо помощь до урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В то же время американская помощь Армении в 90-е годы составила свыше $1 млрд. Развитие отношений с Израилем стало причиной того, что произраильское лобби в 2002 году, в период администрации Буша добилось отмены этой поправки. В том же 2002 году Госдепартамент США отменил запрет на поставку оружия в Азербайджан, действовавший с 1993 года, а правительство США выделило Азербайджану грант в размере $4,4 млн на закупку военного снаряжения», - сообщают сотрудники сотрудник израильского центра стратегических исследований Бегина-Садата (BESA).
Но главное и наиболее благодатное поле деятельности МОССАДа – сепаратисты из Иранского Азербайджана, особенно из созданного в 1995 году профессором-азербайджанцем Махмудали Чохраганлы «Движения национального пробуждения Южного Азербайджана» (GAMOH/GAMIC), официально запрещенного в Исламской республике, продолжающего свою деятельность в подполье и имеющего тесные связи с официальным Азербайджаном. Именно сепаратистов Иранского Азербайджана имел в виду в своем выступлении депутат Милли меджлиса Азербайджана Фазиль Мустафа, который недавно посетовал на «ущемления прав миллионов азербайджанцев» в Иране, назвав режим в Иране «кровавым», а политику официального Азербайджана в отношении Исламской республики – излишне мягкой: «пришло время менять нашу политику по отношению к этой стране. У Азербайджана достаточно рычагов, чтобы повлиять на ситуацию в Иране…». То, что это позиция не отдельного человека, а азербайджанского истеблишмента, подтверждает и обращение Единого Народного фронта Азербайджана «к азербайджанцам и другим народам Ирана», в котором, в частности, говорится: «правители Ирана, рядясь в тогу ислама, на деле проводят политику, служащую силам тьмы». Зная жесткую внутреннюю цензуру Азербайджана, нет сомнения в том, что политики озвучивали официальную позицию Баку.
Итогом стал рост антииранских настроений и в азербайджанском обществе. По результатам опроса, проводившегося в 2004 году, лишь 22% опрошенных высказались положительно об Иране. Отрицательно – 33%, 37% – нейтральны, остальные затруднились с ответом. Сегодня эти цифры изменились в еще более худшую для Ирана сторону.
Подобная позиция ущербна тем, что создает прекрасные условия для манипуляций элитой со стороны третьих, внерегиональных сил. А где заканчивается политическая манипуляция извне и начинается работа спецслужб – столь тонкий и деликатный вопрос, что в России, например, на него отвечают заклинанием «высурковскаяпропаганда»…
В тесном израильско-азербайджанском сотрудничестве, непонятном лишь на первый взгляд, нет ничего нового для израильской дипломатии. В 50-70-е годы вся внешняя политика Израиля строилась на системе стратегических союзов со странами, имевшими сложные отношения с тогдашним основным противником – арабским миром. Изменение геополитической ситуации диктует необходимость новых союзов, вызванных новыми для Израиля угрозами.
Партнерство с Азербайджаном возрождает эту славную традицию, и, несомненно, имеет большое будущее. Ведь в его основе лежит самый прочный фундамент – наличие общего врага, на роль которого назначен Иран. А само это партнерство включает и ВТС, и заединство спецслужб в работе против Ирана, и много чего еще интересного. Исключительно точно охарактеризовал его президент Ильхам Алиев: «израильско-азербайджанские отношения – это айсберг, который на девять десятых скрыт от посторонних глаз». Редкий случай исчерпывающей откровенности политика такого ранга…
Игорь Панкратенко
В то время как Запад, в первую очередь США и Евросоюз, усиливают санкции в отношении Ирана, последние статистические данные свидетельствуют о том, что Иран в настоящее время успешно торгует автомобилями и запасными частями к ним с 60-ю странами, сообщает агентство ИСНА.
По данным, опубликованным министерством промышленности, рудников и торговли, за 10 месяцев текущего 1390 года (21.03.11-20.01.12) в Иране в общей сложности выпущено 1 млн. 381 тыс. 812 автомобилей разных марок, что на 3,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом, как свидетельствует статистические данные Таможенной администрации, в указанный период Иран обменивался автомобильными запасными частями и легковыми автомобилями в сборе более чем с 50-ю странами.
В настоящее время к числу крупнейших партнеров Ирана в области автомобилестроения, в том числе импортирующих иранские запасные части и легковые автомобили, относятся Южная Корея, Франция, Швеция, ОАЭ, Китай, Япония, Германия, Италия, Турция и Румыния.
Кроме того, Иран ведет автомобильную торговлю с такими странами, как Испания, Англия, Бразилия, Бельгия, Швейцария, Сербия, Финляндия, Голландия, Индия, Кувейт, Грузия, Украина, Малайзия, Польша, Тайвань, Таиланд, Оман, Вьетнам, Казахстан, Португалия, Иордания, Бахрейн, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Венгрия, Таджикистан, Россия, Ирландия, Канада, США, Словакия, Австралия, Болгария, Индонезия, Аргентина, Словения, Ливан, Австрия и Босния и Герцеговина.
В текущем году Иран экспортировал запасные части и легковые автомобили в сборе в Сирию, Ирак, Афганистан, Египет, Сингапур, Того, Замбию, Азербайджан, Литву, Туркменистан, Нигерию, Армению, Судан и Венесуэлу.
Экспортные поставки всей иранской промышленной продукции осуществляются в 159 стран, и основная часть этих поставок приходится на такие страны, как Ирак, Китай, ОАЭ, Индию и Южную Корею. Иранские товары и инженерно-технические услуги пользуются спросом во многих странах мира.
Министерство промышленности, рудников и торговли отдает предпочтение экспортным поставкам промышленной продукции на рынки стран Ближнего Востока, Латинской Америки, Центральной Азии, Кавказа и Африки.
Управление геофизической разведки Госнефтекомапании Азербайджана (SOCAR) и компания Azimut Energy Servises AO (Казахстан) приступили к проведению сейсморазведки 3D на контрактной площади «Падар».
Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение SOCAR, работы проводятся по заказу Kura Valley Operating Company.
Работы охватят площадь в 220 кв. км. Планируется, что сейсморазведка завершится в апреле этого года. К настоящему времени выполнено 25% предусмотренных работ.
После завершения работ будут подготовлены трехмерные геологические и геофизические трехмерные модели.
Отметим, что Управление геофизической разведки стало победителем соответствующего тендера, объявленного Kura Valley Operating Company в августе прошлого года.
Госнефтекомпания Азербайджан заинтересована в приобретении части акций газораспределительной сети города Стамбул - 0GDA^, сказал журналистам глава ГНКАР Ровнаг Абдуллаев, сообщает во вторник газета Zaman.
По словам Абдуллаева, компания ГНКАР заинтересована в приобретении турецкой газораспределительной сети, а также в участии в распределении топлива в Турции.
«ГНКАР уже получила предложения по этому поводу. В настоящее время рассматриваются возможные варианты участия в этом проекте», - сказал Абдуллаев.
Госнефтекомпания имеет на своем балансе два нефтеперерабатывающих завода и является единственным в стране производителем нефтепродуктов.
Помимо этого, компания владеет автозаправочными станциями в Азербайджане, Грузии, Украине, Румынии, а также является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim.
В минувшем году Госнефтекомпания приобрела сеть АЗС в Швейцарии, - передает www.newsazerbaijan.ru.
Первая бюджетная авиакомпания из Дубая, flydubai, окончательно закрепила за собой статус самой быстроразвивающейся новой авиакомпании мира, расширив географию своих полётов до 50 направлений менее чем за три года.
Первый рейс flydubai в Кыргызстан приземлился утром 8 февраля в Международном аэропорту Бишкека. Таким образом, число стран на карте маршрутов компании выросло до 28. Самолёты flydubai выполняют полёты в страны Персидского Залива, Ближнего Востока, Северной Африки, полуострова Индостан и Азии, а также Центральной и Восточной Европы.
В церемонии открытия нового рейса приняли участие официальные лица ОАЭ и Кыргызстана, в том числе заместитель министра экономики ОАЭ Халид Аль Гейт (Khalid Al Ghaith) и глава Департамента международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Узар Кемелов (Uzar Kamelov), и коммерческий директор flydubai Хамад Обайдалла (Hamad Obaidalla). Открытие нового рейса между Дубаем и Бишкеком - это важное событие не только в жизни авиакомпании, но и в истории взаимоотношений между ОАЭ и Кыргызстаном. flydubai стала первой авиакомпанией из ОАЭ, выполняющей регулярные рейсы в эту центральноазиатскую страну.
Заместитель министра экономики ОАЭ Халид Аль Гейт сказал: "От имени правительства ОАЭ я хотел бы поздравить авиакомпанию flydubai и власти Кыргызстана с открытием прямого воздушного сообщения между нашими странами. Новый рейс позволит укрепить отношения между народами двух стран и повысит доступность ОАЭ. Я надеюсь, что этот новый рейс будет одинаково востребован жителям обеих стран, способствуя установлению близких связей на долгие годы вперёд".
Приветствуя выполнение первого рейса, Хамад Обайдалла, коммерческий директор flydubai, отметил: "Сегодня очень важный день в истории flydubai. Наша авиакомпания начала выполнять полёты в Кыргызстан, столица которого Бишкек стала 50-м городом на карте маршрутов flydubai. Я бы хотел поблагодарить власти страны за их помощь в организации этого рейса, который, я уверен, будет востребован пассажирами из всех регионов, куда выполняет полёты наша авиакомпания".
Появление 50-го направления на карте маршрутов это ещё одно важное событие в короткой истории flydubai, вслед за вводом в строй в декабре 2011 года самолёта Boeing 737 с порядковым номером 7000.
Президент flydubai Гейт Аль Гейт (Ghaith Al Ghailth) сказал, что он гордится расширением сети маршрутов авиакомпании до 50 направлений менее чем за три года. Сегодняшнее открытие нового рейса подтверждает стремление компании обслуживать регионы, испытывающие недостаток прямого воздушного сообщения с ОАЭ.
"Сегодняшний рейс является важным событием в динамичной истории flydubai. Начиная выполнять первые полёты в июне 2009 года, мы установили для себя цель развиваться максимально быстрыми темпами, вводя в строй новые самолёты и открывая новые маршруты. Подобная стратегия позволяет привлекать постоянно растущее количество пассажиров, обеспечивая доходность и долгосрочную устойчивость нашей бизнес-модели. Избранная нами стратегия подтверждает свою верность. На сегодняшний день наш флот состоит из 21 самолёта, а карта маршрутов охватывает 28 стран Персидского Залива, Ближнего Востока, Северной Африки, полуострова Индостан и Азии, а также Центральной и Восточной Европы, что позволяет нам быть самой быстрорастущей новой авиакомпанией в истории".
Авиакомпания flydubai с самого начала установила высокие темпы развития сети маршрутов. Свой первый рейс компания выполнила 1 июня 2009 года, доставив 189 пассажиров в Бейрут. С тех пор flydubai делает всё возможное, чтобы сделать путешествия чуть менее сложными, нервными и дорогими. Видение развития авиакомпании, впервые озвученное правительством Дубая в марте 2008 года, состоит в том, чтобы предлагать недорогую альтернативу на популярных маршрутах, таких как Дубай - Бейрут, а также открывать новые рейсы по направлениям, испытывающим недостаток прямого воздушного сообщения с ОАЭ, таким, как столица Грузии Тбилиси.
Авиакомпания flydubai создала одну из самых развитых сетей на Ближнем Востоке и задала новый тренд, ориентируясь на направления, где ранее не было развито международное авиасообщение. Так, можно отметить открытие первых международных рейсов в города Саудовской Аравии Аба, Гасим и Янбу. Кроме того, flydubai первой открыла прямое воздушное сообщение между Дубаем и Самарой, а сегодня начала осуществлять полёты в столицу Кыргызстана Бишкек. flydubai стала первой бюджетной авиакомпанией, выполняющей рейсы в такие города, как Аддис-Абеба в Эфиопии, Ереван в Армении и Баку в Азербайджане.
Авиакомпания flydubai осуществила значительные инвестиции в различные системы, процедуры и программы подготовки персонала, которые позволяют поддерживать быстрый рост компании, сохраняя неизменно высокий уровень сервиса. "Будучи составной частью коммерческой и туристической инфраструктуры страны, мы не только олицетворяем амбиции и динамику Дубая, но и обеспечиваем соответствующий уровень качества. Именно этих принципов мы придерживались, соединяя бюджетную бизнес-модель и инновационный подход к обслуживанию пассажиров. Наш успех доказал, что грамотные инвестиции, эффективная операционная деятельность и подбор правильной команды позволяют бюджетным авиаперевозкам быть удобными, комфортабельными и выгодными", - добавил Гейт Аль Гейт.
Работая в регионе, где доминируют традиционные авиакомпании, flydubai закрепила за собой статус успешного бюджетного перевозчика, который не экономит на качестве. Рейсы flydubai настолько востребованы, что авиакомпания быстро стала вторым крупнейшим перевозчиком Международного аэропорта Дубая.
Динамичное развитие сети маршрутов flydubai стало возможно благодаря быстрорастущему флоту авиакомпании, который на сегодняшний день насчитывает 21 самолёт Boeing 737-800 NG, большинство которых оснащено такими революционными системами, как Boeing Sky Interior и ‘Fiber-To-The-Screen®' (‘FTTS®') от компании Lumexis. Учитывая свою растущую роль на региональном рынке авиаперевозок, компания стремится максимально снизить негативное воздействие на окружающую среду за счёт установки на самолёты винглетов, карбоновых тормозов и системы Zonal DryingTM, которые одновременно повышают эксплуатационную эффективность самолётов и снижают их вес, сокращая расход топлива.
Среди иных важных факторов успеха авиакомпании стоит отметить высокую регулярность и безопасность полётов. "Безопасность и комфорт наших пассажиров и экипажа являются для нас основным приоритетом. Демонстрируя высокие показатели регулярности полётов (85%), мы побуждаем людей чаще путешествовать по более широкому спектру маршрутов. Наши пассажиры всегда могут положиться на flydubai независимо от целей своей поездки", - добавил Аль Гейт.
Динамичные темпы роста flydubai и передовой подход к ведению бизнеса не остались незамеченными. Авиакомпания была удостоена множества наград, среди которых титул "Бюджетная авиакомпания года" по версиям Business Traveller Middle East Awards и Aviation Business Awards 2011.
"С момента выполнения первого рейса в Бейрут в 2009 году нами пройден долгий путь, но мы не собираемся почивать на лаврах. Мы продолжим развивать сеть маршрутов, флот и спектр предоставляемых услуг, внедряя самые современные системы и поддерживая траекторию роста, на которую смогут равняться другие авиакомпании региона", - сказал в заключение Аль Гейт.
Информация о рейсе
С 7 февраля рейсы в Бишкек будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и пятницам. Рейс FZ771 будет вылетать из Терминала 2 Дубая в 22:55 и прибывать в Международный аэропорт Бишкека в 05:00 по местному времени. Обратный рейс FZ772 будет осуществляться по средам и субботам с вылетом из Бишкека в 06:20 и прилетом в Дубай в 08:45.
В стоимость билета включена перевозка 20 килограммов багажа, одной единицы ручной клади весом до 7 килограмм и одной небольшой сумки или ноутбука в чехле. Доплата за место с дополнительным пространством для ног составляет 28 долл.США.
В мире появился новый претендент на звание «самого высокого здания». На этот раз "вырастет" оно не в ОАЭ и даже не в Саудовской Аравии, которые славятся своим неравнодушием к небоскребам…
189-этажная башня расположится в столице Азербайджана, Баку. Правда, лишь в 2019 году, если строительству ничто не помешает.
Как сообщает портал IBtimes.com, разработчики планируют начать возведение башни в 2015 году: до этого времени необходимо будет создать искусственный архипелаг Khazar Islands, который состоит из 41 участка земли.
Помимо башни на Khazar Islands появятся школы, торговые площади и даже автодром Формулы 1.
Если небоскреб все же будет достроен, по своей высоте он перегонит не только Burj Khalifa в Дубае, но и Kingdom Tower в Саудовской Аравии. Последняя, кстати, уже появится к 2016 году.
В документе "Индекс результатов экологической деятельности" ("Environmental Performance Index"), который был подготовлен Йельским и Колумбийским университетами США, Азербайджан находится на втором месте в мире за деятельность последних десяти лет в сфере охраны окружающей среды, сообщает Trend со ссылкой на министерстве экологии и природных ресурсов республики.
В документе была проведена оценка 132 стран по двум направлениям: экологическая ситуация в стране и результаты деятельности за последние десять лет, связанной с охраной окружающей среды.
В соответствии с документом, Азербайджан находится на первом месте в сфере уменьшения болезней, связанных с окружающей средой.
"Почву для этого создали работы, которые были проведены по устранению экологических проблем, негативно действующих на здоровье человека. Так, к таким результатам привели изменения в сфере управления опасными отходами, в том числе полное обезвреживание на современном полигоне опасных токсичных отходов около 300 тысяч тонн отходов, содержащих ртуть, обеспечение населения питьевой водой, в том числе обеспечение около 340 тысяч человек в регионах питьевой водой, отвечающей требованиям Всемирной организации здравоохранения, продвижения в управлении твердыми бытовыми отходами и сточными водами, реабилитация загрязненных нефтью участков и другая деятельность", - сказали в министерстве.
Также Азербайджан в оценке, связанной с лесами, по всем трем компонентам - ситуация с лесными ресурсами, изменение лесного покрова и лесные потери, по индексу ситуации окружающей среды и по показателям экологического развития показал самый высокий результат и занял первое место среди 132 государств.
В этой оценке было учтено увеличение от 11,4% до 11,8% общей территории лесных угодий республики, запрет на промышленные отходы, усиление мер по охране лесов, в том числе пресечение незаконной вырубки лесов, газификация регионов, уменьшение из года в год случаев вырубок благодаря пропаганде, проводимой СМИ и НПО совместно с общественностью.
Согласно проведенной оценке, Азербайджан также занял первое место за деятельность последних лет по пункту "климатические изменения" и 67-е место по нынешней ситуации. Несмотря на то, что Азербайджан является стороной, не взявшей на себя количественные обязательства по уменьшению выбросов газов, создающих парниковый эффект, что предусмотрено рамочной Конвенцией ООН по изменению климата, за счет конкретных мер по уменьшению выбросов они с 70 млн в базовом 1990 году снизились до 48 млн тонн, несмотря на интенсивное развитие экономики за последние годы, отмечается в отчете.
В целом с начала Киотского процесса Азербайджан добился снижения примерно до 500 млн тонн выбросов газов, создающих парниковый эффект.
Также в "Международном экологическом индексе" Азербайджан занимает 45-е место по охране основных населенных пунктов, развитию в последние десять лет биоразнообразия, которое оценивается на основании индикаторов охраняемых морских территорий, и охране биомов и 100-е место по фактическому положению. Это развитие было связано с мерами, проведенными по созданию сети особо охраняемых природных территорий (общая площадь особо охраняемых территорий увеличилась с 478 тысяч гектаров в 2003 году до 882 тысяч гектаров, что составляет 10,2% общей территории страны, в том числе впервые с 2003 года было начато создание существующих сегодня восьми национальных парков, общая площадь которых составляет 3,6 процента территории республики), размножением редких биологических видов, реинтродукцией их в места, в которых они исторически проживали (только в 2011 году в свои ареалы были переселены до 100 джейранов), достижением естественного прироста редких видов, находящихся под угрозой исчезновения (в результате планируется исключить из Красной книги ряд видов) за счет ужесточения мер охраны.
В "Индексе результатов экологической деятельности" ситуация в окружающей среде и экологической обстановке была оценена на основании 22 индикаторов по десяти сферам.
Экспорт сырой нефти из Азербайджана в 2011 году, согласно показателям счетчиков, упал на 12,2% по сравнению с 2010 годом, нефтепродуктов - на 11,7%, следует из сообщения, распространенного государственным таможенным комитетом страны в пятницу.
Согласно данным ведомства, за прошлый год, по показателям счетчиков, из Азербайджана было экспортировано более 37,45 миллиона тонн сырой нефти.
Свыше 30,658 миллиона тонн из этого объема было прокачано по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, около 3,813 миллиона тонн - по нефтепроводу Баку-Супса (Грузия), свыше 1,996 миллиона тонн - по нефтепроводу Баку-Новороссийск, более 982,8 тысячи тонн перевезено по железной дороге до грузинских портов на Черном море.
Объем экспорта нефтепродуктов за этот же период составил около 1,985 миллиона тонн, - передает www.newsazerbaijan.ru.
Литва и Польша согласовали строительство газопровода-интерконнектора между двумя странами протяженностью 562 км, который позволит Литве получать альтернативный газ со стороны Евросоюза в обход России.Об этом говорится в комментарии, который порталу "Нефть России" прислал эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук.
Пока Украина думает над тем, что отдать России и получить за это низкую цену на газ, Литва оперативно договорилась с Польшей о строительстве газопровода-интерконнектора GIPL – Gas Interconnection Poland–Lithuania. Трубопровод даст возможность Литве с 2018 года избавиться от монополии «Газпрома» и получать 2,3 млрд. куб. м газа через Польшу – это 70% потребностей Литвы.
Решение Литвы об участии в этом проекте уже заставило российский «Газпром» в 2012 году предоставить Литве 15% скидку на газ, а также снизить цену для крупного химического предприятия Литвы Achema.
После оформления польско-литовских договоренностей Украина наверняка потеряла возможность реализовать с Польшей подобный проект строительства газопровода-интерконнектора. При этом еще в начале 2000-х гг. Украина и Польша обсуждали возможность строительства такого трубопровода. Недавно озвученная идея создания газопровода-интерконнектора для поставок газа в Украину со стороны Румынии и Болгарии будет осложнена необходимостью по этому же газопроводу параллельно поставлять российский газ в ЕС.
Польско-литовский газопровод GIPL будет работать в тесной связке с польским LNG-терминалом в Свиноуйсьце (Zwinouj[cie). К 2014 г. Польща закончит строительство LNG-терминала и с 2018 г. будет поставлять с терминала газ в Литву.
Даже не приходится сомневаться, что Польша и Литва получат как политическую поддержку Еврокомиссии, так и деньги для реализации проекта. Во-первых, газопровод небольшой – 562 км. Во-вторых, Польша является уже проверенным партнером Еврокомиссии и получила для LNG-терминала в Свиноуйсьце 342 млн. долл. от Евросоюза, а также 300 млн. долл. – от ЕБРР, Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и консорциума частных банков. Остальные 350 млн. долл. – это средства государства. Для Украины же оказалось огромной проблемой получить 308 млн. долл. от ЕБРР и ЕИБ для начала ремонтных работ своей ГТС.
Литва уже дважды обошла Украину в вопросе решения проблемы зависимости от российского газа. Еще в прошлом году Литва быстро сориентировались в современных условиях LNG-рынка и отказалась от планов строить дорогой и долгосрочный LNG-терминал. Вместо LNG-терминала, для ускорения процесса диверсификации, было принято решение соорудить «плавучий терминал». И с этой целью Литва уже заказала постройку в Южной Корее более дешевого «танкера-завода».
Украина, как известно пока что еще продолжает имитировать постройку LNG-терминала после того как Азербайджан фактически отказал в поставках газа. Не исключено, что Литва с Польшей и здесь опередят Украину, так как Азербайджан проводил переговоры о поставках сжиженного газа и с Литвой, и с Польшей. А теперь, когда Варшава и Вильнюс договорились о газопроводе, то для Азербайджана появляется гарантированный рынок сбыта.
Ирония состоит в том, что российский «Газпром» молча терпит все действия Литвы по диверсификации поставок газа. При этом «Газпром» является собственником 37% энергетической компании Литвы Lietuvos Dujos и косвенно также дает добро и поддерживает строительство газопровода GIPL.
Украина же пока одна за другой теряет возможности организовать независимые от России поставки альтернативного газа. Первой потерей стал январский провал на саммите в Давосе, когда президенту Януковичу не удалось подписать договор с Азербайджаном. Теперь вот вторая потеря – Польша создает с Литвой, а не с Украиной, альтернативный маршрут поставок газа.
Межгосударственное соглашение между Азербайджаном и Турцией по проекту строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP) может быть подписано в Баку в ближайшие сроки, заявил Глава Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев в интервью телеканалу ANS.
По его словам, подписание межгосударственного соглашения запланировано во время предстоящего визита в Баку премьер-министра Турции Реджеба Тайипа Эрдогана.
Абдуллаев не исключил, что TANAP может быть интегрирован в проект Nabucco, поскольку сейчас ведутся переговоры с акционерами данного проекта, добавив, что выбор одного из трех газопроводных проектов будет сделан в ближайшие сроки.
По мнению главы ГНКАР, проект строительства Транс-Анатолийского газопровода не станет препятствием для реализации других газопроводных проектов – TAP, ITGI, поскольку они начинаются с запада Турции и направлены на обеспечение газом Европу.
В свою очередь строительство данного газопровода позволит удовлетворить большие потребности запада Турции в газе.
Меморандум о взаимопонимании по строительству трубопровода данного газопровода был подписан 26 декабря 2011 года между Министерства энергетики и природных ресурсов Турции и Минпромэнерго Азербайджана.
Меморандум предусматривает создание консорциума компаний для строительства газопровода. В консорциум войдут Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR), турецкие BOTAS и TPAO.
Газопровод Trans Anadolu Pipeline будет предназначен для транспортировки азербайджанского газа от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.
Поставки российских систем противовоздушной обороны за рубеж в 2011 году выросли на 20% по сравнению с 2010 годом и превысили миллиард долларов, сообщил в понедельник РИА Новости директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.
Ранее глава Рособоронэкспорта Анатолий Исайкин сообщил, что по итогам 2011 года по линии его компании Россия продала оружия на 10,7 миллиарда долларов. Это стало очередным рекордом, объем экспорта российского оружия растет все последние годы. Но эта цифра не включает деньги, заработанные непосредственно российскими оборонными заводами, которые напрямую продают за рубеж запчасти к своей продукции. Итоговая цифра пока не озвучена, но, по мнению наблюдателей, она вряд ли превысит 12 миллиардов долларов. Рособоронэкспорт - единственный в стране спецэкспортер конечной продукции военного назначения.
"Идентифицированные поставки систем ПВО в 2011 году составили 1,08 миллиарда долларов (в 2010 году - 800 миллионов долларов). Самым значимым событием стала передача вооруженным силам Азербайджана двух дивизионов ЗРС С-300ПМУ2 "Фаворит" стоимостью 300 миллионов долларов", - сказал директор ЦАСТ.
Контракт на два дивизиона С-300 был подписан в 2009 году и был довольно быстро выполнен, поскольку, как считает эксперт, скорее всего, использовался задел от нереализованного контракта на эти комплексы с Ираном.
В 2011 году продолжилась реализация контракта с Сирией на поставку восьми дивизионов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2Э". По данным ЦАСТ, в 2010-2011 годах в эту страну было поставлено не менее четырех дивизионов ЗРК "Бук-М2Э". Кроме того, в 2011 году был завершен контракт с Сирией на поставку 36 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".
Белоруссия получила первую батарею (четыре боевых машины) новой зенитной ракетной системы (ЗРС) "Тор-М2Э". Контракт с Белоруссией предполагает поставку двух батарей ЗРС "Тор-М2Э" до конца 2012 года. Оценочная стоимость одной батареи составляет 100 миллионов долларов, однако, по оценке ЦАСТ, скорее всего, Белоруссии эти системы были проданы по "дружеской" цене.
По данным ЦАСТ, в 2011 году вооруженные силы Египта оценочно получили не менее одной батареи ЗРС "Тор-М1". Кроме того, в 2011 году модернизированные ЗРК "Печора-2М" поставлялись в Монголию и Венесуэлу.
По данным ЦАСТ, в 2011 году, по всей видимости, был завершен контракт с Казахстаном на поставку этой стране из наличия Российской армии 10 дивизионов ЗРС С-300ПС.

Начало испытаний в Китае собственного истребителя пятого поколения заставило российских разработчиков сосредоточить еще большее внимание на создании отечественного перспективного аналога, который носит название Т-50 (ПАК ФА). Остроту этой проблематике придает тот факт, что на вооружении ВВС США уже семь лет находится такой самолет - F-22 "Раптор". О том, как идет разработка комплекса пятого поколения специальному корреспонденту РИА Новости Руслану Гирфанову рассказал главнокомандующий ВВС России, генерал-полковник Александр Зелин.
- Насколько успешно идет испытание истребителя пятого поколения Т-50? Сколько самолетов участвует в испытаниях? Остается ли срок поступления в ВВС (серийные поставки) в 2015 году?
- На сегодняшний день испытания истребителя пятого поколения проходят в назначенные сроки в соответствии с принятыми решениями. По программе испытаний выполнено более 100 полетов. Все полученные на испытаниях характеристики в основном подтверждают требования, выдвигаемые к данному образцу.
В настоящее время на испытания предъявлено три объекта, в ближайшее время ожидается подключение к испытаниям еще трех объектов. Общее количество объектов, планируемое для проведения испытаний, - 14 единиц.
- В чем преимущества российского варианта истребителя пятого поколения Т-50 по сравнению с американским F-22 "Раптор" и китайским Chengdu J-20 "Черный орел"?
- Проведя анализ сравнительный анализ характеристик российского истребителя пятого поколения Т-50 с американским F-22 и китайским J-20, можно сделать вывод, что ПАК ФА превосходит зарубежные аналоги по таким показателям, как максимальная скорость полета (как форсажная, так и бесфорсажная), максимальная дальность полета, тяговооруженность, величина максимально реализуемой перегрузки.
Несмотря на свои сравнимые с зарубежными аналогами габаритно-массовые характеристики, Т-50 имеет существенно меньшую величину разбега и пробега. К тому же по характеристикам бортового оборудования ПАК ФА выглядит лучше, чем зарубежные аналоги.
Основные сравнительные характеристики Т-50, американского F-22 и китайского J-20
ПАК ФА F-22 J-20
Максимальная взлетная масса 35480 кг 38000 кг 36000 кг
Максимальная боевая нагрузка 10000 кг 10370 кг н/д
Тяговооруженность при нормальной взлетной массе 1,13 1,05 н/д
Максимальная скорость полета 2600 км/ч 2410 км/ч 2000 км/ч
Максимальная бесфорсажная скорость полета 2100 км/ч 1850 км/ч н/д
Дальность без ПТБ с боевой нагрузкой 2700 км 1900 км 2000 км
Максимальная дальность полета 5500 км 3400 км 5500 км
Практический потолок 20000 м 22000 м 20000 км
Потребная длина ВПП 350 м 915 м н/д
Максимальная дальность обнаружения ВЦ до 400 км до 210 км н/д
Количество выпущенных экземпляров 3 181 2
- Расскажите, как идет создание новой пилотажной группы на учебно-боевых самолетах Як-130?
- В последнее время в СМИ появилось много материалов о создании пилотажной группы на самолетах Як-130 вместо знаменитых "Витязей" и "Стрижей". Хочу успокоить наших читателей. Расформирования гордости российских ВВС не планируется.
Сегодня в ведущих авиационных державах мира имеются пилотажные группы, в основном, на легких самолетах, которые достаточно успешно выступают на мировых авиационных форумах. У нас же такой группы нет. Создание третьей пилотажной группы в этом сегменте на самолетах Як-130 стало бы успешным дополнением к получившим мировую известность "Стрижам" и "Витязям" и составило бы достойную конкуренцию таким группам, как "Патруль-де-Франс" (Франция) или "Рэд Эрроуз" (Великобритания).
Думаю, создание такой группы еще больше укрепит авторитет России как великой авиационной державы.
- Сколько самолетов радиолокационного обнаружения А-50У поступит в ВВС России и в какие сроки?
- Модернизация самолетов радиолокационной разведки проводится в соответствии с госпрограммой вооружений до 2020 года. В результате модернизации самолетов А-50 в вариант А-50У мы получим авиационный комплекс, оснащенный улучшенными средствами обнаружения и сопровождения воздушных, надводных целей, определения их координат, точного целеуказания и наведения самолетов на воздушные и надводные цели, управления авиацией в воздухе.
Кроме того, разрабатывается еще более совершенный межвидовой авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения (РЛДН) А-100, обеспечивающий ведение разведки, оповещение и управление войсками. Его поступление в войска ожидается к 2016 году.
- Расскажите, пожалуйста, о перспективах вступления на боевое дежурство третьего и четвертого полков зенитных ракетных комплексов С-400? Где они будут дислоцированы - под Москвой или в Калининграде?
- В текущем году ожидается поступление в войска нескольких комплектов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф". В отличие от прошлых лет, в текущем году данные системы поступят в воинские части, дислоцированные не в Подмосковье, а в приморских и приграничных районах. Заступление на боевое дежурство по противовоздушной обороне планируется в 2012 году после развертывания ЗРС в пунктах постоянной дислокации.
- Создана ли для зенитного ракетного комплекса С-400 дальняя ракета? Насколько нам известно, были проблемы с ее созданием. Есть ли проблемы с созданием системы С-500?"
- Зенитная ракетная система дальнего действия С-400 "Триумф" является усовершенствованным вариантом зенитной ракетной системы С-300. Она способна поражать все типы пилотируемых и беспилотных воздушных целей на дальности до 400 км, баллистические ракеты с дальностью пуска до 3500 км, а также гиперзвуковые и другие современные и перспективные средства воздушного нападения. Во взаимодействии с войсками воздушно-космической обороны эту ЗРС, так же как и С-300ПМУ2 "Фаворит", планируется использовать для борьбы с баллистическими целями и ведения нестратегической ПРО.
В рамках создания ЗРС С-400 разрабатывалась дальняя зенитная управляемая ракета с дальностью поражения более 250 км. В ходе ее создания пришлось решать ряд новых научно-технических задач, связанных с обеспечением стрельбы за радиогоризонт. В настоящее время завершаются государственные испытания данной ракеты, поступление первых серийных образцов ожидается в конце 2012 года.
ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" совместно с военно-воздушными силами проводит плановую работу по улучшению возможностей существующих зенитно-ракетных систем, в том числе при создании ЗРС С-500.
Что касается создания С-500, то работа над ним ведется согласно установленным срокам. При его создании конструкторы решают множество новых задач, которые, прежде всего, связаны поражением как существующих, так и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе в ближнем космосе.
- Почему наравне с закупками современных вертолетов Ми-28 Минобороны РФ возобновило закупки экспортной версии относительно старого вертолета Ми-24 (Ми-35)?
- Госпрограмма вооружений предусматривает закупки как вертолетов Ми-28Н, так и Ми-35М. Научно-технический задел, созданный в рамках опытно-конструкторских работ по вертолету Ми-28Н, был использован при создании вертолета Ми-35М. В частности, на Ми-35М установлены с Ми-28Н лопасти и втулка несущего винта, двигатели ВК 2500-02, укороченное крыло с системой подъема грузов, авиационная пусковая установка для применения противотанковых управляемых ракет. Комплексы вооружения вертолетов Ми-28Н и Ми-35М в части противотанковых управляемых ракет и системы неуправляемого ракетного вооружения одинаковы. Назначенный начальный ресурс и календарный срок службы планера вертолета Ми-35М, достигнутые к настоящему времени, существенно больше, чем у Ми-28Н.
При этом стоимость вертолета Ми-28Н и стоимость его жизненного цикла существенно больше аналогичных показателей Ми-35.
- Когда ожидается принятие на вооружение в ВВС ударного беспилотника (самолетного типа), контракт по которому Минобороны в 2011 году заключило с компаниями "Транзас" и "Сокол"?
- Согласно указаниям Генштаба Вооруженных сил РФ с 1 сентября 2011 года части и подразделения беспилотной авиации исключены из состава Военно-воздушных сил и переданы в Сухопутные войска. Поэтому генеральным заказчиком этого рода войск теперь являются Сухопутные войска.
Справка:
Зенитные ракетные системы
ЗРК "Триумф" (С-400 (первоначальное название С-300ПМ3)) - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс нового поколения. Предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения - самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, постановщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и прочих. Каждая ЗРС обеспечивает одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет.
Зенитную ракетную систему С-500 планируется принять на вооружение в 2015 году. В отличие от С-400, эта система может уничтожать цели не только в воздушном, но и космическом пространстве. Она должна стать одним из элементов российской Воздушно-космической обороны.
Самолеты
Як-130 разработан ОКБ имени Яковлева и предназначен для обучения и совершенствования навыков пилотов, летающих на Су-30, МиГ-29, F-16. Самолет оснащен двумя турбореактивными двигателями и способен нести до 3 тонн боевой нагрузки. Максимальная дальность полета Як-130 без дополнительных баков - 2 тысячи километров, максимальная скорость - тысяча километров в час.
Самолет радиолокационного обнаружения А-50У является модернизацией своего предшественника А-50. Была переработана электронная "начинка" самолета, была улучшена станция спутниковой связи, значительно повышены показатели безотказности ее работы. Также была модернизирована РЛС, которая может обнаруживать воздушные цели различных типов, в том числе вертолеты, крылатые ракеты, сверхзвуковые летательные аппараты.
ПАК ФА по сравнению с истребителями предыдущих поколений обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя. Максимальная скорость полета самолета - 2600 км/ч. Необходимая длина взлетно-посадочной полосы - всего 350 метров, против 915 метров у F-22. Дальность без подвесных топливных баков с боевой нагрузкой - 2700 километров , против 1900-2000 километров у китайского и американского истребителя. Максимальная дальность обнаружения воздушных целей - до 400 километров, что в два раза больше, чем у F-22. В России выпущено три экземпляра, китайских J-20 всего два, в то время как американских F-22 уже 181.
Вертолеты
Вертолеты Ми-35 являются модернизированной версией Ми-24, предназначенной для уничтожения бронетанковой техники противника, огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Машина может использоваться также для десанта и эвакуации раненых, перевозки грузов на внешней подвеске.
Вертолет Ми-28Н создан для поиска и уничтожения бронетехники и живой силы противника; уничтожения защищенных объектов и поражения площадных целей (линий окопов, оборонительных сооружений); постановки минных заграждений; поиска и уничтожения катеров и других малых плавсредств; борьбы со скоростными и низколетящими летательными аппаратами противника; уничтожения малоскоростных воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.
НАТО полностью поддерживает формат Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил в понедельник спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Джеймс Аппатурай на встрече с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.
Аппатурай прибыл в Ереван из Баку в рамках визита в регион.
Различные политические силы и общественные деятели Азербайджана ранее заявляли, что Франция после принятия законопроекта о наказании за отрицание геноцидов, в том числе геноцида армян в Османской Турции в 1915 году, потеряла моральное право на посредническую деятельность в составе Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху.
"Во время беседы министр представил делегации НАТО процесс урегулирования карабахского конфликта. В данном контексте Аппатурай подчеркнул, что НАТО полностью поддерживает формат МГ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Франция, наряду с Россией и США, является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, в рамках которой с 1992 года ведутся переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
Армения и Азербайджан конфликтуют из-за Нагорного Карабаха. Конфликт начался в феврале 1988 года, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Официальный Баку признал данный акт незаконным и упразднил существовавшую в советские годы автономию Карабаха.
Начавшийся вслед за этим вооруженный конфликт продлился до 12 мая 1994 года, когда вступило в силу соглашение о перемирии. В результате Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и - полностью или частично - семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются США, Россия и Франция. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как Карабах не является стороной переговоров.
Факт геноцида армянского народа признан многими государствами. В 1995 году Государственная Дума РФ приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине - в Западной Армении".
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. Гамлет Матевосян.
Большой адронный коллайдер в 2012 году будет работать на суммарной энергии в восемь тераэлектронвольт (или четыре тераэлектронвольта на пучок - на 0,5 тераэлектронвольта больше, чем в 2010 и 2011 годах), говорится в сообщении Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН).
Соответствующее решение было принято руководством организации по итогам ежегодной конференции в Шамони, которая прошла в начале февраля. Таким образом, ЦЕРН официально утвердил план работы, в соответствии с которым штатная работа в 2012 году начнется в марте и продлится до ноября, когда коллайдер будет остановлен на 20 месяцев для апгрейда до проектной суммарной энергии пучков в 14 тераэлектронвольт (ТэВ).
"Когда мы начали работу с БАК в 2010 году, мы выбрали наименьшую безопасную энергию пучка, которая позволяла нам решать поставленные задачи. Два хороших года работы и множество дополнительных измерений, сделанных в 2011 году, дают возможность сделать шаг в сторону повышения энергии и таким образом расширить охват экспериментов перед тем, как ускоритель будет остановлен на свой первый большой перерыв", - сказал директор по ускорителям и технологиям ЦЕРНа Стив Майерс (Steve Myers), чьи слова приводятся в сообщении.
Согласно планам ученых, интегральная светимость на двух главных детекторах коллайдера, ATLAS и CMS, в 2012 году достигнет 15 обратных фемтобарн, что в три раза выше уровня 2011 года.
Одна из главных целей экспериментов на БАК - поиск свидетельств существования бозона Хиггса - последнего недостающего элемента современной теории элементарных частиц, так называемой Стандартной модели. Эта гипотетическая частица отвечает за массы всех других элементарных частиц, однако теория не позволяет точно установить массу бозона Хиггса.
Как отмечается в сообщении, к настоящему времени ученые сузили диапазон масс, где может оказаться бозон Хиггса, до "окна" длиной в 16 гигаэлектронвольт на скорость света в квадрате (ГэВ/c2). Физики измеряют массы частиц в единицах энергии - электронвольтах - основываясь на формуле Эйнштейна, E=mc2. Сто ГэВ/c2 примерно в 107 раз больше массы протона.
В конце 2011 года коллаборации ATLAS и CMS представили результаты работы с детекторами, которые зафиксировали возможные признаки существования бозона Хиггса массой около 125 гигаэлектронвольт (ГэВ). Однако для окончательных выводов физикам требуется собрать примерно в четыре раза больше данных, что будет достигнуто, как ожидается, в 2012 году.
"К тому моменту, как БАК в конце этого года уйдет на свои первые длительные "каникулы", мы уже либо будем знать, что бозон Хиггса существует, либо исключим его существование в рамках Стандартной модели. Любой исход будет значительным прорывом в нашем изучении мира, который приблизит нас к пониманию того, как частицы получают массу, и станет началом новой главы в физике элементарных частиц", - отметил директор по исследованиям ЦЕРНа Серджио Бертолуччи (Sergio Bertolucci), которого цитирует пресс-служба организации.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























